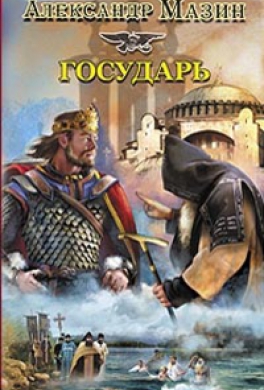
Автор: Александр Мазин
Жанр: Фантастика
Год: 2013 год
,,
Александр Мазин. Государь
Варяг — 7
Вступление от автора
Крещение Руси.
До недавнего времени это событие считалось началом отечественной культуры и государственности.
И вдруг всё изменилось.
Теперь отсчет велено начать с другой даты, по-своему тоже замечательной: призвания варягов во главе с Рюриком.
О причине подобной смены приоритетов догадаться несложно. Процессы, разорвавшие единство Советского Союза — прямого территориального наследника Великой Российской империи, привели к тому, что Киев теперь — вне территории России. Весьма обидно для тех, кто привык исчислять генеалогию от великого князя Владимира. Князя киевского. Однако для мировой истории этакий фортель — обычное дело. Императорам Восточной Римской империи, считающим себя (и не без оснований) законными наследниками великого Рима, тоже, полагаю, было неприятно видеть в Риме завоевателей-германцев. Но никому из них не пришло в голову перенести точку исторического отчета римской государственности в какое-нибудь другое, подвластное константинопольским императорам, место. Или начать отсчет римской истории, скажем, с падения Трои. А троянца Энея объявить первым настоящим римлянином.
Однако не объявили. Даже не пытались. Потому что речь шла не о родоначальнике (тут первенство Энея трудно оспаривать), а о рождении государства. Великой Римской империи. В делах же государственных, равно как и в прочих больших и малых играх, львиная (и заслуженная) доля славы достается не тем, кто ввел мяч в игру, позаботился о доставке его к воротам противника и даже не автору голевого паса, а тому, кто забил гол. И это справедливо. Промахнись он — и все предыдущие усилия бесполезны.
Но попробуем разобраться: действительно ли Владимир — тот, кто «забил» наш исторический «гол» и создал Государство? Он ведь далеко не первый в ряду славных киевских (Рюрик, кстати, единственное исключение) князей.
Олег, Игорь, Ольга, Святослав — все они жили раньше Владимира. И Русь при них уже была. Как социальная группа — точно. Зафиксировано независимыми источниками. И зависимыми тоже.
Так кто же из них, великих и славных? Если не Владимир, то кто и когда?
Что же говорит по этому поводу наша «базовая» «Повесть Временных Лет»?
«В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Вот почему с этой поры начнем и числа положим…»
Вполне определенно. 862 год. Правда, ничего не говорится о том, что это была за Русь и кто ее возглавлял. Но уже ясно, что не Рюрик.
Выходит, Русь была еще до призвания варягов. И представляла серьезную силу, если даже ромеи соизволили ее заметить. Но можно ли верить нашему главному отечественному хронисту?
Я далек от того, чтобы считать ПВЛ безупречным источником. Порой фантазия того, кого принято называть Нестором-летописцем, ничем не уступает оной у популярных ныне Фоменко с Носовским, пусть даже цели у древнего хрониста и были куда благороднее. Однако, если уж брать за основу наш главный и непогрешимый, если верить школьной программе, литературный источник — «Повесть Временных Лет» (а тема Рюрика исходит именно оттуда), то 852 год — самый подходящий.
Но — не подошел.
862-й показался перспективнее.
Почему?
Что говорит нам ПВЛ?
А она говорит: грабили предков будущих российских граждан все кому не лень.
«…Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей. А хазары брали с поля, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма…»
А в году 6370-м, а по нынешнему исчислению 862-м, случились события поистине замечательные.
«…Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть».
Но, к сожалению, недолго. К тому же году относится и другая запись:
«…и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене».
Вот так и возник в нашем историческом прошлом князь Рюрик.
Лично мне версия, предложенная ПВЛ, кажется сомнительной. Даже если забыть о той «руси», что, по мнению летописца громила византийцев десять лет назад, идея о том, что словенско-чудский племенной конгломерат признал себя неспособным к мирному сосуществованию, учредил общее (!) посольство, и не к кому-нибудь, а к своим исконным врагам, — предложением взять их, бестолковых, «под крышу», такая идея, на мой взгляд, абсолютно фантастична. Другое дело, если уже имеется некий лидер, окучивающий оные племена, но нуждающийся в сильном союзнике. Тогда — нормально. И выбор тоже правильный. Викинги — серьезные парни. Есть, кстати, и кандидат подходящий, Гостомысл. Но об этом — ниже. Вернемся к базовому варианту «Повести Временных Лет».
Так вот, согласно «главной» ПВЛ, в 862 году пришли (точнее, вернулись, потому что чуть раньше, но в этом же 862-м им дали коленкой под зад) на земли нынешнего Северо-Запада чужаки-иноплеменники варяги — и навели порядок. Создали государство русское, а впоследствии — Великую Российскую империю. И имя свое оному государству дали.
«И от тех варягов прозвалась Русская земля, — вопреки собственному утверждению, сообщает летописец, и особо уточняет: — Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене».
Но все же попробуем разобраться, каким именно было «бытие» тех, кто «были прежде». Определим, так сказать, уровень их «не знавшей порядка» организации.
Но сначала уточним, что есть государство. В нескольких словах.
Единый лидер, единый закон, единый язык, единая (основная) культура, единая финансовая система.
Было? Было! Не то чтобы очень большое, но — да. И столица у этого протогосударства имелась. Ладога. Которая была (и есть, отмечу) устроена существенно раньше 862 года. Насколько мне известно, именно Ладога занимала среди окрестных земель лидирующую роль. Даже собственную валюту изготовляла — стеклянные бусины (высокие технологии по тем временам), валюту достаточно «твердую», чтобы приобретать на нее реальные ценности.
Вот доказательство «первородства» Ладоги покруче, чем очередная фиктивная могила «киевского князя» или «княгини».
Но раз прототип государства существовал и до 862 года, то в чем историческая заслуга Рюрика сотоварищи? В том, что они заняли ключевые места (вытеснив коренное население) и замкнули на себя «финансовые» потоки?
Весьма интересный вариант «основателей» получается.
Если исходить из подобной логики, то историю, например, Британии следует начать с того момента, когда ее захватили норманы Вильгельма Завоевателя.
Раньше, мол, были тут всякие англы и саксы, а теперь править будут правильные парни скандинавского корня.
Но почему-то никто не стал переименовывать Великобританию в Великонормандию, а британцев до сих пор называют англосаксами.
Но почему-то никто не стал переименовывать Великобританию в Великонормандию, а британцев до сих пор называют англосаксами.
Многие мне возразят: неудачный пример. Вильгельм Британию завоевал в бою, разгромив английского короля Гарольда, причем напав на Гарольда сразу после того, как тот в тяжелейшей битве разбил другого претендента на Англию — короля Норвегии Харальда Сурового. А Рюрик получил новых данников вполне мирно — был приглашен союзом разодравшихся (чувствуете, какой оксюморон) племен или (куда более вероятно) был призван «на царство» местным правителем — князем Гостомыслом. Ну так давайте с него, Гостомысла, и начнем «исторический отсчет». Если уж он призвал Рюрика править, значит, было куда и чем. Чем плох «день Гостомысла»? А поскольку точной, с указанием года, датировки вокняжения оного Гостомысла не имеется, так давайте забудем о некоторых противоречиях, согласимся с Нестором и объявим «годом основания» 852-й. Почему бы и нет?
А потому, возразят мне, что очень многие серьезные ученые дяди считают летописного правителя Ладоги и предшественника Рюрика Гостомысла вымыслом. Ведь в самом древнем (12 века) списке летописи его нет, а появляется он лишь в документах 15 века. Кстати, «призывателем» варягов Гостомысла именуют в еще более поздних источниках.
Однако можно ли считать истинно верным самый старый документ только потому, что он — самый старый?
Между веком девятым и двенадцатым — триста лет. И лично присутствовать при событиях того времени не мог ни сам летописец, ни его предки минимум до десятого колена. А если допустить, что легендарный Нестор пользовался более древними документами, то почему не сделать аналогичное допущение и для хронистов века пятнадцатого?
А если предположить, что создатель ПВЛ, описывая приход варягов, опирался исключительно на сказания и предания, то и существование Рюрика следует взять под сомнение, не говоря уж о точности датировки.
История — занятная наука. Она как квантовая физика. Частенько вместо конкретного факта-точки мы имеем некий «вероятностный отрезок», в который укладываются все более-менее достоверные сведения. Наша задача — определить границы этого отрезка, а также изучить и проанализировать то, что оказалось внутри. Что мы только что и проделали. Изучили. Проанализировали. Сделали вывод: никаких исторически обоснованных «преимуществ» у года 862-го перед годом 852-м не имеется. Но, изучая прошлое, не следует забывать о настоящем, потому что оно, настоящее, не только результат прошлого, но и самый заинтересованный его… Как бы так помягче выразиться… Интерпретатор.
Итак, какой у нас нынче год? 2012-й.
Вот оно, заветное главное условие. Вот где, как выражаются кладоискатели, собака зарыта! Надо, чтобы дата для общероссийского праздника «основателя» получилась покруглее. Даешь 1150-летие Руси!
Нет, я не против праздников и юбилеев. Лишний раз вспомнить старину, пусть даже и чуток подправленную и приукрашенную, дело доброе.
Обидно другое. Год 2012-й пройдет (в общий абзац, предсказанный майя-поклонниками, я как-то не верю), а официальная передача лавров основателя русского государства Рюрику останется. Войдет в учебники и лекции университетских историков, которым звания и гранты дороже истины. И будет так. Запечатлеется навеки в сознании российского народа: именно варяг Рюрик создал государство Российское.
При всем моем уважении к скандинавским конунгам, к викингам, варягам и Рюрику в частности, создание государства — это не захват и «постановка на дань» коренных обитателей местности, где «прежде были словене». Да и взятие под контроль не слишком большой территории с городом Новгородом в центре никак нельзя считать основанием будущей великой империи. Тот же князь Олег — куда более масштабный устроитель.
Это ведь он прошел победоносно от Новгорода до Константинополя, попутно подмяв под колено и Киев. Именно Олег собрал и подчинил себе многочисленные племена, отметился в зарубежных хрониках и заключил договор с главным торговым партнером Древней Руси Византией, то есть заложил будущего государства основу.
Что ж, с этим я бы согласился. С «основой». Но не более.
Потому что одной силы для создания государства — недостаточно. Проходят десятилетия, а то и годы — и захватчики растворяются среди коренного населения и становятся одним из населяющих территорию племен.
Для создания настоящего государства нужен стержень. Культурный, духовный, единый для всех входящих в пределы державы племен. Четкий вектор, ведущий державу в будущее.
И создал его не Олег, и уж тем более не Рюрик, а тот, кому по праву принадлежит звание создателя русского государства. Тот, кого ради «одноразового» юбилея пытаются спрятать в тени его героического (кто спорит!) прадеда Рюрика. Великий князь киевский Владимир. Вот первый кесарь-государь русский!
Чем больше я изучаю личность Владимира, его историю, его деяния, тем яснее осознаю масштаб этого потрясающего человека.
Признаюсь, когда-то он казался мне другим. После свершений его отца Святослава, величайшего полководца, покорителя царств, Владимир выглядел князем так себе. Братоубийца, который сначала ставил кумиров, потом их жег. Человек, который, если верить ПВЛ, «продал» византийскому императору собственных воинов… Князь, наплодивший сыновей и не позаботившийся о нормальном престолонаследии. Неважный правитель, плохой отец (как-никак, против него восстал собственный сын Ярослав), единственным достоинством которого можно считать Крещение Руси…
Но достоинство ли это? Стоит сравнить его методы (описанные в различных вариантах летописей) с методами княгини Ольги, тоже христианки и весьма прогрессивной правительницы, и возникает вполне справедливое сомнение… Нет, не в том, что сделал Владимир… В том, как он это сделал.
А что было бы, если бы победил не Владимир, а Ярополк? Может, убитый брат справился бы с духовным обращением Руси не хуже, а лучше?
Нормальный вопрос для того, кто пытается понять исторические процессы, какое бы время он ни изучал.
Например, что было бы, если бы в противостоянии Петр Первый — царевна Софья победила последняя? И процесс европеизации России, процесс неизбежный и закономерный, проводился не склонным к паранойе и крайностям Петром, а этой неглупой женщиной, имевшей куда больше прав на престол, чем, например, будущая императрица Анна Иоанновна? И был бы тогда сей переход более успешным, продолжившимся в потомках, и уж точно куда менее кровавым…
Замечательный повод для писателя-альтернативщика поупражнять фантазию. Но писателю-историку подобные допуски делать не подобает.
Их много, критических временных точек, когда те или иные правители-победители поворачивали развитие своих государств и народов.
А если бы на их месте были другие, проигравшие…
Но они проиграли. Точка. Госпожа История, как очень мудро замечено, «не терпит сослагательного наклонения».
Зато ее можно переписать. И не в художественной литературе, а по-настоящему, «по-научному». В угоду политической конъюнктуре, ради очередного научного звания… Или нечаянно — из-за собственного невежества или острого желания, чтоб всё было именно так.
Никто не может заглянуть в прошлое.
Зато любой может, изучив факты, материалы, сопоставив достоверность тех или иных источников, прийти к определенным выводам… нет, не единственно верным (не точка — отрезок, а еще точнее — территория вероятности), но куда более точным и справедливым по отношению к ее, Истории, героям.
И изменить собственное мнение, если факты противоречат тому образу, который возник и устоялся в сознании…
Всё, что было сделано Владимиром Святославовичем со дня его вокняжения в Киеве, — сделано во благо будущего государства.
Даже разрушение церквей и устройство капищ есть не что иное, как попытка создания того самого «внутреннего стержня». А то, что случилось потом: превращение языческого князя Владимира во Владимира Святого — это Чудо. Знак Свыше. Знак Избранности. И царская корона, увенчавшая голову Владимира, женившегося на дочери и сестре императоров Византии Анне, которую прежде пытались сосватать и французский король, и германский император, — справедливая награда за то, что свершил сын великого Святослава. А те, кто упрекал и упрекает Владимира в жестокости… Им я предлагаю сравнить деяния его с методами насаждения Истинной Веры, которые использовали владыки-современники великого князя киевского. И вспомнить, что сила — самый действенный аргумент для тех, кто поклоняется идолам.
И еще. Я не рискнул вести повествование от имени главного ее героя, Владимира Святославовича. И вновь воспользовался приемом, какой использовал в начале своей «варяжской истории», — перенес в центр повествования моего «сквозного» героя — боярина Серегея. Мне так проще, потому что очень трудно, практически невозможно точно воссоздать образ мыслей человека десятого столетия, да еще такого, как Владимир Святой, отталкиваясь от единственного созданного им документа.
Так что говорить в этой книге будет не ее литературный герой, а подлинные дела героя исторического. А уж остальное вы, мои уважаемые читатели, домыслите сами.
Пролог
«Я, воевода великого князя Владимира Киевского, боярин Серегей, видел это. Я видел начало новой эпохи. Я видел, как страшный и грозный бог моего князя, бог его отца, деда и всех его пращуров, родовой бог всех варягов Перун Молниерукий, бог, с чьим именем на устах мы все сражались, убивали и умирали, бог, которым мы клялись, уплывал вниз по реке, навсегда покидая стольный град Киев.
Я видел, как слезы текли по щекам варягов. Слезы текли и по моим щекам. Я никогда не считал Перуна величайшим из богов, хотя моя вера в Спасителя не мешала мне чувствовать мощь варяжского бога.
Но не с Перуном прощался я в тот день.
Я прощался с эпохой.
Время старых богов истекло.
Так до?лжно.
Однако лучшие мои годы пришлись на это время, в которое забросила… нет, которое подарила мне Судьба. Или чудо. И в тот день, увлекаемый днепровским течением, уходил не только Перун. Сопровождаемое парой боевых лодий со знаменами великого князя, уходило славное время варяжского братства, время языческих празднеств, грешных и веселых… Вниз по зеленой днепровской воде уплывало оно к острову Хорса, чтобы встать там навсегда. Уже не богом, а всего лишь памятником былой славы ушедших в Ирий отцов и дедов. Там, на острове Хорса, погиб великий Святослав. Там должен был навсегда остаться и я, его воевода, но Бог и любовь сотворили еще одно чудо, и тогда, в последнем бою Святослава, погибло лишь мое прошлое: тот Сергей Духарев, который родился в двадцатом веке. А я, воевода Серегей, спафарий Сергий Иоанн, Сёрки-ярл из Гардарики, Зергиус, Серхи (и еще полдюжины имен с подобающими моему чину и положению приставками), этот я — жив, в свои шестьдесят девять лет еще достаточно силен, чтобы послать стрелу из степного лука и снести ударом клинка вражью голову. Это и есть я, а того, кто навсегда остался по ту сторону Кромки… или Вечности, его мне не жаль. Пусть он еще не родился, но его время иссякло. А мое, надеюсь, продолжится достаточно, чтоб увидеть, как мои внуки поведут на рать собственные дружины. И боевой клич «Русь!» станет не менее грозен и славен, чем клич «Перун!». Будут еще битвы, будет кровь и смерть… Но больше никто не умрет у черных от старой крови деревянных ног идола лишь потому, что таков был жребий. Ни один человек, свободный или холоп, мужчина или женщина, старик или ребенок, не расстанется с жизнью, чтобы Сварог, Дажьбог, Стрибог или иной кровожадный языческий демон не осерчал на своих почитателей.
Ни один человек, свободный или холоп, мужчина или женщина, старик или ребенок, не расстанется с жизнью, чтобы Сварог, Дажьбог, Стрибог или иной кровожадный языческий демон не осерчал на своих почитателей. Теперь на этой земле один Бог и одна Вера, и я не сомневаюсь, что мой князь будет тверд в ее насаждении, потому что знаю — он Верит. А если сын великого Святослава во что-то уверовал, остановить его может только смерть. А уж мы, его ближники, позаботимся о том, чтобы Владимира не постигла участь отца…»
Тут пальцы воеводы слишком сильно надавили на перо, и оно сломалось, оставив на пергаменте неряшливую кляксу.
Не было у боярина Серегея привычки писать самому. Для деловой переписки у него имелся писарь, владеющий латынью и прочими европейскими языками. Был еще один, каллиграф, — для писем в Византию… Но это было — личное. И писал боярин-воевода на русском языке, изрядно отличающемся от словенского письма, коим пользовались в Булгарии и в Моравии, пока Великое княжество Моравское не разодрали на куски угры, чехи и ляхи.
Воевода положил сломанное перо, пошевелил задубевшими с непривычки пальцами и задумался. О тех временах, когда великий князь Владимир Святославович, надежда и оплот тех, кто мазал кровью губы идолов, вступил на путь, который и привел его к Вере.
Часть первая. Канун новой жизни
Глава первая. Добрые и дурные вести
Киев. 985 год
Всю ночь вьюжило, но ближе к рассвету ветер утих, потеплело и повалил такой снег, что всё обширное подворье боярина-воеводы Серегея покрыло белой пуховиной. И вдруг снегопад прекратился, будто отрезало, выглянуло солнце, мир стал чудесен, будто детская сказка.
Воевода вышел на крыльцо с первым лучом и засмеялся от дивной красоты. Скинул нательную рубаху и прямо с крыльца сиганул в сугроб. Эх, славно!
Вывалявшись вдосталь, поднялся, огромный, красный, счастливый, облепленный белым снежком, вдохнул полной грудью и выдохнул варяжский боевой клич: жуткий вой, от которого вороны с карканьем сорвались с дерева и мишка-привратник, полуторогодовалый зверь, взятый вместо прежнего, старого, вскочил на ноги и недовольно заревел. Тут же залаяли псы на соседних подворьях, а свои сторожевые изумленно уставились на хозяина: чё это с ним?
Трудившаяся спозаранку дворня тоже отреагировала на клич. Два холопа, разбиравшие дровишки, аж присели, а взбегавшая на крыльцо девка так и обмерла. Чуть не уронила глечик с парным молоком…
Тут же из длинного дружинного дома, будто только и ждали, толкаясь и гогоча, вывалили гридни и отроки. Полуголые, здоровенные, счастливые от избытка силы… Кто-то немедленно взвыл по-варяжски, остальные поддержали…
На крыльце появилась очень недовольная боярыня Сладислава.
Но поглядела на счастливого мужа и тоже заулыбалась.
Однако на гридней прикрикнула:
— Что девок пугаете? Не в поле, чай!
Парни засмущались, вспомнили о почтении, поклонились в пояс: сначала боярыне, а только потом — батьке-воеводе.
Чем еще больше развеселили Сергея. Его всегда забавляло, что и челядь, и гридь боятся его малышки-жены более, чем своего батьки.
— Шел бы ты в дом, муж, — сказала Сладислава. — Не по годам тебе — голым на морозе.
— Да разве ж это мороз? — удивился Сергей. — Вот на Белозерье да, мороз! А здесь не зима, а баловство одно! Такой снег, Сладушка! Озимым — самое то! Радоваться надо!
И стремительным броском взлетел на крыльцо, подхватил жену и прыгнул в сугроб уже вместе с ней.
— Пусти, медведь! Сдурел?
Сергей понял, что Сладислава рассердилась всерьез, коли ругает его, да еще — при посторонних, тотчас поставил жену обратно на крыльцо, взялся отряхивать от снега…
— В дом иди… баловник! — От его покаянного вида гнев боярыни прошел, и она вдруг заулыбалась, потому что это счастье, когда с тобой рядом — муж, любимый, сильный… Живой.
Гридь, уже забыв о выговоре, вовсю возилась в снегу: боролись, кидались снежками… Большинство — с севера. Снежок им — в удовольствие. Холод — бодрит. Пробежаться босиком по пороше километров этак пять — запросто.
Воевода вошел в дом, где ему тут же заботливо накинули на плечи корзно-плащ, а Сладислава, не дожидаясь, пока другая девка перьевой метелочкой очистит ее одежду от снега, кликнула старшего над дворовыми и приказала строго: как только мужнины вои отбалуют — снег со двора прибрать дочиста. А то такая грязюка разведется…
Затем сошла с крылечка и двинулась в обычный утренний обход: по многочисленным дворовым постройкам — проверять, все ли трудятся, не завелись ли бездельники? Холопы — они такие. Чуть попустишь — и потом только поркой характер поправить можно.
Из флигеля, дружной парочкой, вышли почтенные седовласые мужи: Рёрех и Артак. Старый варяг, одноногий и одноглазый, холода не боялся ничуть — в одной нательной рубахе с богатой обережной вышивкой и в синих штанах из тонкой шерсти. Рёрех вежливо поклонился боярыне, и та ответила ему еще более низким поклоном. Пестуна своего мужа она почитала выше себя.
Закутанный в меха, но все равно зябнущий парс Артак кланяться в пояс не стал. Лишь кивнул:
— Доброе утро, госпожа моя!
— И тебе добра! Велю получше печь растопить. Вижу — мерзнешь.
— Благодарю за заботу! Старость не делает кровь горячее.
Рёрех хмыкнул. Он был намного старше парса, но на холод не жаловался. Ну да он и родился на севере, у Балтийского моря, а парс — на земле иранской, где снег бывает только высоко в горах.
— Стол накрыт в трапезной, окажите милость — откушайте, — ласково проговорила Сладислава.
— Благодарим сердечно, хозяюшка, — вежливо отозвались оба.
Варяг и парс нисколько не сомневались, что завтрак их ждет. Но им было в радость проявить уважение боярыне. Так же как и ей — им. Родные, чай. А после того, как втроем выхаживали воеводу от страшных ран, полученных на острове Хорса в последнем бою князя Святослава, меж ними, столь разными, установилась такая прочная связь, какая редко бывает и у кровных родичей.
Сладислава двинулась дальше, аккуратно, чтоб не зачерпнуть снег, приминая сугроб желтыми сафьяновым сапожками, отороченными мехом и украшенными жемчугом, а деды двинулись к крыльцу, чтобы составить компанию боярину-воеводе. Кроме них нынче — некому. Старший сын князь-воеводы Артём — в своей вотчине, Угличе, Богуслав — в дальнем походе, приемный сын Илья гостит у Стемида Большого, князя белозерского, а дочь Дана — в Тмуторокани, с мужем Йонахом.
Нельзя сказать, что большой дом князь-воеводы опустел. Что ни день — гости, свои и заморские. На подворье — тридцать три дружинника и вдвое больше челяди…
Да только завтракать хозяин любит с теми, кого почитает ровней. А таких дома четверо: Рёрех, Артак да сам воевода. Ну и Сладислава, конечно, хотя она давно уж позавтракала. Ее день начинается затемно.
— Воевода, к тебе ромей! — Отрок из ближней дружины, беспардонно ввалившийся в горницу, заставил Духарева отвлечься от письма. А письмо между тем было весьма интересное — от сына Богуслава.
Проделав далекий трехмесячный путь аж из самого Багдада, послание оказалось в руках боярина только вчера. Булгарский купец доставил. Однако сразу читать его Сергей не стал. Вскрыл, убедился, что написано сыном собственноручно, сообщил об этом жене — и отложил удовольствие на утро.
— Пусть ромей подождет, — недовольно проворчал воевода.
И вернулся к чтению. Письмо было почти сплошь позитивное. Богуслав сумел отыскать в Багдаде нужных людей, установил деловые контакты.
Вообще-то предполагалось, что Богуслав не поедет дальше Шемахи, но выяснилось, что почтенный булгарский лекарь и ученый Юсуф ибн Сулейман направляется именно в Багдад и там у него вроде бы неплохие связи.
И вернулся к чтению. Письмо было почти сплошь позитивное. Богуслав сумел отыскать в Багдаде нужных людей, установил деловые контакты.
Вообще-то предполагалось, что Богуслав не поедет дальше Шемахи, но выяснилось, что почтенный булгарский лекарь и ученый Юсуф ибн Сулейман направляется именно в Багдад и там у него вроде бы неплохие связи. Поразмыслив, Богуслав решил, что стоит продолжить путь. И не ошибся. Булгарский ученый действительно пользовался в Багдаде известностью. Богуслав арендовал дом, в котором поселился вместе с Юсуфом, — и опять не прогадал. О русах в столице халифата тоже знали: торговали уж лет сто, не меньше. Но инициатива всегда исходила от арабов, и арабские купцы были не склонны пускать конкурентов в собственный огород. Однако не купцы были главными в Багдаде. Даже те из них, кто отважно пускался в столь далекий путь.
Уже на третий день после того, как Богуслав поселился в Багдаде, его дом посетили несколько ученых мужей весьма серьезного уровня. Беседовали на арабском, но Богуслав многое понимал, потому что уже успел прилично овладеть и этим языком. Равно как и Лучинка. Они очень старались, ведь арабский был «базовым» научным языком Востока. Примерно как латынь — на Западе.
Само собой, Лучинку к непосредственной беседе не допустили. Не те здесь законы. Зато разрешили побыть за занавеской и даже ответить на пару-тройку вопросов.
Следующее научное сборище прошло в расширенном составе…
Так и повелось. Богуслав готовил угощение, а ученые мужи вкушали яства, потребляли шербет и обменивались мудростью. Расспрашивали и Богуслава. О жизни и нравах русов и варягов в Багдаде истории ходили самые экзотические. Еще ученых мужей (а по совместительству — советников власть имущих) весьма интересовал пришедший в упадок Хузарский хаканат. Кое-кто в арабском мире был совсем не прочь прибрать к рукам богатые и выгодно расположенные земли. Впрочем, Богуслав об этом интересе ведал и раньше. Еще он понимал: у арабов — получится. Отец в свое время объяснил и обосновал: русам весь хаканат не удержать. Хорошо, если удастся сохранить за собой хотя бы треть. По-любому, Каспий для Руси потерян. Владимир — не Святослав.
Богуслав на вопросы отвечал охотно и почти честно. В итоге заручился доверием и поддержкой весомых в «правительстве» людей. И получил «добро» на основание собственного представительства в Багдаде. С серьезными таможенными льготами.
Само собой — не бесплатно. Золотишка занести пришлось изрядно. И наличкой, и «чеками». Но дело сделано.
Пока «подворье» торгового дома «Духарев и семья» пришлось укомплектовать почти исключительно местным контингентом. Богуслав оставил для надзора парочку своих (больше и не было), выкупил дом, в котором жил всё это время, и отдал часть его в распоряжение Юсуфа ибн Сулеймана. Тот был весьма признателен и пообещал присмотреть за тем, чтобы русов не обижали. Авторитет Юсуфа в Багдаде весьма приподнялся, когда он вылечил одну из жен халифа от какой-то застарелой болячки.
«Готовь, батя, большой караван, — писал сын. — Грамоты нужные и подорожные я привезу».
В обратный путь Богуслав тоже собирался не порожняком, а с неслабым обозом.
Об этом Духарев догадался, прочитав о том, что сын намерен нанять дополнительную охрану из местных. Если уж самого Богуслава и одиннадцати дружинников для обороны недостаточно, значит, товар они повезут недешевый.
Ответ писать смысла не было. Да и куда? Сейчас Богуслав и его спутники уже в пути и, скорее всего, уже движутся по берегу Каспийского, вернее Хвалынского моря.
Сергей свернул письмо и уложил в футляр.
Молодец, сын! Конечно, Богуслав не с пустыми руками шел. Были деньги, была кое-какая информация о полезных людях в халифате, почерпнутая из «библиотеки» хузарского хакана Йосыпа, доставшейся Сергею как доля добычи во время захвата Итиля.
Тем не менее задача была — труднейшая. Переговоры на чужой земле — это не мечом рубать. Тут соображать надо.
Вот и ладно. А теперь можно и поглядеть, что за ромей пожаловал на боярское подворье с утра пораньше.
Ромей, которого Сергей заставил дожидаться в «предбаннике», оказался не простым. Аж целым главой киевской византийской общины.
Звали его Кирилл Спат. Человек формально торговый, но, судя по некоторым деталям, с немалым военным опытом. Ну и шпион, разумеется. Вернее, резидент.
К Духареву он проявил почтение. Поклонился низенько: младший — старшему.
Не потому, что Сергей — воевода, боярин и ближник княжий, — для природного ромея все русы: хоть боярин, хоть смерд — дикие скифы. Не боярину Серегею кланялся ромей — спафарию Сергию. Спафарий — серьезный титул в империи[1]. С кучей прав и даже ежегодным пожалованием от двора. Хотя пожалование — тьфу! — в сравнении с теми бабками, которые стоил сам титул.
Первым его прикупил Мышата. Ему обошлось дешевле, потому что он и во дворец был вхож, и весьма полезным считался. Даже с самим паракимоменом[2] «премьер-министром» Василием, всевластным константинопольским евнухом, был общения удостоен. Однако титул спафария по наследству не передается даже сыновьям. В отличие от имущества. Которое хоть и передается (после уплаты соответствующего налога), но уже без добытых прежним владельцем налоговых льгот и прочих привилегий. Так что и с имуществом (и немалым) сразу возникли бы проблемы, не купи Сергей титул. Это как в России в бандитские времена: купил автомобиль «не по чину», придут конкретные пацаны и отнимут. Так что — пришлось. Зато спафарию Сергию «дом на набережной» в Константинополе, изрядное поместье на морском побережье, сады, виноградники, оливковые рощи и прочие материальные ценности — в самый раз.
В поместье Духарев старался без нужды не задерживаться. Мраморные колонны, мраморная ванна, полы с подогревом, банька с тремя бассейнами, горячая вода, само собой… А уж кушанья какие изысканные!
Слишком большое искушение. Роскошь такая штука: только привыкни — и попал. И за меньшее люди от родных пажитей уходили.
В трудные времена, когда Владимир только-только вокняжился в Киеве, была у Сергея такая мысль… Но — отбросил. Во-первых, есть такое слово — Родина. Во-вторых, здесь, в Киеве, Сергей — величина. Воевода Святослава, боярин Ярополка, отец славных сыновей и богач изрядный. Его подворье на Горе — втрое против соседних.
Пожелай кто худое ему сделать — кровью умоется. Да и не рискнет никто.
А что в Византии? Там любой человек, хоть благородный патрикий, хоть доместик схол[3] по произволу императора в любой момент может оказаться в темнице. Был бы повод. Излишнее на взгляд Автократора богатство, к примеру.
Опять-таки интриги, омерзительные евнухи, унизительные церемониалы… Византия, одним словом.
Однако сейчас уважаемый представитель величайшей из империй десятого века Кирилл Спат стоял перед воеводой и, судя по роже, явно чего-то хотел.
Однако воспитанный человек никогда не станет так сразу говорить о деле. Потому сначала Сергей пригласил его к столу, велел подать вина, выдержанного, булгарского, к вину свежего сыра, орешков на меду. Справился: не обижают ли ромеев в Киеве, удачна ли торговля?
Кирилл отвечал степенно, солидно и на языке русов, которым владел в совершенстве. Сам тоже интересовался: здоровьем, семьей, делами…
Лишь через полчаса, выкушав пол-литра вина, перешел к делу.
— Господин мой светлейший Сергий, известно ли тебе, что сюда направляется личный посол Богопочитаемого Автократора нашего Василия Второго? — поинтересовался он по-ромейски[4].
Вот ведь сюрприз!
— И какова же причина этого посольства в столь неурочное время? — задал он встречный вопрос.
Время и впрямь выбрано не самое лучшее. Зима.
Это для северян мороз — друг. Болота замерзают, реки встают. Садись на санки да погоняй. А что холодно, так и против холода есть средства.
А вот теплолюбивым ромеям добрый морозец — ворог лютый.
— Причина мне неизвестна, — уклонился от ответа ромей.
Духарев поглядел на него внимательно… Знает, сучонок. Точно, знает. Ну да и Сергей догадывается. Если что и может экстренно понадобится василевсу от русов, так это сами русы. Бронные и оружные. И почему он ко мне прискакал, а не к князю — тоже ясно. Поможет князь — будет посол князю должен. А Сергий — спафарий. Помогать императорскому посланцу — его долг перед императором. Но это там, в империи, — долг. А здесь… всё сложно.
Так что же там, в Византии, приключилось? Последняя информация, которую ему принесла в клювике разведка: поднявший восстание против императора Василия Второго Склир вдребезги разбит полководцем императора Вардом Фокой. Племянником, кстати, убитого Цимисхием императора Никифора.
Императоров-Автократоров Византия меняла как модница — перчатки. Удачливый полководец Никифор Фока прикончил императора Романа Второго. Никифора, в свою очередь, отправил к предкам еще более удачливый полководец Иоанн Цимисхий. Нынешний император Василий Второй никого собственноручно не убивал, однако можно предположить, что Иоанн Цимисхий тоже умер не от болезни, а от пищевой добавки, несовместимой с жизнью. Кто заказчик — очевидно. Тот же внебрачный сын еще одного императора-узурпатора Романа Лакапина, всевластный паракимомен Василий, которого Цимисхий намеревался отправить в отставку. Сам стать императором паракимомен не мог (евнух потому что), но неформальную власть удержать сумел.
После смерти Цимисхия на вершине оказались сыновья Романа Второго Василий и его братец Константин, которые хоть и числились при Иоанне Цимисхии соправителями, но реальной власти имели — шиш с маком.
Василий был старшим, поэтому трон и пурпурные сапоги достались именно ему… И он немедленно позаботился о том, чтобы братец Константин оставался вне Большой Игры. Хорошо хоть не убил.
Однако авторитет и военный опыт молодого Автократора были — так себе. Чем и воспользовался крупный имперский полководец и доместик схол Склир, тоже примеривший пурпурную обувку и вознамерившийся прибрать империю к рукам.
Чтобы надеть на зверя намордник, императору (с подачи всё того же паракимомена Василия) пришлось вернуть ко двору и оснастить полномочиями другого героя-полководца. Варду Фоку.
Племянник убитого Цимисхием Никифора Фоки всё сделал как надо. Насколько было известно Сергею, Склир был разбит и смылся, кажется, в Ассирию. А Варда Фока был отмечен милостью императора и всячески облизан… Но, видимо, ненадолго. На хрена Василию такой конкурент? Надо полагать, его опять загнали в провинцию. Или хуже того… Впрочем, что тут гадать? И так ясно, что в империи — мятеж. А детали — выяснятся.
— Чем же я могу помочь посланцу самого Августа? — поинтересовался Сергей.
— Вестник прибежал, — скорбно произнес ромей. — Хузарин из тех, кого посольство наняло проводниками в Херсоне. — Беда случилась! Выручай, светлейший муж! Твоя помощь не будет забыта!
Глава вторая, в которой воевода Серегей отправляется в зимний марш-бросок
Вышеупомянутый гонец оказался не хузарином, а ясом.
— Городок Чить, — сообщил он. — Там их и осадили.
— Знаю такой, — кивнул Духарев. — Это за Родней.
По уму, именно в Родню надо было засылать за помощью, а не в Киев. Пусть там и перемерла половина народа во время «отсидки» Ярополка, но гарнизон — новый. Сотни две.
Значит, Чить… Сергей прикинул: от Киева не так уж далеко, километров сто пятьдесят.
Сотни две.
Значит, Чить… Сергей прикинул: от Киева не так уж далеко, километров сто пятьдесят. Летом добежать — пустяки. Зимой — тоже, если дорога накатана. Эх, зря он утром снежку радовался.
Однако прогуляться стоит. И посла выручить, и дружину размять. Сколько на тренировках гридь не гоняй, а настоящего боя учебный не заменит. Опять-таки отроки-волчата должны крови попробовать. Почувствовать, что не зря они стрелами по мишеням били да мечами намахивались так, что за ужином чашку до рта не донести. Вот, когда брызнет из-под клинка настоящая вражья кровь и гадина, пришедшая грабить твою землю, убивать и насиловать, захлебнется криком и хряпнется оземь, тогда и понимаешь — не зря! Есть силушка. И можешь ты платить отныне за обиду железом. Сполна. Сдачи не требуется. И лучше всего нарабатывать боевой опыт не в настоящих битвах, где и враг непременно свою долю крови возьмет, а вот в таких, небольших стычках, где и перевес на твоей стороне, и старшим есть время за младшими присмотреть. Бывают, конечно, и в малых схватках потери, но тут уж — как Бог положит. Иначе нельзя, к сожалению.
— Поторопись, воевода! — вмешался ромей. — Там тысячи пацинаков!
— Тысячи? — Сергей скептически приподнял бровь и поглядел на яса.
— Сотен пять наберется, — уточнил яс, молодой парень — на вид лет семнадцать-восемнадцать. Но уже — воин.
— А в городке?
— Ромеев около сотни. Стрелков при них мало: дюжины три.
— Чьи? — поинтересовался Сергей.
— Да наши.
Воевода кивнул. Ясы луками владели неплохо. И понятно, почему гонец не включил в счет местный гарнизон. Там не настоящие вои — ополчение. Их задача в случае опасности: запереться, подать сигнал и ждать подмоги.
Близко, однако, копченые подобрались. Обнаглели. Или — оголодали?
— Как сам ушел?
— Метель. Степняки отошли, по юртам попрятались. Я и проскользнул.
— Что ж в ближний город не пошел, в Родню? — спросил Духарев.
Яс смущенно потупился. Мимо проскочил. Не удивительно. Ночь, метель…
До Киева яс шел двуоконь. Шесть дней. Вчера — снова метель.
— Лошадки мои пали, — сообщил он и вопросительно поглядел на ромея. Мол, компенсируешь?
Кирилл Спат, не раздумывая, полез в кошель. Высыпал горку серебра, подвинул к касогу. Нормально одарил. Две степные лошадки столько не стоят.
Сергей почувствовал к ромею некоторую симпатию. Обычно византийцы довольно прижимисты.
— Иди отдыхай, — бросил он ясу. — Скажи: боярин велел накормить и положить на конюшне. Там сено и тепло.
Яс расплылся в улыбке. Нелегко ему пришлось, но — молодец. Выдюжил. К себе, что ли, взять?
— До вечера, — уточнил Духарев, подпустив суровости во взгляд. — С нами пойдешь. Погляжу, каков ты в деле.
Не сказать что яса перспектива порадовала. Но — кивнул. Правильный парень. Толк будет. Если не убьют.
А ромей забеспокоился. Быстрей бы надо! Не ровен час, доберутся печенеги до императорского посланца…
— Спешки нет, — постарался успокоить Кирилла воевода. — Городок Чить я знаю. Стены там — приличные, сходу не влезть. А если еще водичкой подходы облить, чтоб заледенело, так и вовсе не подобраться. Народу внутри достаточно, еды хватает. Можешь помолиться, чтоб непогода случилась. В снегопад из луков особо не постреляешь.
И задумался.
Как идти-то? Когда коням снег по грудь — особо не разгонишься. Может, на лыжах? У него в дружине северян много. Эти — умеют. Однако в броне на лыжах — еще то удовольствие. Русы всё же не нурманы. Да еще припас и шатры надо взять — вдруг завьюжит? Нет, лыжи отпадают.
Русы всё же не нурманы. Да еще припас и шатры надо взять — вдруг завьюжит? Нет, лыжи отпадают. Хотя… А если часть дружины на лыжах впереди пойдет, умнёт дорожку? Неплохая идея! Коней надо из печенежских взять. Эти и в снегу увереннее, и травку копытить умеют. Решено!
Воевода кивнул ромею, встал, вышел на крылечко, гаркнул:
— Развай!
Тот появился вмиг. Будто только и ждал, пока кликнут. А может, и ждал. Мозги у парня на месте. Все остальное — тоже. Сам — потомственный варяг из уцелевших полоцких, тех, кто с Устахом ушел. Духарев его переманил. И сразу сделал сотником над «дворовой» гридью. Не пожалел.
Сергей поставил задачу — Развай расцвел. Трех-четырехдневный переход по снежной степи его не смущал. Битва!
— Поднимешь сотню хузар и сотню Корня. У него кривичских — половина. Пусть лыжи возьмут. И твои — тоже. Будут снег уминать, чтоб лошадей не заморить. Лошадей взять — степных. По три — на воя. Припаса — на пять дней. Шатры — тоже. На-ка! — Сергей сунул Разваю тугой кошелек. — Да поторопи всех! Если погода позволит — выйдем, как только соберемся. Не распогодится, тогда — завтра поутру.
— А кто — старшим? — поинтересовался Рузвай. Похоже, надеялся, что его поставят.
— Сам пойду, — огорчил варяга воевода.
Дело ответственное. Да и потолковать с ромейским послом очень хотелось. Что там у них творится, в империи? Не повредило бы бизнесу…
* * *К вечеру погода вновь испортилась, и Духарев отложил выход на утро. Пусть парни поспят в тепле.
Утром опять повалил снег, но тут уж ничего не поделаешь.
Ехать решили по Днепру. На реке снегу было поменьше, чем на тракте. Лошадкам — по брюхо.
Двигались достаточно быстро. Впереди — лыжники. Они же вели на поводу заводных, которые прокладывали дорогу. Передовым приходилось трудновато, зато уже вторая сотня шла как по ровному — тысяча с лишком копыт утаптывали снег очень качественно. Морозец был терпимый. Градусов десять.
Бодренько шли. По прикидкам Духарева — километра четыре в час делали. Ближе к полудню Сергей решил разделить свое войско. Первопроходцам скомандовал «обед!», аутсайдерам — «продолжать движение!».
За день одолели километров тридцать. Неплохой результат. Лагерем встали на берегу. Расседлались, поставили шатры, разожгли костры. Горячее зимой просто необходимо. Степные кони обошлись подснежной прошлогодней травкой. Духарев велел взять с собой по торбе овса на каждого, но пока — прибережем.
Переночевали без проблем. Так близко от Киева да еще зимой печенеги не шлялись. Собственно, им и у Чити быть не положено. Тем более что с главными родами вроде как у Владимира — договор. Интересно, какой орды копченые? Кому летом бошки рубить?
Утром воинству Духарева несказанно повезло. Навстречу вышел санный поезд из Родни.
Старший купец, знакомый, поздоровался с воеводой с почтением. Рассказал, что у Родни видели печенежские разъезды. Вроде бы цапон…
— Не побоялся ехать? — спросил Духарев.
— Не без того, боярин-воевода, — признал купец. — Но торговать-то надо. Да и сторожа у меня добрая — от малого отряда отобьемся, а большому откуда здесь взяться?
Духарев не стал его огорчать информацией о том, что сравнительно недалеко безобразничает аж три сотни копченых. Сейчас она торговому гостю ни к чему. Дальше к Киеву дорога свободна, а когда возвращаться будет, от тех степняков останутся рожки да ножки. Во всяком случае, Сергей на это надеялся.
А если яс ошибся в счете или к копченым подошла подмога, то можно взять воев из Родни. У Духарева, княжьего воеводы, было такое право.
После санного поезда дорога гридням легла — скатертью.
После санного поезда дорога гридням легла — скатертью. Ускорились едва ли не втрое. За день отмахали полпути. Правда, на следующий день опять пришлось утаптывать снежок, но всё же не целину, а порошу сантиметров в тридцать.
На закате увидели Родню, но подошли уже затемно. Ворота успели затворить, и стража поначалу пускать в городок отказалась. Мало ли… Но Духарев рявкнул, назвался, подсветив лицо факелом, и ворота открыли. Встречал сам наместник — из княжьих нурманов. Принял по чести: гридь разместили под крышей, лошадок — тоже. Накормили всех. Ныне не времена Ярополкова сидения. Припасов хватало.
Известие о копченых наместника не испугало. Еще бы! За такими-то стенами…
Зато он тут же предложил усилить отряд воеводы двумя сотнями из собственного гарнизона. Мол, город ополчение и без дружины удержит.
Ну да. Нурман и есть нурман. Ему лишь бы подраться да трофеи добыть. А зимой — ску-учно!
Духарев от помощи отказался. Пока. Сначала надо на врага глянуть.
* * *Глянули. Вернувшиеся разведчики-хузары сообщили: копченых действительно три большие сотни. То есть человек четыреста. Судя по всему — цапон. Союзнички, блин. Обложили городок и попутно пасут реку и зимник: кого поймают — грабят и режут. Разведчики сами видели, как перехватили караван из семи саней. Вокруг города все время вертится не меньше двух сотен печенегов. Наглые. Бьют прямо с седел всех, кто высунется над заборолом. Ответного огня не боятся. Да его и нет по факту. На глазах у разведчиков сбили со стены такого вот храброго стрелка. И еще одного бойца сбили, когда тот попытался ведерко с водой на частокол опорожнить. Хоть и прикрывали его большими щитами, а не уберегли. Он только высунулся, а в него — сразу три стрелы.
Но защитники на стенах есть: виднеются шлемы и края щитов. А цапон явно готовят штурм. Видели разведчики свежеизготовленные лестницы. И таран, вполне подходящий, чтобы развалить не слишком крепкие ворота. Не подойди Духарев — был бы у них верный шанс.
Итак, какие могут быть варианты? Думай, Сергей Иваныч, думай!
Численное превосходство врага некритично, хотя может оказаться значимым при лобовом наезде. Бойцов терять не хочется. Каждый — дорог.
Значит — хитрость. Но — какая?
Для начала надо понять врага. Понять, зачем копченые навалились на городок.
Итак, вариант первый: их цель — ромейское посольство. Ромеи — это деньги. Золото, которое византийцы частенько привозят своим потенциальным недругам, чтобы те приплющили других недругов. Еще — имущество. Подарки, которые непременно везут послы. А также возможность слупить выкуп за ценных пленников.
Но есть нестыковка.
От зимних кочевий цапон до Чити — хрен знает сколько километров. Риск же целевой экспедиции — огромный. Услышат в Киеве — прилетят, перехватят и стопчут.
Значит — случайность?
Духарев в случайности не верил.
Возможно, кто-то слил информацию о посольстве… Зачем?
Возможно, византийский караван засекли еще в низовьях, проследили до городка… Тогда непонятно, почему ждали. В чистом поле ромеев прихватить куда как сподручнее.
А если не ромеи — главная цель, тогда — кто? Стоит ли крохотный городок Чить таких усилий? Есть мероприятия куда выгодней.
Еще вариант: молодой отморозок. Какой-нибудь подханок, решивший стяжать великую славу.
Однако, по словам разведчиков, копченые выглядели бывалыми воинами. Такие в малодоходную авантюру не ввяжутся.
«Пожалуй, надо посоветоваться», — решил Сергей.
Не то чтобы он надеялся, что сотники что-то подскажут (опыта у воеводы — вчетверо больше, чем у них всех разом), но в процессе обсуждения иной раз приходят правильные мысли.
Сотники Развай, Корень и хузарин Бурах появились в воеводином шатре через пару минут.
Сергей изложил ситуацию. Поинтересовался, какие мысли?
— Бить их надо! — азартно воскликнул Развай.
Бурах одобрительно кивнул. А вот Корень, степенный спокойный головорез из кривичских, не согласился:
— Побить-то мы их — побьем, если не разбегутся…
— Разбегутся — догоним! — перебил Развай.
Корень неодобрительно поглядел на варяга: мол, неча старших перебивать, потом так же весомо продолжил:
— Догоним, но цену заплатим немалую. Брони у нас — лучше, так что, сойдись мы строй на строй, всех бы положили. А в поле к себе копченые нас не подпустят. Многие лягут. А за что?
Вопрос был — к воеводе. И Сергей ответил:
— Там, в Чити, — посольство ромейское к князю.
— Так, может, князю и послать? Городок — его, значит, и оборонять — ему.
— Ты испугался, что ли, Корень? — нехорошо прищурился Развай.
— Ты еще на мамку писал, когда я последний раз пугался, — отрезал кривич. — А воев своих губить бессмысленно не хочу. Они мне все — как сыновья! Могли б копченые взять Чить — уже бы взяли. Посыл до князя по зимнику накатанному за два дня добежит. День князь сбираться будет, через четыре — придет. Седьмицу еще продержатся.
— Так, — сказал Духарев, опережая готового вспыхнуть Развая. — Что думаете, мне понятно. Непонятно — зачем копченые тут объявились? Не верю, что ромеев поджидали.
— Это точно, батька, — поддержал Развай. — Тогда степняки их еще бы раньше взяли, в поле.
— Может, не успели? — предположил Корень.
— Кто, копченые? Ты, сотник, будто до сих пор в своих лесах сидишь. Ромеи в Дикой Степи — как червяк на камне. Клювиком щелк — и нету! А что сюда прискакали, так они ж наглые, копченые. Вон караван ограбили, да не один. И Чить бы они взяли, кабы там ромеев не было. Сколько в Чити воев добрых? Пятеро, шестеро? Да и те — старше тебя, Корень. А остальные — кто? Пахари! Они, с какой стороны у копья железко, не всегда знают.
«А ведь верная мысль», — подумал Духарев.
Но тут вмешался Бурах:
— Я бы, батька, не разговоры говорил, а у самих копченых спросил, — произнес он негромко, с характерным хузарским акцентом, так и не выветрившимся за три года служения Духареву. — Они-то знают.
«Молодец!» — мысленно похвалил Сергей Иванович, который и сам решил уже, что надо брать «языка». Дело, требующее умения, но не такое уж сложное, если враг даже не догадывается о твоем присутствии у него за спиной.
Кто предложил, тому и честь. За «языком» отправились хузары. Дождались ночи и украли одного из пастухов, что сторожили табун.
«Язык» был качественный. Матерый, злой. Сразу говорить, естественно, отказался. Пришлось варягам с ним часок-другой поработать.
Духарева позвали, когда пленник был готов к диалогу. Обработали его качественно, но не радикально. Глаза, пальцы — все на месте. Пара костей переломана, так и это тоже заживет при надлежащем уходе.
— Я ему жизнь обещал, — сказал Развай. — Еще денег немного и в Киеве к делу пристроить.
Духарев поморщился. Не любил печенегов. Так бы всех и передавил, а женщин тем же касогам раздал. Или продал. Женщины у копченых работящие.
— Это я обещал, — напомнил Развай. — А ты-то нет.
— Ты — мой человек, и я за твои слова отвечаю, — с легким раздражением произнес Духарев.
— Иначе — никак. — Развай пожал плечами. — Крепкий. Сдох бы, а говорить ничего не стал.
Сдох бы, а говорить ничего не стал.
— У нурманов небось заговорил бы.
— Может, и так. Нурманы — жилы тянуть мастаки, — не стал спорить Развай. — Послать в Родню за нурманом?
Духарев мотнул головой. И присел на корточки напротив обессилевшего от пыток печенега.
— Давай, цапон, говори, что знаешь. Скажешь что важное — будет, как сотник сказал. Нет — волкам скормлю.
Цапон сказал. И картина сразу стала ясна до прозрачности. Идея у копченых была лихая, но перспективная. Захватить Чить, но действо это не афишировать. Прикинуться честными читянами и грабить проезжающих мимо торговых гостей. Не всех, конечно, чтоб не заподозрили нехорошего. Выборочно. При этом сами копченые славно устроились бы в захваченном городе, сладко спали, вкусно кушали, пользовали трофейных женщин и горя не знали. Всё что требовалось: время от времени, желательно под снегопад, чтоб следов не осталось, выезжать из Чити и демонстрировать наличие печенегов где-нибудь километрах в тридцати от базы. Это чтоб было на кого списать пропавшие караваны.
Отличная идея! Духарев сразу понял, что ее автор — не копченый. Слишком уж нетрадиционно для печенега загонять себя в ловушку (а именно так большинство степняков воспринимали городские стены) и сидеть там чуть ли не всю зиму.
Поскольку задействованы были именно цапон, Духарев с большой долей вероятности предположил, что задумка была — беглого Ярополкова воеводы Варяжки.
Нет, этого человека определенно надо возвращать под крыло киевского князя! Такими воеводами не разбрасываются.
План печенегов провалился из-за ромеев. К Чити и византийцы, и копченые поспели почти одновременно. Но разведка печенегов ромеев загодя не обнаружила (у нее были другие задачи), а наемники ромеев копченых как раз углядели. И немедленно решили, что степняки пожаловали по их души.
Побросав все, что не представляло особой ценности, то есть пяток повозок и всех полузаморенных волов, византийцы устремились к спасительным стенам. Опередив копченых буквально на полчаса, они успели проскочить в городок. Причем ворота закрывали уже под градом печенежских стрел.
С того момента у нападения и обороны сложился паритет. Но копченые сложа руки не сидели. Во-первых, грабили. Во-вторых, нарубили древесины в ближайшей роще и приготовили дюжин пять небольших (частокол-то невысок) лестниц да сработали таран. Причем даже не своими руками, а невольничьим трудом захваченных в плен купецких людей, так что изделия вышли добротными. То есть вариант, предложенный Корнем, сразу отпадал. Не сегодня завтра копченые пойдут на штурм, и, что из этого выйдет, одному Богу известно.
Зато у Духарева появилась перспективная идея…
Глава третья. Печенежские пляски
— Толково! — отметил Развай, наблюдая за действиями печенегов.
Копченые шли на штурм под качественным прикрытием стрелков. Стоило кому-нибудь высунуться — и стрела шла прямо в цель. Так что и таран к воротам подтащили, и лестницы приставили. Длина последних тоже была подобрана грамотно: на пару пядей ниже края стены. Чтоб оттолкнуть, надо выглянуть. А это чревато. Лезли печенеги сразу со всех сторон. Сотни две навскидку. И еще столько же крутили карусель вокруг стен.
— Как думаешь, воевода, возьмут городок?
Сергеева охранная гридь, вместе с лошадьми, залегла в сугробах за пригорком. И только Духарев и Развай вползли наверх — наблюдать. Хотя особой осторожности сейчас не требовалось: копченых полностью увлек процесс.
В этом и состояла идея Духарева. Обождать, пока печенеги начнут штурм, а когда те увязнут — ударить с тыла.
Сложности были: например, полная открытость городка. Чить стояла на взгорке метрах в ста от замерзшей реки. Лед напротив городка изрядно торосился. Это потому что — пороги. Хорошо стоял городок. Нужное место прикрывал, и подступить к нему скрытно было непросто.
Ближайшая роща, та, где рубились лестницы и таран, отстояла почти на километр. Там сейчас лежали неприбранные трупы зарезанных печенегами пленных.
Духарев не стал их хоронить. Вдруг копченые вернутся?
По той же причине базу организовали еще дальше, за грядой старых курганов. Там и травка под снегом оставалась — лошадям подкормиться. Однако с утра, когда стало ясно, что штурм сегодня, коней побаловали овсом. Даже степные лошадки после него куда бодрей скачут.
На позиции выходили по возможности скрытно: старательно используя рельеф местности. Тоже разделились. Духарев со своими «охранными» заходил сбоку, с востока, хузары — от рощи, а сотня Корня, сделав широкий круг, со стороны Днепра, прячась за торосами. Задачи у всех тоже были разные. Корню — ждать, пока печенеги вышибут ворота.
За этим дело не станет. Ворота — так себе. И само собой — никаких привратных башен, следовательно, для защиты надо высунуться наружу. Отдельные храбрецы и высовывались. Сбрасывали всякие тяжелые предметы, лили кипяток… Но почти неприцельно. Встал, метнул — и обратно. Пока стрела не прилетела. Урона от такой обороны было — чуть.
Выбив ворота, печенеги ломанутся внутрь, сгрудятся толпой… Тут-то латная Корнева конница в эту толпу и ударит.
Бойцам Развая предназначалось заняться теми, кто вокруг стен. Пройти через печенежский лагерь, зачистить и галопом — к стенам. А там рубить всех в капусту.
А хузары будут работать дистанционно. Лупить тех, кто подставится. Заодно проследят, чтоб никто не сбежал.
Хороший план. Сергей любил, когда вот так — стремительно и внезапно. Как Святослав.
Первые степняки добрались до зубцов частокола и полезли внутрь.
Тут у них и начались сложности. Ромеи в пешем строю очень даже неплохи. Встретили их в щиты, первую партию, надо полагать, порубили в мясо.
Но печенеги лезли и лезли, а снизу их очень качественно прикрывали стрелки, так что минут через пять в одном месте копченым удалось закрепиться. Защитников всё же было маловато.
Наконец у ворот раздался победный вопль. Вышибли створку.
Сразу целая толпа копченых ринулась в прореху. Как Духарев и предполагал.
Но праздник жизни у них был недолог: со стороны реки уже неслась, вспахивая снег, Корнева сотня.
— Пора и нам, — сказал Духарев, поднимаясь.
— Гридь, на конь! — зычно скомандовал Развай.
И дружина воспряла из снега.
Когда Духареву подвели коня, низенького, но крепкого, густо заросшего шерстью, первые десятки его воев уже неслись во всю прыть… Вернее, во всю прыть вспахивали целину. Лошадки утопали в снегу по грудь, но упорно рвались вперед… И вырвались.
Степняки заметили русов, и вопли копченых резко поменяли эмоциональный фон. С победного на панический.
Одни сразу попытались дать деру, другие (их было большинство) решились принять бой.
Но решить легко, победить труднее.
У ворот сотня Корня перемалывала угодивших в западню копченых. Бронная кавалерия против легкой конницы. Обшитые бляшками или попросту пропитанные солью тягиляи[5], меховые высокие шапки с металлическими полосками… Разве это защита от добрых русских мечей? А вот печенежские копья да сабельки лишь царапали бронь русов.
Духареву драки почти не досталось. К месту боевых действий он подскакал последним — подвел изрядный вес. Попытался достать удиравшего копченого, но тоже не преуспел. Обогнала стрела одного из трех сопровождавших воеводу (небось Развай распорядился) «гвардейцев». Нет, с рукопашкой пора завязывать. Дать дорогу молодым, как говорится.
В общем, подъехал на поле боя Сергей Иванович к шапочному разбору. Оглядел его — и возгордился. Вот что значит — сорок лет боевого опыта. Везде на утоптанном розовом снегу — тушки копченых. А своих вроде и нет никого.
А своих вроде и нет никого.
К сожалению, потери были. Как же без них — в сече? Одиннадцать дружинников полегло. Все — молодые. Все — не опоясанные. Отроки.
Восемь — из сотни Корня, двое — из «личной» гриди Духарева. Да один хузарин, увлекшийся погоней и получивший стрелу в спину.
Печенегов же полегло: триста двадцать семь. И еще около сотни все же сумели удрать. Казалось бы — отличная пропорция, учитывая полуторакратное численное превосходство врага, но всё равно жаль мальчишек! О каждом сердце болит… А что делать? Без настоящего боя воином не станешь. Убили — значит, слаб. Не годен. Или удачи не хватило.
Так мыслили в этом времени. Духарев чувствовал неправильность подобных рассуждений, но предложить что-то взамен не мог. Одно утешение: сыновья его с юных лет — лучшие. За то низкий поклон дедушке Рёреху. Тем более что без старого варяга у Сергея Ивановича Духарева и сыновей не было бы. От покойников сыновья не рождаются.
Посол, а если по-византийски — апокрисиарий богопочитаемого императора Василия оказался человеком приятной наружности и дружелюбного нрава. Сразу рассыпался в благодарностях за спасение и даже предложил награду, от которой Сергей отказался. Лично ему денег хватает, а дружина свое взяла на убитых печенегах, вернее, не столько на них, сколько на том, что они успели нахапать.
Узнав, что Духарев — не просто военачальник киевского архонта, а еще и целый спафарий, посол вообще проникся к нему братскими чувствами и полдороги до Киева непрерывно жаловался на то, как тяжко им пришлось по пути сюда.
Сначала — по неспокойному морю (но это были семечки), потом вверх по Днепру-Данапрису (и это тоже было терпимо, хотя без мелких стычек не обошлось), а вот, когда резко похолодало, тогда начались настоящие испытания. Сначала ромеи пытались переправиться на лодках, но упустили время, и по реке поплыли огромные льдины. Несколько лодок раздавило, часть людей погибла. Пришлось ждать, пока Днепр окончательно встанет. Тогда и переправились.
Посла очень впечатлили огромные ледяные горы, в три человеческих роста высотой, возникшие там, где были пороги, но в целом к замерзшему Днепру ромеи отнеслись положительно. Ходить по воде, как по тверди, — это забавно.
Забавы кончились, когда разыгралась метель. К этакой погоде посольство было абсолютно не подготовлено. Спали на повозках и на щитах, укрываясь чем попало, и точно померзли бы, если б не наткнулись на селение, жители которого кормились на волоке. Богатым гостям здесь были рады и приняли со радушием. Любой каприз — за ваши деньги. Там ромеи и переждали непогоду. Заодно договорились о проводниках.
Следующий пакет проблем возник, когда пришло время двигаться дальше. Снегу на тракте навалило столько, что, по словам посла, лошади утопали в нем по шею. Волы дохли один за другим. Павших животных съедали. Имущество перераспределяли по другим повозкам или попросту выкидывали.
Караван еле двигался.
Проводники старательно искали дорогу — сбиться с пути в этом белом море было легче легкого.
Вымотались все до крайности.
Часть проводников подалась назад, плюнув на шикарное вознаграждение.
Однако экспедиция упорно ползла вперед, хоть, по утверждению византийца, в день проходили не больше шестидесяти стадий[6]. Останавливались, когда прекращался снегопад, потому что под снегом развести костры у ромеев не получалось. Вымотались до предела, некоторые умерли от переохлаждения… Словом, кошмар. Даже для северного человека такой переход нелегок, а уж для южного… Многие из византийцев и снега-то никогда не видели.
Местные проводники, те, что остались, тоже еле ноги передвигали. Воины-ясы, нанятые для охраны, измотались до крайности. На них ведь еще лежала задача сторожевых дозоров: Дикая Степь всё же.
Так бы они и замерзли бесславно, если бы не добрались до очередного селения.
Отогревались и отдыхали три дня. Больше задерживаться посол не рискнул. Компетентные люди объяснили: зима только началась. Основные холода и снегопады — впереди. Легче не будет.
И ромеи мужественно двинулись дальше.
Духарев не мог не восхититься такой отвагой и упорством. Видно, цель у посольства тоже была серьезная, раз пошли на такие жертвы.
Дав апокрисиарию выговориться, он начал осторожные расспросы. Сначала — о политической ситуации в империи. Типа, как дела в центре цивилизации?
Дела обстояли сложно. Начал посол с дел семилетней давности, о которых Духарев и сам знал, но перебивать собеседника не стал — вдруг всплывет что-то новое.
Начал бучу родственник прежнего императора Иоанна Цимисхия Варда Склир, который при Иоанне занимал должность доместика схол Востока, то есть был главнокомандующим всеми восточными армиями империи.
Доверием нового императора Василия Второго Склир не пользовался. Потому был отправлен командовать в далеко не самую привлекательную фему — Месопотамию. Это примерно как если бы генерала армии назначили на генерал-майорскую должность.
Склир обиделся и объявил императором себя, любимого. А почему нет? Мало, что ли, византийских императоров взошло на престол с должности доместика схол?
Авторитет у Склира среди армейцев был немалый: первый богач в империи, знаменитый полководец, с прекрасными связями во всех слоях византийского общества. А вот у Василия на тот момент авторитет никакой. Предоставивший другим, более толковым, например паракимомену Василию Лакапину, управлять империей, распущенный и изнеженный гуляка. Собственно, так оно и было на тот момент. Но когда престол под василевсом Василием Вторым зашатался, тот срочно взялся за ум. И нашел выход.
Вместе с паракимоменом они отыскали полководца, не менее авторитетного, чем Склир, и не худшего происхождения — тоже родственника императора, только другого — Никифора Фоки.
Звали кандидата — Варда Фока, и в тот момент он находился в изгнании на острове Хиос, куда его отправил император предыдущий, Иоанн Цимисхий. Опять-таки за мятеж.
Что характерно, войско, которое накидало дюлей Варде, возглавлял именно Склир.
Само собой, Василий Второй не торопился возвращать из ссылки такого опасного человека… пока нужда не заставила.
Но — заставила. Вернули. Обласкали. Пожаловали титулом магистра[7]. И возвели в должность доместика схол.
А буде возжелает родич Никифора, разбивши Склира, сам поднять мятеж, взяли с Варды страшную клятву пред алтарем: быть верным Василию Второму.
Засим дали Варде Фоке кое-какое войско и полную свободу действий.
По словам людей знающих, племянник Никифора Фоки был человеком крутейшим. И в воинском деле, и в боевых схватках дядю-императора превосходил однозначно. Одним боевым кличем целую фалангу приводил в замешательство.
Трудно сказать, как там насчет фаланги — боевым кличем, но Склира он гонял в хвост и в гриву. Хоть войско его было числом поменее, однако распорядился он им очень толково. Разбил на отряды и принялся терзать армию Склира, где только мог. Маневр, внезапность, разнообразные воинские хитрости…
Словом, Склиру пришлось туго. Наконец, решив, что достаточно потрепал противника и уронил его боевой дух, Варда Фока решился на генеральное сражение[8].
Перед началом битвы полководцы решили устроить личный поединок.
Оба были крутые рубаки, оба — уверены в победе.
Верх взял Варда[9]. Склир и его армия бежали. Аж в Ассирию, к царю Хосрою[10].
Полная и окончательная победа. Победитель вернулся в столицу, был награжден, обласкан и приближен к государю.
Но время шло, Автократор византийский крутел (пьянки-гулянки — как отрезало) и в какой-то момент решил, что слава Варды конкурирует с его собственной. И начал Василий Второй своего спасителя понемногу задвигать. Причем так задвинул, что Варда взял и обиделся.
И начал Василий Второй своего спасителя понемногу задвигать. Причем так задвинул, что Варда взял и обиделся. Решил, что при таком неуважительном отношении и данная им клятва более недействительна.
Дальше — традиционно. Пурпурные сапоги[11] — на ноги. И срочный сбор войска для восстановления справедливости и воцарения нового самодержца. Его, Варды Фоки.
Надо отметить, что и Василий Второй уже не был таким мягкотелым, как во времена восстания Склира. И вертикаль власти укрепил. Как-никак — восемь лет прошло[12]. Но Варда — реально велик. Как полководец — вообще лучший.
То есть дела у законного монарха опять невеселые.
А тут еще на подмогу бывшему своему победителю подоспел из чужих краев Склир с остатками своей армии.
В общем, Автократору ромеев срочно понадобились сильные союзники. Киевский князь — самая подходящая кандидатура. За ценой, как говорится, не постоим — корона Византии на кону.
Глава четвертая. Великий князь Владимир и тонкости византийской политики
Посла византийского василевса великий князь Владимир принимал с почетом. Парадные одежды, важные бояре, лучшая гридь — молодцы один к одному. Это в палатах. Во дворе — выставка военной мощи: не менее тысячи дружинников. Все — в броне, на конях, суровые, грозные…
У посла, который, увидев хилые, по византийским меркам, киевские стены, хмыкнул скептически, а уж на княжий кремль-терем и вовсе губу скривил, враз выражение поменялось. Вот так, дорогой гость! Мы — люди скромные. И стены нам не особо нужны. Кого бояться-то?
— Большое уважение выказал тебе Владимир, — шепнул Духарев византийцу, когда они въехали во двор. — Всю малую дружину в честь тебя построил.
В другое время не стоило бы устраивать демонстрацию силы перед коварным и сильным противником, но сейчас — в самую масть. Молодец, князюшка! Правильно отреагировал на сообщение Сергея. Есть у нас нужный товар. Отборный. А как у вас с мошной? Хватит?
— Мой великий господин, Автократор Богопомазанный Багрянородный император-победитель Василий Второй, повелел мне, мандатору[13] Мелентию, передать тебе, хакану русов и великому князю киевскому, свой привет и желание здравствовать!
— Встань, — велел Владимир. — Продолжай.
Византиец поднялся с пола, отряхнул налипшую на одежду солому.
«Надо же, — подумал Духарев. — Расстелился, будто перед императором. Видать, крепко прижало ромеев».
— Август и Автократор повелел мне передать тебе скромные дары. Жаль, что не всё я сумел довезти, многое осталось в снегах твоей суровой земли. Прости мне сие, хакан и великий князь!
Владимир кивнул благосклонно. Прощаю. Давай тащи, что осталось.
Даров было и впрямь немного. Но — хороши. Оружие, дорогая конская сбруя, одежды шелковые, мужские и женские, сосуды серебряные и стеклянные…
Князю понравилось. Поблагодарил вежливо. Но начать разговор о делах послу не дал. Пригласил к столу.
Кушали культурно. Молодежи не было. Бояре, старшая гридь, отдельно — женщины. «Официальные» жены Владимира: Рогнеда, Айша, дочь булгарского эмира, Малфрида, княжна богемская. Наталии, доставшейся князю «в наследство» от брата Ярополка, не было. Рогнеда — старшая, водимая.
Ниже сидели жены боярские, в том числе и Сергеева Сладислава.
Возглашали тосты. За здравие. За военные успехи. Обычный набор.
Посол, усаженный с почетом — сразу после Духарева, который, в свою очередь, сидел рядом с Добрыней, чувствовал себя неспокойно. Кормили-поили его с золота. Намек? Или у великого князя этого металла — пруд пруди? Посол склонялся к последнему: с золота кушали многие за княжьим столом.
Духарев глядел и радовался. Вот тебе, дипломат византийский! Ломай головенку: как купить того, у кого всё есть? Нет, купить-то можно, но — ценник?
В этот день никаких переговоров не было.
А на следующий великий князь пригласил Духарева к себе.
Кроме Владимира в его любимом месте для тайных переговоров — небольшой горнице на самом верху терема, присутствовали еще двое. Дядька и пестун князя воевода Добрыня. И личный телохранитель Владимира Габдулла Шемаханский. Со времен булгарского похода — холоп и цепной пес великого князя. А также его спарринг-партнер по фехтованию. Оружием Габдулла владел виртуозно. Бился и пеше, и конно, из лука за двести шагов стрелу в тыкву вгонял. Обоерукий, как многие варяги, в том числе и сам Владимир, шемаханец был настолько опасным противником, что почти играючи сумел победить духаревского сына Богуслава.
Габдулла достался Владимиру по праву клинка. Сам Габдулла, его доспехи, конь… Всё, что было на воине из Шемахи во время поединка, в котором и сразил его великий князь.
К чести булгар, они очень старались выкупить своего единоверца. Сам эмир булгарский ходатайствовал.
Владимир не согласился. Причина, по которой он пощадил воина бохмичи[14], его потрясающее сходство с убитым братом Ярополком, не позволила князю так просто расстаться с мастером-поединщиком. Так что отбывал Владимир из Волжской Булгарии не только с богатым выкупом и еще одной женой — дочерью эмира булгарского (впрочем, дочерей у эмира было — как грязи, десятка три — не жалко!), но и с новым гриднем, принесшим ему роту[15] на верность по всем исламским правилам.
А куда деться? Выбор у Габдуллы был невелик: или на собственном добром коне, в доспехах и при оружии, или — в цепи полонянников, за которых булгары не стали платить выкуп.
Габдулла очень интересовал Духарева. В первую очередь из-за внешности. Откуда взялось подобное сходство? Шутка Создателя?
Он даже пытался поговорить с шемаханцем, но тот не выразил желания. Трудно сказать почему, но Габдулла относился к варягам с подчеркнутой враждебностью, причины которой никто не знал. Исключение делалось только для великого князя. С ним шемаханец был подчеркнуто вежлив и повиновался безукоризненно.
Княжий отрок быстро и ловко наполнил чары: Владимиру — пиво, Добрыне — мёду, Духареву — вина. Налил — и испарился.
— Что скажешь, воевода? — нетерпеливо произнес великий князь.
— Скажу: момент удачный, — ответил Сергей Иванович. — Василию очень нужна твоя помощь.
— Мои воины, — уточнил Владимир.
— Именно так. Дела у него — кислые. Два старых ворога, которых он стравил восемь лет назад, ныне сговорились и пошли на него. Причем для того, чтобы создать василевсу трудности, хватило бы одного — Варды Фоки. Не буду докучать тебе подробностями, пока это ни к чему, но, думаю, уже пол-Византии присягнуло новому императору.
— Он может взять Константинополь? — спросил Добрыня. — Слыхал я — стены у него — выше самых высоких деревьев…
— Верно, стены могучие. Но крепость стен — в крепости тех, кто внутри. Варда и брать их не будет. Обложит город со всех сторон, лишит народ продовольствия, заставит поголодать — городские ворота сами откроются. А может, и до голода дело не дойдет. У Варды Фоки в Константинополе много родичей и друзей, человек он знатный и славный. И его союзник, Варда Склир, тоже в империи непоследний человек.
— Они что же, родичи? — спросил Владимир.
— Примерно как волк и волкодав, — ответил Сергей. — То, что оба Варды, — не значит ничего. Склир — родич прежнего императора, Цимисхия. Со Склиром мы схватились во Фракии, когда твой отец брал там виру с ромеев. Отличный военачальник, надо признать. А Варда Фока — племянник другого императора, Никифора Фоки. Помог твоему отцу в свое время.
— Это как же? — удивился князь.
А Варда Фока — племянник другого императора, Никифора Фоки. Помог твоему отцу в свое время.
— Это как же? — удивился князь.
— Очень вовремя поднял восстание против Цимисхия. Кабы не он, Цимисхий, может, и не согласился на такой хороший для нас договор. А восстание Варды Фоки Склир как раз и подавил. А потом, при Василии, уже Склир поднял восстание, и тогда его побил Варда Фока. А теперь они — вместе. Варда Фока назвал себя императором, а Склир у него в союзниках. Без помощи Василию с ними не совладать.
— Ну и ладно, — пробасил Добрыня. — Пускай себе ромеи режут друг друга. Нам то что? Пусть ослабнут, а мы на них и набежим!
— Империя большая, — заметил Духарев. — Врагов у нее много. Но вот беда — от нас далеко. Другие народы куда ближе. Они первыми свой кусок и откусят. Нам не слабые ромеи нужны, а такие, чтоб у нас с ними правильная торговля шла.
— Тебе бы всё торговать, — проворчал Добрыня укоризненно.
— Не я один с ними торгую, — возразил Духарев. — Да и что толку грабить, если потом всё добытое ромеям же спустим? Но не о том речь. Если Варда Фока сядет в Константинополе, нам с того пользы никакой. Полководец он сильный, воинственный. Где другой откупится, этот ударит.
— А Василий? — спросил князь.
— О нем мало знаю. Но больших побед за ним не числится. Мятеж Склира не он подавил, а Варда Фока. Решил с булгарами дунайскими повоевать — был бит. Удирал оттуда, хвост поджавши. Так что, думаю, нам прямая выгода помочь Василию. Заплатит он хорошо. И обязан нам будет.
— А я на дочери его женюсь, — заявил Владимир, уже привыкший к тому, что все мирные договоры с ним закрепляются узами брака. — Есть у него дочь красивая, воевода?
Духарев пожал плечами:
— Дочери императорской крови в Большом императорском дворце найдутся, а вот о красоте их мне не ведомо.
— А если Василия побьют? — спросил Добрыня. — И воев наших — вместе с ним?
Тут уж пожал плечами Владимир. Кого боги любят — тому и победа. Зачем гадать? Но спросил напрямик:
— Ты против, дядя?
— Не то что против… — задумчиво молвил Добрыня. — Но я б еще подумал.
— Торопиться некуда, — сказал Духарев. — Этот Мелентий нашей зимой так напуган, что будет сидеть в Киеве до весны.
— Но он мог бы не сам идти, а послать кого, — справедливо заметил Добрыня.
— Мог бы, — согласился Владимир. — Нам то что? Согласимся мы дать воев — всё равно, пока Днепр не вскроется, не пойдем. Не согласимся — так и вовсе торопиться некуда.
— Разумно, — кивнул Добрыня. И, погладив бороду, стрельнул насмешливым взглядом в сторону Духарева: — Хороший мёд должен выстояться. Тогда и цена на него другая будет.
На том и порешили.
Следующим утром князь Владимир с дружиной отправились на полюдье.
А днем в дом Духарева заявились посол Мелентий и ромейский старшина Кирилл Спат.
— Мы слышали, хакан Владимир покинул Киев? — после обмена традиционными приветствиями спросил Кирилл.
— Да, уехал на полюдье, — подтвердил Духарев. И пояснил: — Это сбор дани.
— Сам, лично? — удивился Мелентий.
— Такая традиция. И дед его ездил, и отец. Забрать дань, что свезли на погосты, рассудить давние споры… Еще пиры, ловитвы. Это совсем не так скучно, как кажется. И дружину содержать легче. Пока она в Киеве, то кормится из княжьих запасов, а когда в другом городе гостит — из городских.
Хотя сейчас это уже не так важно, как при его деде, Игоре. Теперь у князя дружина большая и по всей большой земле рассредоточена. Границы держит, в городах за порядком следит, а бывает, и пощиплет кого, — тут Духарев лукаво улыбнулся. — Воинам, особенно молодым, без дела скучно.
— И долго это… полюдье длится? — мрачно спросил посол.
— Когда как. Бывает — месяц. А бывает, и до самой весны.
— Плохо. — Мелентий какое-то время помолчал, потом спросил осторожно: — Светлейший муж, как думаешь: то, что хакан меня не принял, это — дурной знак?
Сергей засмеялся как можно естественнее. Хлопнул панибратски, как старший — младшего, посла по плечу:
— Не обижайся, Мелентий, Владимир и думать забыл о тебе и твоем посольстве. Мало ли к нему послов приезжает… Подарки ему понравились, так что он непременно примет тебя еще раз. А нет, так я походатайствую.
— Сердечно благодарю тебя, светлейший муж! Верь мне: Автократору непременно сообщат о твоем участии!
Духарев махнул рукой:
— Не стоит благодарности! Я помогаю империи. Разве это не мой долг — быть ее мечом?[16] Скажи мне, Мелентий, а не хочешь ли ты сам съездить на ловитвы? Мой старший сын, князь уличский, давно меня звал. Составишь компанию?
Тонкое лицо посла выразило глубокое сомнение. Не хотелось ему никуда ехать. С другой стороны, он не мог обидеть хозяина отказом.
Сергей снова засмеялся.
— Вижу: боишься ты нашей зимы. Не бойся. У меня есть хорошее средство от мороза. Погоди!
Он на пару минут покинул гостей и вернулся уже с большущим свертком в руках.
— Встань, Мелентий! — велел он и освободил содержимое свертка — роскошную лисью шубу. И тут же накинул послу на плечи.
— Чуть велика, — заметил он, оглядев результат, — но больше не меньше. Носи, мандатор, дарю!
Посол порозовел.
— Это очень дорогой подарок, светлейший муж, — пробормотал он. — У нас, в империи, — целое состояние…
— Здесь — тоже, — усмехнулся Духарев, который, естественно, знал, сколько стоят меха в Византии, если продавать их на свободном рынке, а не по фиксированным ценам на подворье близ монастыря Святого Мамы близ Константинополя, отведенного русам по договору. — Считай это дружеским подарком.
Мелентий поклонился и произнес торжественно:
— Ты мог бы считать меня своим верным другом, светлейший муж, только за то, что спас нам жизнь. Такая великая щедрость излишня! — и попытался снять подарок. Но Духарев не позволил.
— Нет уж! — заявил он. — У нас дареного не возвращают.
— Зато у вас принято отдариваться, — сказал Мелентий. — А мне — нечем.
— Поедешь со мной на ловитвы! — заявил Духарев. — Это и будет твоей отдаркой. Уверяю: в такой шубе ты ни за что не замерзнешь, а с моими воинами к нам ни один разбойник не сунется. Ни степной, ни лесной.
Тут он малость ошибся, но выяснилось это только через пару недель.
Глава пятая, в которой мирное путешествие заканчивается кровавой сечей
Выехали через два дня. Сладислава тоже захотела повидать сына, и ей надо было закончить домашние дела, отдать нужные распоряжения… За старшего в доме оставался Рёрех, но он так, для общего пригляду. Слада больше доверяла ключнице Марфе, немолодой уже вдове-христианке с Подола, у которой несколько лет назад сварожичи сожгли дом. Хорошо, ее и детей не тронули. Слада Марфу сначала просто приютила, взявши в рядные холопки, а потом, увидев, что баба толковая, стала приучать к руководству дворней.
«Ей бы к старательности еще и властности немного», — жаловалась Сладислава мужу.
В общем, роль главы рода — Рёреху. Дворню — Марфе, а торговые дела — приказчику Кузьме, тому, что владел и ромейским, и латинским письмом, да и сам был не дурак, в торговле ловок. Оставили на всякий случай десяток дружинных и отбыли.
Выехали комфортно: с восемью санями, везшими зимние шатры на всех, припасы, подарки и Сладиславу. Было в санях и лишнее место: ежели занедужит кто или просто устанет. До Улича путь не то чтобы далек, но и не близок.
Погода стояла солнечная, умеренно морозная. Зимник вдоль Днепра был накатан, сани скользили легко, дружина шла тоже свободно, не сторожась.
Посланник ромейский взбодрился. Хоть и был укутан в шубу до глаз, но глаза были — веселые.
На ночь ставили шатры, варили кулеш со свежатиной, добытой духаревскими гриднями. А то и рыбой баловались: вои пробивали полыньи и ставили на ночь сети, которые поутру редко были пустыми. Чтобы прокормить почти сто человек: гридь да челядь — еды требуется немало. Да еще лошадкам корм нужен.
Сено брали у поселян: где за деньги, а где и так, если Духарев не успевал уследить. Гридь смотрела на смердов как на овец. Кто ж овцам за шерсть платит?
Сложнее стало, когда пришлось свернуть с большой дороги на малую, что вела в уличские земли. Теперь всадники шли уже не вольно, а попарно, а сани кое-где приходилось гуртом перетаскивать через могучие коренья. Лес здесь был частый и густой. Не такие великаны, как на севере, но деревья тоже немаленькие. Встречались и дубы. Иные — с мелкими приношениями. Дуб — дерево священное.
Хорошо хоть погода радовала. Ни снегопада, ни метели, ни вьюги. Посыплет иногда мелким пухом с неба, и всё.
Но однажды ночью Духареву приснился дурной сон. Лесная заснеженная поляна, полная луна, огромная, яркая, а на испятнанном черным снегу — побитые гридни. Его гридни. Почему-то без броней и одетые не по-зимнему…
Тут Сергей и проснулся. Сел, осторожно выпроставшись из-под медвежьего одеяла, огляделся.
В шатре все спали: Слада, челядинка-служанка, ромей под дареной шубой…
Снаружи всё тихо было. Но воевода всё-таки выглянул… Нет, действительно тихо. Караульный у шатра, караульные по границам лагеря. Бдят. Глянул и на луну. Луна была похожа на ту, что во сне. Только не целая, а со щербиной на боку. Сергей попытался припомнить: в убыли она сейчас или в прибыли. Не вспомнил. Кажется, прибывает…
Воевода вернулся в шатер, осторожно, чтоб не разбудить жену, залез в тепло, под шкуру.
Ведовской дар теперь редко посещал Духарева, так что сон вряд ли был вещим. Или — был?
Утром, после того как тронулись, Сергей спросил у Развая:
— Скажи мне, сотник, луна нынче убывает или прибывает?
— Прибывает, — не раздумывая, ответил варяг. — Завтрашней ночью в полную силу войдет.
— Ага… — Духарев подумал немного и распорядился: — Дозоры усилить. Брони вздеть, но шубы поверх накинуть. Чтоб железом не светили. Пошлешь двоих с заводными к уличскому князю, пусть известят: «Отец в гости едет. Встречай». Надежных пошли. Таких, чтоб опасность нюхом чуяли!
— А ты, воевода, что? Чуешь? — насторожился Развай.
— Наверняка не знаю, но… лучше поберечься.
— Ой, не думаю я, батька, что на нас кто рискнет наехать! — беспечно заявил Развай. — Это ж какие наглые разбойники должны быть, чтоб на малую сотню гриди налететь?
— А ты не думай, — холодно произнес Духарев. — Ты делай.
— Сделаем, батька! — пообещал сотник и умчался отдавать распоряжения. Непохоже, что он принял опасения воеводы всерьез, но это — наплевать. Сделает всё как следует.
И сделал.
Даже на «обеденной» остановке, без всякого напоминания Духарева, Развай организовал дополнительную охрану.
Сделает всё как следует.
И сделал.
Даже на «обеденной» остановке, без всякого напоминания Духарева, Развай организовал дополнительную охрану. И дозор вперед отправил…
Ничего не случилось. Даже чужого взгляда Сергей за весь день не ощутил ни разу.
Хотя не факт, что не было. Когда вокруг столько народу, сосредоточиться трудно. А самому в дозор уехать как-то неавторитетно. Да и дружинников обижать недоверием не хотелось.
Вечером, когда встали лагерем (поляну выбрали побольше), Духарев распорядился ставить сани полукольцом, а лошадей привязать поблизости. А когда ложились спать, велел всем спать в бронях. Дружина не роптала. Есть опасность, нет опасности — воевода сказал, они сделали.
Луны на небе не было. Еще не взошла.
— Дозоры удвоить, — велел Духарев. — Костры потушить. Бдить. Луна когда взойдет?
— К третьей страже, — не раздумывая, ответил сотник.
— Третью стражу примешь сам. И меня разбудишь.
— Понял, батька.
Серьезность воеводы сделала свое дело: Развай проникся.
— Что, светлейший Сергий, нам кто-то угрожает? — поинтересовался Мелентий.
— Может — да, а может, и нет, — неопределенно ответил Духарев. — Неспокойно мне что-то. Лучше поберечься.
Уснул — как в черную дыру упал. Сразу и без сновидений. Проснулся от легкого прикосновения.
— Время, батька…
Снаружи было тихо, только лошади перетаптывались, да какая-то ночная птица протяжно ухала.
Луна только-только показалась над верхушками деревьев. Большая, дымчатая…
Духарев втянул носом воздух, прислушался… Ничего.
Может, зря всполошился?
— Лошадки волнуются, — вдруг сказал Развай. — Чуют кого-то. Может, волки?
— Может, и волки, — пробормотал Духарев. — Сотник! Поднимай гридь. Только пусть до времени в шатрах сидят, не показываются.
Теперь он был уверен: враг недалеко. Вопрос: что за враг? И сколько их?
Размышляя, Духарев накинул тетиву. Открыл крышку колчана…
Не было печали, так с ведьмой повенчали. Еще бы дня два — и были бы в Уличе. И леса эти… Теснота, видимость — пятьдесят метров. То ли дело — степь. Хотя в степи сейчас снегу — по пояс. А то и по грудь.
А что это там мелькнуло, беленькое на черном фоне?
Духарев вскинул лук. Звонко щелкнула тетива…
И — короткий вопль. Есть попадание!
Тотчас всё пространство на лесной опушке заполнилось людьми. Запели-заверещали стрелы… Быстрый взгляд вокруг: нет, атака только с одной стороны. На то и рассчитывал Сергей, выстраивая сани полмесяцем.
Духарев прижался к стенке шатра, чтоб не отсвечивать, и пошел метать по две стрелы сразу. Нападающие бежали так густо, что и целиться не надо. Не вои, а мужичье какое-то… Но как много. Всё валят и валят.
Воевода сорвал с пояса рог. Затрубил: «К бою!»
Из шатров выскочили гридни, выстроились в две линии, прикрываясь щитами. Третья линия — отроки, у которых и бронь поплоше и опыта меньше, — встали за спинами своих, меча стрелы навесом.
Из воеводиного шатра выбрался Мелентий. Оружный, со щитом. Без шубы, с которой последние дни просто не расставался. Вероятно, опасался, что попортят.
— Кто напал? Много?
— Побьем — посчитаем, — пообещал Духарев. — Щитом меня прикрывай, мандатор!
И вновь принялся метать стрелы.
Однако в него больше не целили. Основной бой пришелся на дружинников. Но и среди тех вроде потерь не было. Умелые. Да и стрелы у ворогов слабенькие.
Духарев выдернул одну, застрявшую в ткани шатра… Точно.
Охотничий срез. Страшное оружие против косули или там зайца. Но бронь разве что оцарапает. Даже шатровую ткань не пробила. Но не будем недооценивать противника. Вон их сколько. Уже сейчас по самым скромным прикидкам — не менее полутысячи. А из леса новые прут. Это, считай, родов десять поднялось, не менее. Лесовики. На лыжах бегут, ходко. Остановятся, стрельнут и дальше бегут. Вооружение, похоже, примитивное. Рогатины, топоры… Мечей ни у кого не видно. Первые уже у шеренги гридней. Духарев засмеялся. Добро пожаловать в Ирий, господа язычники! Мелентий удивленно поглядел на него. С чего веселиться, если такая масса валит?
А с того, что на коротких лыжах по снегу настоящего разгона не получится, так что продавить строй — никаких шансов. Сергею очень легко было представить себя на месте пешего гридня. Слева — друг-соратник, справа — друг-соратник. Сзади еще один, с длинным копьем, если пособить понадобится. Только — не понадобится. Дело не сложней, чем для хозяйки капусту нарубить. Спереди набегает смерд с рогатиной. Рот раззявлен, глаза выпучены, бородища — торчком. Закусаю! Кабы он на медведя так пошел, враз стал бы сытным обедом. Только смерды на медведя редко ходят. Это благородное развлечение.
Легкий отбой щитом — и рогатина уходит вверх. Затем короткое движение клинком, толчок ногой или щитом — чтоб прямо под ноги не упал, и принимаем следующего.
И так по всей длине строя.
А вороги всё прибывают. На поляне уже черным-черно. Лезут, спотыкаясь о собственных покойников. Сейчас бы точно строй продавили…
Но — поздно. Теперь перед ними барьер — из своих же, убитых и покалеченных, стонущих, вопящих…
Сергей выпустил последнюю стрелу, закрыл колчан, бросил лук в налуч.
Подумал: «Сейчас обходить начнут». И снова взялся за рог. Сигнал: «Все в круг!» Надеюсь, Развай сообразит.
Сообразил.
Вторая линия выдвинулась вперед, включившись в рукопашную, а первая рассредоточилась, заняв круговую оборону.
Но нападающие продолжали переть в лоб и перли, пока лобовая атака окончательно не захлебнулась. Перед строем дружинников образовалась баррикада из тел в пятьдесят метров длиной, метра два шириной и почти полтора метра в высоту.
Дружинников из строя вышло семеро. Все — с ранениями рук и ног. Ими тут же занялась Сладислава — под прикрытием щитов.
Духарев старался высмотреть, что происходит среди противников. Какая-то суета… Но обстрел прекратился.
— Не стрелять! — раздался приказ Развая.
Правильная тема. Стрелы надо беречь. Что же всё-таки это за напасть такая? Судя по подготовке — смерды. Зачем им нападать на воинов? Это ж самоубийство. Да и смерд просто так на смерть не пойдет. Он к этому непривычен. Значит, что-то его подвигло? А может, не знали, что имеют дело с воинами? Или никогда не сталкивались? Это же так просто: их меньше сотни, а нас целая тысяча. Зипунами закидаем. Могли бы и закидать. Если по уму. Но если по уму — так не полезли бы.
Пауза затянулась. Надо что-то предпринять. Перехватить инициативу…
— Дай-ка мне свой щит, — попросил Духарев. — Нет, лучше факел мне зажгите и ветку дайте какую-нибудь зеленую. Вон нарубленный лапник, оттуда возьмите.
Так, с еловой веткой в одной руке и факелом в другой Сергей взобрался на одни из саней и призывно замахал огнем.
«Начнут стрелять — успею спрыгнуть», — подумал он. Но лучше обойтись. Прыгать с высоты ему нежелательно. Так в один голос утверждали и парс, и Сладислава. Хотя какая тут высота. Полсажени.
— Я — воевода киевский Серегей! — закричал он, не жалея наработанного в битвах командирского голоса. — А вы кто такие?
Услышали. И стрелять не стали.
Из общей кучи выдвинулись трое.
Показали открытые ладони. Один поманил: зачем, мол, орать? Иди к нам.
Духарев слез с саней, опершись на подставленные руки гридня, и двинулся к переговорщикам.
Гридь раздвинулась, пропуская.
— Мы бдим, батька, — негромко сказал ему Развай.
Кто бы сомневался? Сейчас десятка три лучников держат под прицелом и переговорщиков, и вооруженную толпу. Войском такое сборище назвать — язык не поворачивался.
Троица выглядела солидно: во-первых, доспешные. Во-вторых, кряжистые. В-третьих, в себе уверенные.
— Ну так кто же вы такие? — повторил вопрос Духарев.
— Я — Калас, боевой вождь рода Ивицы, — пробасил тот, что стоял в центре.
— Щитобой, боевой вождь рода Серой Цапли.
— Лисянин, боевой вождь рода Медведя.
— Надо же, — усмехнулся Духарев. — Род Медведя, а сам — Лисянин. Нескладно получается.
— Нескладно, да ладно, — проворчал Лисянин. — Говори, чужак, зачем в наш лес пришел?
— Дорога — общая, — заметил Духарев. — Да и лес — ваш ли?
— Наш-наш! — заверил Щитобой. — Не сомневайся, седоусый!
— И дорогой нас не пеняй! — подал голос Калас. — На дороге мы тебя не тронули. Мы не разбойники.
— Это уж как князь решит, — сказал Духарев.
— Какой еще князь? — воскликнул Щитобой. — Ваш, что ли, киевский? Так он на полюдье уехал! О том всем ведомо!
— Почему ж киевский? Ваш, уличский. Князь Артём.
Трое переглянулись.
Потом Калас сказал:
— Он не наш князь и о том знает. Он в наши леса не суется. По Дикому Полю бегает, печенегов бьет.
— А не бил бы — они б к вам прибежали.
Все трое разом заухмылялись. Реплика воеводы их позабавила.
— Глупости говоришь, — заявил Лисянин. — Что степнякам в лесу делать? Они меж двух осин заплутают!
— Ты слова-то выбирай, лис медвежий! — строго сказал Духарев. — Нет уважения к званию моему, так хоть к годам поимей!
Лисянин малость смутился. Не принято у родовичей старшим хамить.
— Печенег, может, и заплутает, — продолжал Духарев. — А вот князь Артём — вряд ли. Он вятичей уму-разуму учил, а ваши леса в сравнении с их чащами — кустики чахлые. Так что зря вы, военные вожди, — Духарев выделил слово иронией, — на настоящих воев исполчились. Только людей зря губите, — он сделал красноречивый жест в сторону «баррикады». — А у них ведь и жены были, и детишки. Сиротами остались.
— Род прокормит, — буркнул Калас, но Духарев не обратил на его реплику внимания:
— А может, вас подбил кто?
Троица вновь переглянулась. Но разобрать выражение лиц Духарев не смог. Темновато.
— Ладно, — сказал он. — Говорите, что хотите от меня, или покончим с болтовней и за дело возьмемся.
— За какое дело? — спросил Щитобой.
— Воинское дело, военный вождь! Воинское! Вы будете лезть, а мы вас — бить.
— Рука-то не устанет? — едко осведомился Лисянин.
— А мы привычные, — усмехнулся Духарев. — Нам с утра до ночи биться — как тебе землю пахать.
— Я не пахарь! — рассердился Лисянин. — Мы, род Медведя, все охотники!
— Ну извини. Тогда как силки на зайцев ставить, чтоб тебе понятней было. Так чего хотите?
— Мы вас пропустим, — после небольшой паузы заявил Калас.
— Товары можете с собой забрать. Только оружие оставьте. Поедешь к своему князю, воевода, и скажешь ему, что дани мы больше не платим. И оборонять нас не надо — сами оборонимся!
— Смешной ты человек, военный вождь Калас! — сказал Духарев. — Так мы тебе свое оружие и оставили!
— Если ты боишься, воевода, то зря! — сурово сказал Калас. — Хочешь, пред богами клятву дам, что никого из вас не тронем и ничего не возьмем? Мы не разбойники!
— Я боюсь? — демонстративно удивился Сергей. — Это вы — бойтесь! А уходить нам — не к спеху. Припасов хватает, погода хорошая. Заодно стрелы ваши пособираем. Но тоже, обещаю, вернем. Все до единой!
— Пока вы говорили, батька, они увели наших лошадей!
Это было первое, что сообщил Развай, когда Сергей вернулся в лагерь. Духарев кивнул. Этого следовало ожидать.
— Как же мы — без них? — огорчился Мелентий, когда Сергей перевел ему эту новость. — Надо было их в лагерь забрать!
— И получить кроме врага еще сотню взбесившихся коней? — поинтересовался воевода.
— Почему — взбесившихся?
— А потому, что, когда в коня попадает стрела, ему это не нравится. Ты не знал?
Ромей смутился. Потом спросил:
— И что мы теперь будем делать?
— Ждать.
И ушел к Сладиславе: узнать, как там раненые?
Положение на самом деле было хуже, чем Сергей Иванович нарисовал уличам.
Пищи у них было — дней на пять. В пути главную часть рациона составляли не припасы, а добытая гриднями-охотниками свежатина. Но это еще полбеды. Овес, припасенный для лошадей, тоже можно кушать. Хуже, что почти совсем не осталось дров. А вокруг все же зима. Пусть не лютый, но вполне ощутимый морозец. Гридь-то переживет, а вот раненых надо держать в тепле. И пищу варить…
Ничего! Что-нибудь придумаем. Сергей вспомнил, как во время осады Доростола они сделали лихую вылазку и захватили обоз ромеев. Почему бы и здесь не повторить тот же вариант?
Сергей вызвал Развая и велел посчитать припасы, учитывая и овес для коней. Гридь разбить на смены по десять человек и бдить непрерывно по всему периметру. Уличей вокруг скопилось — видимо-невидимо. В любой момент могут попереть в атаку, наплевав на потери. Тем более что в какую-нибудь из мужицких голов может прийти дельная мысль, что киевлян выпускать ни в коем случае нельзя. Узнает князь: хоть киевский, хоть уличский, — накажет беспощадно. Или они совсем страх потеряли?
Одно хорошо: по зимнему времени трупы не смердят.
Утром от уличей пришел переговорщик. Просил дать похоронить убитых.
— Вороны похоронят! — ответил ему Развай. — Убирайся!
И вбил стрелу ему под ноги. Стрел можно было не жалеть. Собрали почти три тысячи. Каждому гридню — по полному колчану.
Переговорщик убежал.
Днем уличи устроили шоу. Из леса на опушку выбрались три колоритных персонажа: в шапках с висюльками, с посохами и прочими атрибутами духовного звания. Жрецы. Выбрались — и принялись колдовать.
Гридь забеспокоилась. Большинство были язычниками.
Духарев решил провести разъяснительную работу:
— Бог наш воинский — Перун! — заявил он. — Думаете, он не защитит вас от каких-то смердьих божков? И вообще, не нравится, как они пляшут, так сделайте чтоб не плясали! Заодно поглядите, спасут ли их боги от добрых стрел.
— Но ведь убитый колдун опасней живого, — неуверенно произнес кто-то из дружинников. — Будет ходить по ночам, удачу красть.
— Так ты не убивай, — посоветовал Духарев. — Стрела в ляжку — и делу конец.
Гридни сразу повеселели.
— Стрела в ляжку — и делу конец.
Гридни сразу повеселели. Похватались за луки.
— Не все! — Рявкнул Развай. — Сам выберу!
Отобрал пяток стрелков получше и послал на огневой рубеж.
— Разберись! Бей!
Пять тетив щелкнули одновременно, и хищные стрелы ушли в полет.
Ни одна не пропала. Двое, правда, занизили прицел, и попадание вышло пониже колена. Но хрен редьки не слаще. Оттанцевались служители языческого культа!
Один — ползком, другой — на карачках «помчались» под защиту леса. Третий остался лежать.
Но его не бросили. На опушку выскочили мужики, человек десять, похватали всех раненых и поволокли под прикрытие.
— Бить? — спросил Развай.
Духарев покачал головой. Не хотелось зря кровь проливать. Эх, дурачье! Кто ж вас надоумил — бунтовать?
День прошел спокойно.
Вечер — тоже.
— Как думаешь, батька, будет ночью драка? — спросил Развай.
— Непременно, — пообещал Сергей.
— Неужели — нападут?
— Мы нападем!
На вылазку отправились почти все. В лагере осталось всего пятеро дружинников. И сам Духарев. Решил: не по годам ему с молодыми тягаться.
Риск был немал. Если бы вместо смердов им противостояли настоящие воины, Духарев ни за что не стал бы так рисковать.
Открытое пространство до леса одолели без проблем. Луны не было, а снег после побоища был так запятнан кровью и грязью, что напрочь лишился девственной белизны.
В лесу было совсем темно, но тут как раз снег выручал, помогал ориентироваться.
К стоянке уличей подошли незамеченными. Тоже неудивительно. У развоевавшихся смердов имелись аж двое часовых, но они без толку бродили кругами и на костры глядели больше, чем на подступы к поляне, на которой расположились.
Уличей на полянке было — не меньше сотни. Кто спал, кто грелся у костров.
Что особенно удачно: неподалеку, привязанные к деревьям, меланхолично дремали восемь угнанных лошадок. А чуть в стороне были аккуратно сложены нарубленные стволы. Дровишки.
— Десятников — ко мне, — шепнул Развай.
Ухнул филин — и началось. Караульные и неспящие разом повалились, побитые стрелами. Семь десятков гридней разом выскочили из кустов, распределились и принялись колоть и рубить спящих. Двадцать ударов сердца — и вокруг одни покойники. Только одного, в самой важной шубе, Развай велел пощадить и упаковать для беседы.
Затем начался грабеж. Вязали всё подчистую: припасы в мешках, две кабаньи туши и одну оленью. Десяток зайцев и шесть здоровенных мерзлых рыбин. Само собой, всю древесину, включая увязанный в охапки хворост. Бревна, соорудив простую упряжь, тащили лошадьми, для прочего наскоро изготовили волокуши. Забрали все стрелы, что нашлись и, само собой, деньгу. Это уже по привычке: навар был скудный: медь да кожаные куны. На всех и полгривны не набралось. Зато прихватили меховые подстилки и одеяла.
В общем, нагрузились так, что, напади сейчас уличи — не отбились бы.
Но не напали. Видать, не услышали, как их соратников на ту сторону Кромки спровадили.
В лагерь вернулись победителями. Ценнейшие (с учетом нынешней ситуации) трофеи, лошади, пленник. И — ни одной царапины.
Сергей на похвалы не поскупился. Обещал: когда (именно когда, а не если) вернутся домой, одарить каждого за доблесть по-княжьи.
И тут же кликнул еще двух добровольцев: скакать в Улич (или навстречу князю, если он уже выехал) и рассказать о том, что случилось.
Добровольцами вызвались все. Пришлось Разваю выбирать самых подходящих.
Гонцы взяли четверых лошадок порезвее, по мешку овса на каждую (сейчас кормить некогда), подседлались и канули в ночи.
Раздавшиеся поутру со стороны леса трагические вопли уличей, обнаруживших недостачу земляков, вызвали у плотно позавтракавших дружинников довольные ухмылки.
«Вот так! — злорадно думал каждый. — Теперь и вам спать вполглаза!»
Пленника допросили. Железо не понадобилось. Перепуганный смерд, оказавшийся не одним из вождей, а просто удачливым охотником, справившим из добычи знатную шубку, болтал бойко. Но ничего такого, о чем Духарев не догадывался ранее, не поведал. Да, бучу замутили жрецы. Но поддержали их весьма охотно. Платить дань, даже малую, лесовики не любили, поскольку были уверены, что в княжьей защите не нуждаются, а найти их в лесных чащах — дело для чужих не столько непосильное, сколько хлопотное. Примерно как мышей мечом рубить. А вот разграбить богатый обоз сборщиков дани (вот за кого приняли отряд Духарева) — милое дело. Боги одобрили. Правда, устами своих жрецов, потребовали за «поддержку» третью долю добычи, но плата никому не показалась чрезмерной. Хотя, когда выяснилось, что взять киевских воев врасплох не удалось, жрецам были выставлены серьезные претензии, от которых служители языческого культа, по обыкновению, легко отбрехались. И пообещали, что «боги» себя еще проявят.
К последнему утверждению Сергей отнесся несерьезно. И — напрасно.
День прошел спокойно. В лесу наблюдалось активное шевеление, но не более того. Здорово мешали вороны, устроившие праздник живота на валу из трупов — живых к этому времени в гигантской груде тел не осталось. Гонять падальщиков было бесполезно. Бить стрелами — жалко. Стрел.
Зато еды теперь было вдоволь. И дров. Сергей решил не экономить. Очень надеялся, что подойдет помощь из Улича. У сына — больше тысячи дружинников. Причем не просиживающих штаны по Детинцам, а с апреля до октября активно полевавших в Дикой Степи, бивших и печенегов, и угров, забывших о том, что у их великого князя Гезы, прозванного земляками «Кровавые руки», с Киевом — мирное соглашение.
Прозвище сын Такшоня Геза получил не совсем заслуженно. Среди современников-правителей были и покровавее. А Геза всего лишь перерезал тех, кто посчитал неправильным его наследование отцу. Согласно лествичному праву, практиковавшемуся в Венгрии, на его стол должен был сесть старший в роду, но Геза оказался сильнее обычаев. Духарев знал его лично и относился к нему с симпатией. Геза был прекрасным воином. А как позже выяснилось, еще лучшим политиком. Женился (правда, с подачи отца) на дочери одного из сильнейших лидеров — владыки Трансильвании. Девушка эта, кстати, считалась самой красивой женщиной Венгрии.
После смерти отца Геза резко сузил внешнюю, то бишь разбойную деятельность (очень вовремя!) и даже крестился лет десять назад. Причем тоже грамотно: мимо немецкого и византийского духовенства — непосредственно у представителя Папы Римского. А за год до этого официально замирился с германским императором Оттоном. Кстати, крестившись, подданных приводить к Христу не стал, а сам продолжал приносить жертвы старым богам. На претензии духовенства отвечал так: я — человек небедный. У меня на всех хватит. Кстати, и жен, коих по языческому обычаю у него было несколько, от себя гнать не стал. В общем, делал Геза Такшоневич всё, что хотел, и всё ему с рук сходило. И более того, неизменно приводило к укреплению государства.
Кстати, когда пару лет назад в Священной Римской империи германской нации началась заварушка, Геза плюнул на договор и хапнул часть Австрии.
Вряд ли он стал бы злоумышлять против киевского князя, но не все угры ходили строго под своим лидером. Иные не прочь были и пошалить. Но в сравнении с печенегами это была капля в море.
Впрочем, воям уличского князя было без разницы, кого бить. Кто сунется — тому и смерть.
Неужто теперь пришла очередь своих, уличей?
Напрасно Духарев переживал за уличей. Ему бы лучше за свою чать да дружину беспокоиться.
Утром уличские вожди нанесли удар. На этот раз, похоже, в полную силу. Поперли со всех сторон несметным числом, да не дуром, а с опаской: каждый прихватил здоровенную вязанку хвороста, которой и прикрывался, будто щитом.
Утром уличские вожди нанесли удар. На этот раз, похоже, в полную силу. Поперли со всех сторон несметным числом, да не дуром, а с опаской: каждый прихватил здоровенную вязанку хвороста, которой и прикрывался, будто щитом. А первые вообще с деревянными щитами шли: грубыми, тяжелыми, связанными кое-как, но в качестве защиты весьма эффективными.
Гридни, конечно, искали бреши. Находили, стреляли и попадали. Однако это несерьезно. Пять минут — и дело дошло до рукопашной.
Тут хворост тоже помог — уличи кидали его под ноги, чтобы удобнее было лезть на сани.
Да и щиты пригодились. Упершись человек по десять-пятнадцать, смерды сдвигали сани, продавливали кольцо защитников… Которых было катастрофически мало. Духарев понял: лагерь не удержать. Уцелеть бы самим!
«Все ко мне!» — протрубил он.
Тренированная гридь тут же отступила, перестроилась кольцом. Заслонив слабых: раненых, челядь…
Сразу стало легче. Привычный строй, привычная работа. Духареву вспомнилось, как вот так же стояли на Хортице против печенегов Курэя…
Эх, не повторить бы судьбу Святославовой дружины!
Большая часть уличей, оказавшись в лагере, тут же кинулась грабить. Но не все. Больше половины лесовиков, понукаемых кто — местью, кто — волей вождей, столпились вокруг крохотного островка духаревской дружины… и остановились.
Гриди осталось — шесть неполных десятков (многие полегли во время первого натиска), но идти на железную стену смердам было страшно. Помнили, что из этого может выйти.
И тут подоспели смелые.
Толпа звероватых мужиков с топорами да копьями мало отличалась от остальных уличей. Но всё же отличалась.
Во-первых, они были полуголые, в каких-то лохматых шкурах. Во-вторых — бесстрашные. Судя по безумным мордам — явно чем-то опоенные.
Эти — не сомневались. Вопя, приплясывая на ходу, размахивая своей скорее охотничье-сельскохозяйственной, чем военной снастью, они сходу накатили на гридь.
Пусть рогатина и не военный инструмент, а топор дровосека слишком неуклюж для правильной битвы, но и тем и другим можно запросто крушить щиты, шлемы, панцири и кости под ними.
Да уж! Не обманули жрецы. Этакое берсерочье равнодушие нападавших к ранам однозначно приписывалось «божественному» вмешательству. Посредством известных психотропных средств натурального происхождения.
Рубилово получилось страшное. Мечи дружинников секли руки, ноги, головы… Но людей-зверей было не остановить. Иному меч втыкался в живот, а он насаживался еще больше, вцеплялся руками в дружинника и вытаскивал его из строя… Где гридня тут же и забивали. Безумцы лезли нахрапом, вбивали с размаху топоры в щиты, тут же гибли, но им на смену приходили другие. Шуйцы гридней немели от удвоенной, утроенной тяжести…
Кольцо дружинников сжималось. Духареву пришлось самому встать в строй. Рядом с ним оказался Мелентий.
Сергей не стал его прогонять: похоже, так и так конец. Даже сдаться не получится. Эти — порвут.
Рост и длинные руки давали Духареву кое-какое преимущество. Щит он тоже брать не стал. Меч — в левой, сабля — в правой. Ошибки не допускаются. Подпустишь упыря к себе — конец.
Так что приходилось не подпускать. Колоть в туловище Сергей избегал — чтоб клинок не увяз. Мечом он по большей части парировал, а вот сабля трудилась. Добрый дамаск запросто сек кольчуги, так что мясо и кости ему были — как ножу холодец. Разил Духарев без промаха. Бесноватые совсем не береглись…
Краем глаза заметил: Мелентий бьется уже мечом. Копье где-то затерялось. Вернее, в ком-то.
Слева от Духарева — Развай. Спокойный, сосредоточенный. Дышит ровно, бьет точно. Удар — труп.
А вот у Сергея дыхание уже начало сбиваться. Возраст. Черт! Ну когда же они кончатся?
Безумцы кончились.
Но не кончилась битва.
Внезапно перед Духаревым появился не полуголый псих, а нормально одетый смерд. Заорал, выпучил глаза и метнул дротик. Ловить было нечем, уклоняться нельзя (за спиной — люди), так что отбил. Вернее, срубил. Не совсем удачно. Древко отскочило в лицо, рассекло скулу. Хорошо, что в глаз не попало.
На смену зарубленному метальщику пришли сразу двое. У одного тоже дротик, а вот у другого — тяжелая сулица. Вот когда щит не помешал бы! Духарев, с двух рук, отбил оба предмета вверх, молясь, чтобы никому за спиной не прилетело, махнул по нижнему уровню, вспарывая плоть, толкнул в плечи Мелентия и Развая, крикнул: «Сомкнись!» И отступил за спины. Оглянулся.
На крохотном пятачке сгрудились его люди. Челядники, раненые… А, вот и Слада, перевязывает кого-то. В груди чуток отпустило. Над ней, ранеными и женщинами — шалашики из щитов.
— Стрелять кто умеет? — крикнул воевода челядникам.
Четверо отозвались тут же. Еще двое — чуть погодя.
— Берите луки и бейте над головами. Как сможете. Выживем — вольную дам. Кто захочет.
Сам взял собственный лук, примерился и выстрелил между голов гридней.
Смерд, как раз собравшийся метнуть копьецо, опрокинулся на своих со стрелой в груди. Сергей круто развернулся и выцелил следующего.
В общем, уличи выбрали разумную тактику. Не стали лезть по трупам, чтобы сойтись врукопашную, а решили закидать острыми предметами. Учитывая их численность — отличная идея. За то время, что Духарев провел в кругу (минута, максимум), ранили одного гридня и еще одному пришлось заменить щит, потому что вражье копье увязло очень основательно.
Но забыли, злодеи, что не у них одних есть дистанционное оружие.
Духарев за две минуты выпустил три дюжины стрел. Натягивал на треть, силы берег. И так хватало — почти в упор, в бездоспешных. Его холопы тоже сеяли смерть, но уже в толпе.
Кажется, боевой дух у противника поубавился. Вот так-то! Настроились, вишь, метать по живым мишеням, а мишени взяли и дали сдачи!
— Развай! — взревел Духарев в полную мощь, чтоб все слышали. — Стрелами — бей!
У кого-то снаряженные луки в налучах уже были за спиной. Кому-то пришлось покинуть строй, однако никто не сробел. Щиты наземь, мечи — в ножны. Дистанция — двадцать метров. Прямой выстрел. Вразнобой защелкали тетивы. Сначала били на выбор — самых агрессивных, метателей. Потом — всех подряд.
Похоже, луков у нападающих не было. Решили, что охотничьими стрелами бронных не обидеть. В общем, правильно решили. Хотя можно и по ногам бить, и в незащищенную часть лица целить. При плотном обстреле не устояли бы…
Но не устояли смерды. Испугались. Бросились врассыпную, оставляя на грязном снегу дергающиеся тела… Неужели — всё?
Да, всё. На этот раз отбились. Уличи разбежались. Все. Даже те, кто не дрался, а грабил, тоже дали деру.
Духарев без сил опустился на поднесенное кем-то седло. Устал адски.
Гридни еще поупражнялись в стрельбе, подшибая мародеров, уволакивающих духаревское и общее добро. Потом поле битвы опустело. Пришло время посчитать потери.
Потери были ужасны. На ногах осталось всего двадцать шесть дружинников. Восемнадцать раненых. Остальные мертвы. Тех, кто упал, добили опоенные психи. Из холопов пострадали четверо. И одну девушку убили случайным дротиком.
Что хорошо — уличи не тронули жратву. Нашлась у них добыча получше.
Глава шестая. Игра на добивание
Раненых уложили на сани. Это были те, кто получил серьезные раны. Сладислава сказала, что при должном уходе большинство выживет. Только как его получить, этот должный уход?
— Это уж твоя забота, муж, — сказала Сладислава, извлекая щепку из скулы Сергея и густо накладывая мазь. — Я сделала, что могла.
— Я сделала, что могла.
Держалась она изумительно. Уверенно и бесстрашно. Одним лишь видом внушая раненым надежду.
Духарев тоже держал лицо, но понимал — дела их — кислые.
Да, уличи потеряли кучу народа: примерно четверть личного состава. Но это ничего не меняло. Да, сбежали. Но непременно вернутся и добьют. Их колдуны сварят еще бочку бешеного молочка или чем там они опаивали людей, и опять придется схватится с сотней доморощенных берсерков. А за ними — еще тысяча. Добивать.
Но раньше, к некоторому удивлению Духарева, явился Лисянин. Один. С веткой в руке.
— А где твои дружки, Калас со Щитобоем? — поинтересовался воевода.
— Они не могут прийти! — заявил военный лидер Медведей.
Понимай как хочешь. Либо — мертвы, либо — ленятся, либо это личная инициатива Лисянина.
— Я пришел предложить тебе уйти, — без всяких околичностей заявил вождь. — Забирай своих — и убирайся.
Предложение слишком шикарное, чтобы в него поверить. Но Духарев сделал вид, что принял его за чистую монету.
— Нам нужны лошади, — сказал он. — Самое меньшее — голов двадцать.
— Зачем?
— В сани запрячь.
— Десять, — возразил Лисянин. — Пяти саней вам хватит.
— Хорошо, — не стал спорить Духарев. — Пусть будет десять. Когда?
— Завтра утром.
— А почему не сейчас?
— Завтра! — отрезал вождь. — Ты согласен?
— Да.
И Лисянин ушел.
Клятвы о том, что уличи не причинят им вреда, Духарев требовать не стал. Выбора у него всё равно не было. Утопающий хватается за соломинку…
Соломинка не спасла. Сволочь Лисянин обманул. Надеялся, что его враги утратят бдительность.
Тоже ошибся. Духарев доверял ему не больше, чем подколодной змеюке. Тем более, с вечера в лесу слишком бодро тюкали топоры. Слишком долго и часто для простой заготовки топлива.
Уличи напали под утро. Когда звезды только-только начали гаснуть.
Как и раньше, навалились всей массой. Только вместо щитов волокли с собой заостренные древесные стволы. Решили, значит, тараном строй разбивать. Как крепостные ворота.
Поредевшее воиство Сергея окружило сани. Не строй, а чахлая цепочка.
Рука Духарева, потянувшаяся к колчану, случайно наткнулась на рог.
Повинуясь наитию, он поднес его к губам.
Протяжный, чуть гнусавый звук поплыл над просыпающимся лесом. Такой слышен за несколько километров. Вот только слушать — некому.
Затея с бревнами не удалась. Первый же залп вывел из строя достаточно «несунов», чтобы «тараны» попадали. Впрочем, и смысла в них уже не было. Вместо монолитного щитового строя уличам противостояла разрозненная цепь безмерно уставших, не верящих в победу воинов. Но всё же — воинов. Так что биться они будут до конца.
Луки вернулись в налучи. Пришло время мечей. Небо над лесом посветлело.
Духарев и еще трое дружинников, получивших ранения в ноги, устроились с луками на санях. Раненых закрыли щитами. Не зря. Уличи вспомнили, что у них тоже есть луки. Правда, стреляли редко и аккуратно. Опасались попасть в своих. Но всё равно попадали. Духарев слышал, как поют вражеские стрелы. Пару раз ему даже влепили в грудь, но он даже не пошатнулся. Двойной панцирь из охотничьего лука охотничьим наконечником не пробить. Сергей работал как машина. Наложил стрелу, выстрелил, наложил стрелу… Бил туда, где уличи наседали активнее.
В победу он не верил. Спасти могло только чудо. Губы непроизвольно бормотали молитву… А руки рывком натягивали лук, в треть силы, до носа, и посылали очередную смерть.
Цепочка гридней редела.
Цепочка гридней редела. Их осталось дюжины полторы. И на каждого наседали по три-четыре врага. Если бы не трупы под ногами, последним защитникам пришлось бы еще труднее…
Лохматый смерд с топором в лапе, рыча, полез на сани. Духарев пнул его ногой в лоб.
«Ну вот и всё!»
В колчане осталась последняя стрела. Она досталась какому-то мужику, мгновение назад воткнувшему рогатину в бок дружинника.
Сергей обнажил клинки и спрыгнул вниз. Едва не поскользнулся на мягком — на мертвеца угодил, — но удержал равновесие. И успел отвести удар вил. Ну надо же, вилы! Чертовски обидно будет погибнуть не от благородного меча, а от сельскохозяйственного орудия.
Владелец вил завопил от боли и ужаса, оставшись без руки. Топор на длинной рукояти, типичный инструмент лесоруба, свистнул, целя в бок… Мощный удар. Но Сергей не дерево. Шажок в сторону, дровосека занесло, чуток развернуло… И укол в шею довершил дело. Брызнувшая кровь оросила лицо еще одного смерда. Тот заорал, зажмурился. И завопил уже совсем по-другому, когда сабля Сергея выпустила ему кишки.
И тут, когда всем уже было ясно: конец, — вдруг, перекрывая лязг и дикие вопли раненых и бьющихся, над поляной мощно, разъяренным туром, зарычал боевой рог.
«Не верю», — подумал Духарев.
Но рог взревел еще раз…
Битва не остановилась. Уличи продолжали наседать. Смерды, они не умели вычленять из шума нужные звуки. А вот Духарев — умел. И отчетливо услышал характерный, глухой и тяжкий топот наступающей конницы.
— Помощь идет! — заревел он во всю мочь. — Держись, гридь!
И заработал железом с удвоенной силой, не жалея себя, не экономя, потому что появилась надежда…
Минута — и с высоты своего почти двухметрового роста он увидел, как заволновалась и потекла плотная толпа уличей. И еще он увидел, как четкий клин бронной конницы врезался в эту толпу, рубя, топча, калеча…
Осадившие жалкую кучку дружинников смерды ослабили натиск, завертели головами, пытаясь понять, что происходит… Но не успели. Конские оскаленные морды повисли над головами самых ярых, замелькали клинки. Секунда — и всё.
— Батька! Живой!
Духарев не сразу узнал Артёма. В бороде. Но — узнал. Засмеялся счастливо.
— Живой! Гони их, Артёмка! И попробуй главных живьем взять! Главарей, волохов!
Князь уличский не стал тратить время зря. Тотчас засвистел пронзительно. Всадники развернулись в линию, погнали бегущих смердов, настигая, секли по беззащитным затылкам…
— Важных — живьем!!! — услыхал Духарев и привалился спиной к саням.
Чудо свершилось.
Глава седьмая. Артём Серегеевич, князь уличский
Артёму удалось взять двоих вождей: Каласа и Щитобоя. Первый был ранен, второй просто не вовремя проявил мужество — дрался до последнего. Лисянин, пес медвежий, сумел удрать. Его не преследовали. У Артёма было не так уж много людей, одна большая сотня: он ведь отца выехал встречать, а не спасать. Взяли трех жрецов, подстреленных во время пляски, и еще одного, зазевавшегося.
Сотни две обычных смердов, захваченных в плен, прибирали тела, сбрасывали в здоровенную яму, вырытую в мерзлой земле. Их трудолюбие подбадривали вопли допрашиваемых специалистами вождей и жрецов.
Кое-что уже удалось выяснить. Сказанное взятым во время вылазки пленником подтвердилось. Никто извне смердов на княжью власть не поднимал. Сами взбутетенились. То есть не совсем сами, а стимулируемые амбициозными вождями и жреческой верхушкой. Старшие, еще помнившие, как князь-воевода Свенельд наводил порядок на отбитой у угров территории, пытались отговорить. Без толку.
«Свенельда над нами уже нет, а нового князя мы и в глаза не видели!» — отвечали смутьяны.
Спрашивается, зачем дань платить при таком раскладе?
Боялись Киева.
Спрашивается, зачем дань платить при таком раскладе?
Боялись Киева. О новом великом князе говорили: нравом крут. Но тут прошел слух, что Владимир уехал на полюдье. Не к ним. Значит, платить ничего не придется. Разве что богам занести — за незримую помощь. И тут, откуда ни возьмись — Духарев со своей гридью. Вопрос: с какой целью появился на уличских землях большой воинский отряд? Ответ — за данью.
Так сказали жрецы, и никто не усомнился.
Жрецы, жрецы… Среди смердов их авторитет был непререкаем. За ними боги, как-никак. Так что рулили они простонародьем, как хотели. Вернее, хотели бы — единолично. А тут, понимаешь, какие-то князья, оброк, полюдье… Изъятие имущества, которое по праву должно было достаться им, жрецам.
Меж собой, правда, представители многочисленных культов тоже грызлись, но — умеренно. За века совместного существования территории влияния более-менее распределились. Каждый бог ведал своей частью жизни. А если сферы влияния пересекались, значит, подарки надо было делать всем кумирам сразу. Причем норовили не только имуществом брать, но и жизнями. Кумиры, они кровушку любят. Правда, человечинка им доставалась нечасто. Обычно — всякой домашней живностью… Которую потом можно и скушать. Бог — он ведь и запахом сыт будет. Зачем ему мясо?
Нельзя сказать, что эти религиозные паразиты ничего не могли. Еще как могли! Вот, например, берсерочью роту организовать. Или массовый падеж скота устроить. Или наоборот — вылечить захворавшую скотину. Стрелы заговорить могли, чтоб промаха не давали. Амулет зачаровать — от всякой лесной нечисти. Хотя в основном специализировались по части гадостей.
Из всех служителей языческих культов Духарев готов был терпеть только жрецов Волоха. Эти конкретную пользу приносили. Людей и скотину врачевали просто замечательно. Учитывая, что другой медицины у смердов не было, очень нужные люди. Другие… Среди других, впрочем, тоже встречались серьезные экземпляры. Силушкой природной владели, руды подземные чуяли, от беды могли предостеречь… Но большинство нагло использовало положение, для того чтобы властвовать и получать материальные блага. До христианских подвижников им было ой как далеко. Впрочем, и боги у них были соответствующие.
Допрошенные порознь и с пристрастием, и жрецы и бывшие военные вожди выдали практически одну и ту же версию. За честность им был сделан царский подарок. Быстрая смерть.
С их подельниками еще предстояло разобраться.
Отоспавшийся Духарев подошел к шатру сына.
Князь-воевода уличский брился. Пользуясь плоскостью клинка вместо зеркала и кинжалом вместо бритвы, изничтожал бороду.
— Зачем ты вообще ее отпустил? — поинтересовался Духарев.
Артём приостановил бритье, поглядел на отца.
— У этих, — сказал он, показав кинжалом в сторону прибиравших поле боя смердов, — мужчина без бороды — юнец. Думал — уважать больше будут. — И, будто извиняясь: — Я ведь по-хорошему хотел, по-доброму. Мне и печенежской крови хватает. Теперь — всё. Не хотели любить — будут бояться! Мамки будут именем моим детей стращать! За любую провинность — смерть! Вот с этих, — кинжал снова указал на смердов-мортусов, — и начну!
— Убьешь их? — с неодобрением спросил Духарев.
— Убью.
— А если бы не на меня с матерью твоей напали, а на купцов обычных — пощадил бы?
— Может, и пощадил. Спустил бы шкуру со спины — и отпустил. Но теперь — нет. И ты не спорь, батя! Если бы обо мне, о семье моей речь шла — ты бы иначе поступил?
Духарев задумался, прислушался к себе… И покачал головой.
— Но всё же не по-христиански это, — сказал он. — Ты, может, виру с них возьми, а?
Артём засмеялся:
— А виру взять — это по-христиански, да? И откуда у них такие деньги? Сорок гривен серебром — за каждого убитого! Нет, бать, эти заплатят жизнью.
А виру я возьму с других.
— Ты князь, — кивнул Духарев. — Тебе решать. И спасибо тебе!
— За что же? — удивился Артём.
— Жизни наши спас.
— Разве ж за это благодарят? — Артём, похоже, удивился. — Это долг мой. И княжий, и сыновний. И то опоздал. Воев твоих славных, считай, всех побили. Хорошо хоть тебя с матушкой уберег — рог твой вовремя услыхал, слава Богу! Мы же совсем рядом ночевали, стрелищах в пяти.
— Слава, — согласился Духарев и встал, чтобы поглядеть: как там раненые?
— Как дела закончим, — крикнул ему вслед князь-воевода, — так и поедем. Только поедим сначала. Мои вон уже кашеварят.
На ногах осталось всего двое гридней: Развай и Карн. Оба — варяги. Не сказать что невредимые, но раны — пустяковые. Примерно как у Сергея. Раненых было — тридцать три. В том числе — Мелентий, получивший глубокий порез икры и дырку в левом предплечье. Ромей оказался отличным воином.
Слада заверила, что раны Мелентия чистые и не опасные. Жить будет и, глядишь, дня через четыре и вовсе на ноги встанет. А вот шестеро из остальных тридцати двух вряд ли дотянут до следующего дня.
Вот ведь какая беда. Поехал, понимаешь, сына навестить…
— Ты уж прости меня, Мелентий, что в этакое дело тебя втянул, — повинился Духарев. — Не думал я, что неспокойно здесь.
— Всё в руках Божьих, — философски заметил ромей. Подумал немного и добавил: — А подарок твой — пропал.
— Нашел о чем печалиться, — Духарев улыбнулся. — Я тебе другую шубу подарю. Было б кому дарить!
И присел рядом с другим раненым — поддержать и утешить.
* * *Улич — небольшой городок. Но крепкий и ухоженный. То же можно было сказать о княжьем тереме.
Доброслава, внучка князь-воеводы Свенельда, встречала родителей мужа со всем почтением: свежеиспеченным караваем и низким-низким поклоном.
Она уже собралась произнести и речи подобающие, но тут увидела, как во двор въезжают сани с ранеными, и лицо ее враз изменилось. Сунув каравай одной из девок, тут же принялась командовать. Засуетилась набежавшая дворня, забегали по терему холопы, освобождая и готовя лучшие комнаты для раненых…
Артём улыбнулся супруге, коснулся ее губ и поманил отца за собой.
Доброслава задержалась на мгновение, чтоб поцеловать руку тестю, и сбежала вниз, во двор. Распоряжаться. Сладислава осталась с ранеными.
— Сегодня я твой, батя, — сказал Артём, усаживаясь на лавку, оставив для отца высокое княжье кресло. Сергей не воспользовался им — тоже сел на лавку, рядом с сыном.
— А почему — сегодня?
— Завтра поеду суд вершить. Сам понимаешь: откладывать нельзя. Разбегутся, попрячутся.
— Смердов береги, — попросил Духарев. — Им тебе дань платить. Да и милосердие…
— Зря резать не буду, — твердо пообещал Артём. — Но язвы языческие выжгу. Твоя доля — четвертая. Считай это вирой за то, что не уследил за порядком.
— Какая доля? — удивился Духарев.
Артём усмехнулся. Жестко, даже страшно.
— С тех богатств, что эти бесолюбцы с моей земли насобирали.
— Волоха жрецов не трогай! — строго произнес Духарев.
Они встретились взглядами… Сын уступил.
— Не трону, — пообещал он. — Скажи-ка мне, батя, что за ромей с тобой приехал?..
Глава восьмая, в которой великий князь Владимир сменяет гнев на еще больший гнев и пытается узнать, какая вера — правильная
Великий князь киевский был в ярости.
— Скажи-ка мне, батя, что за ромей с тобой приехал?..
Глава восьмая, в которой великий князь Владимир сменяет гнев на еще больший гнев и пытается узнать, какая вера — правильная
Великий князь киевский был в ярости.
— Твой сын! — прошипел он. — На моей земле!..
— Во-первых, он не только мой сын, но и твой князь-воевода, — спокойно произнес Духарев. — Во-вторых, земля эта ему не от тебя, а в приданое досталась, а в-третьих, те, кто успел донести до тебя эту замечательную весть, верно, забыли упомянуть о том, почему так случилось.
В бешеном взгляде Владимира Святославовича молний поубавилось. Так и есть, «забыли».
— Коли так, позволь я расскажу тебе…
И рассказал. Всё в подробностях. Не приукрашивая, но и не приуменьшая.
— Вот этот значок, — Духарев коснулся розового шрама на скуле, — оттуда.
Владимир ни на мгновение не усомнился в правдивости рассказа. Ярость его не уменьшилась. Но обратилась совсем в другом направлении.
Суть его сводилась к фразе: «Всех виновных — на кол!»
Действительно обидно, когда какие-то чужие уличские смерды нападают на твоего воеводу.
Духарев глянул мельком на неизменно присутствующего на их встречах Габдуллу. Обычно невозмутимый шемаханец ухмылялся.
Интересно, чему он радуется?
Когда Владимир сбросил пар, Духарев решил сменить тему:
— Что случилось, того уж не изменить, княже, — сказал он. — Хочу напомнить тебе о ромейском после. Правда, он еще не оправился от ран, но, думаю, всё равно охотно с тобой встретится.
— Он ранен? — нахмурился Владимир. — Кто посмел?
— Это я виноват, — признался Духарев. — Пригласил его с собой в Улич. Поохотиться. Кстати, ромей показал себя неплохим воином…
Великий князь выдохнул сквозь стиснутые зубы… Но совладал с собой. И даже Сергея не упрекнул, что рисковал жизнью посла. Кто ж знал?
— Я пошлю за ним, — сказал он. — Хочу, чтобы ты тоже был.
— Буду, — заверил Духарев.
— И за сыном твоим, князем, тоже пошлю, — добавил Владимир. — Хочу послушать, как он бунтовщиков усмирял. Надеюсь, он проучил их как следует.
— Я просил его быть помягче, — кротко произнес Духарев. — Смерды — они же овцы. Если овца заблудилась, виноват пастух.
— Христиане… — проворчал Владимир. — Эта ваша мягкость до добра не доводит.
— Ислам, — вдруг подал голос Габдулла. — Говорил я тебе, мой господин. Только ислам — истинная вера. Нет Бога, кроме Аллаха! Ислам — вера настоящего воина! Только погибший в бою попадает на небо!
— Ха! — воскликнул Владимир. — Эка невидаль! И у нурманов так, и у нас, варягов! Чтоб ради этого я отказался от пития и вепрятины!
Духареву показалось, что это уже далеко не первый спор князя с телохранителем.
— Истинный Бог… — начал шемаханец.
— Выйди, Габдулла! — резко приказал Владимир. — Я со своим воеводой один на один поговорить хочу!
Шемаханец молча поклонился и покинул комнату. Однако он всё еще улыбался… Нет, очень, очень интересно, что так порадовало бохмичи.
— Ты мудрый человек, воевода, — задумчиво произнес Владимир, когда телохранитель вышел. — Хочу поговорить с тобой о сокровенном. — Он поднялся, прошелся от одного окна горницы до другого, остановился напротив Сергея, достаточно далеко, чтобы не задирать голову:
— Хотел я собрать вместе всех родовых богов земли моей, — сказал он.
— И поставить над всеми Перуна. Чтоб и средь богов было — как средь людей. Я — наверху, остальные — подо мной. Согласно заслугам их. Вижу, что не получается. Восстают на меня и люди, и боги. Нет, я смердьих богов не боюсь! — тут же уточнил князь. — Но покорности нет. И не будет. Верно, воевода?
— Не будет, — согласился Духарев. — Потому что не боги это, а так… Мы их бесами называем. Бог же — один.
— Расскажи мне, боярин, о своем Христе, — попросил (именно попросил, а не велел) Владимир. — Расскажи о его законе, о том, чем он лучше моего Перуна, хузарского Ягве или Аллы бохмичей?
— Не меня об этом надо спрашивать, княже, — покачал головой Сергей. — Я о таких вещах говорить не умею. Об этом лучше с законоучителями толковать. Или с отшельниками, что в береговых пещерах живут. Они к Богу ближе.
— Зато ты — мой ближник, — возразил Владимир. — Вдобавок — ведун. Ходишь за Кромку, а говоришь, что — не знаешь. Или врут мне жрецы, и нет за Кромкой никаких богов?
— Моего Бога там нет, — твердо произнес Сергей. — Во всяком случае, Его там не больше, чем здесь. Там, за Кромкой, — другой мир, вот и все. А Бог… Я думаю, и хузары, и магометяне-бохмичи, и мы, христиане, верим в одного Бога. Только молимся по-разному.
— Вот это я и хочу знать: кто из вас молится правильно? Чей закон лучше? Чей бог сильнее? Может, все-таки — Перун?
— О Перуне тебе лучше знать, княже, — заметил Сергей. — Ты — его верховный жрец.
— О Перуне я знаю. Знаю, когда он со мной: и в битве, и в танце священном, и даже, — Владимир усмехнулся, — когда женщину беру. Перун входит в сердце мое, в рамена, в чресла… Пока я не был стольным князем, пока был простым вождем: ходил в вики, убивал врагов, брал добычу и женщин, радуясь нынешнему дню и не думая о завтрашнем, — мне было довольно моего бога. Но сейчас я — великий князь. У меня есть и богатство, и сила, и женщины. Раньше за такой вот камень, — Владимир погладил украшавший оголовье кинжала рубин в обрамлении плоских, грубо обработанных алмазов, — я готов был пройти тридцать поприщ и убить столько врагов, сколько понадобится. Теперь мне надо заботиться о том, чтобы кто-то другой не пришел, не убил моих людей и не отнял то, что у меня есть. Закон Перунов прост: приноси жертву, не брей усов… Но главный — убивай врагов. Мой отец славно послужил Перуну, но печенеги убили его. Убили на острове Хорса. Может, мой отец чем-то прогневал Солнцебога? Или на земле Хорса Перун слаб? Мне с детства говорили: у каждого бога своя земля. Я собрал богов всех своих земель и поставил Перуна выше всех: пусть правит богами полян и древлян, кривичей и вятичей. Я хочу, чтобы Перун не только давал мне силу убивать врагов. Я думаю о том, как сохранить мою землю. И когда я об этом думаю, Перуна со мной нет.
Честно говоря, удивил он Сергея. Мудростью неожиданной удивил.
— Я, княже, во Христа верую, — сказал Духарев. — А как верить лучше или хуже — не моего ума дело. Это сердцем чуют.
— А я вот не чую, — пожаловался великий князь. — То есть чую, что не так что-то, а как надо — не вижу. И не о себе одном думаю — о земле моей обширной. Ошибусь — потеряю ее. Останусь без отчины, как хузары. Вот скажи: не защитил хузар их Бог, значит, вера их — неправильная, так?
— Есть у меня друг, — сказал Духарев. — Машег. Да ты его знаешь.
— Знаю, — кивнул Владимир. — Добрый воин. И дети его — такие же.
— Добрый воин. И дети его — такие же.
— Кабы верил хакан хузарский воинам своим — и поныне стояла бы Хузария. А хакан Йосып — не верил. Боялся, что сочтут его недостойным и другой станет хаканом.
Владимир хмыкнул:
— Ну это не обо мне, — произнес он уверенно. — Великий князь — я. Князем и останусь, пока жив. И умру им, если нужда будет.
— Вот-вот, — кивнул Духарев. — А Йосып своих боялся, верных — казнил, слабых, но льстивых — одарял. И за золото нанял себе храбрых и доблестных воинов-бохмичи, чтоб дрались за него.
— Не такие уж они и доблестные, раз отец мой их побил, — возразил Владимир.
— Не о том речь, — сказал Сергей. — А о том, что чужие не станут защищать твою землю так, как свои. Ты ведь и сам это делаешь, княже, когда нурманов и других северных ярлов на свою землю сажаешь. И великий князь Святослав так делал. Были чужие — стали свои. Можно воинов за деньги нанимать. Худого в этом нет. Но своих всегда должно быть больше. А от нанятых избавляться следует, едва нужда в них пропадет. Так же, как и ты это сделал.
Владимир наклонил голову, чтобы спрятать улыбку. Похвала воеводы была ему приятна.
— Иначе, — продолжал Духарев, — придет время, когда наемники, тобой прикормленные, перестанут довольствоваться жалованьем или данью и захотят взять всё.
— И правильно! — одобрил великий князь. — Если у них — сила, почему бы и не взять?
— Именно. Так что не в хузарской вере дело, а в ее правителях. Они сделали Хузарский Хаканат слабым. Не приди Святослав, Итиль все равно пал бы. Достался тем бохмичи, что его защищали. Да он и так им достанется, раз мы его не удержали.
— Выходит, вера бохмичи — правильная? — прищурился Владимир.
— Наверное, — пожал плечами Духарев. — Я — не бохмичи.
— Но ты смотри: Хузария правила Булгаром. И нет Хузарии. А Булгар принял веру моего Габдуллы — и теперь Булгар зовут Великим. Значит, хорошая это вера?
— Рассказывал мне мой учитель Рёрех такую историю… — Духарев утомился стоять и опустился на лавку. Оставшийся на ногах Владимир на этакое неуважение внимания не обратил. — Ходили они со старшим братом твоего отца Хельгу Тмутороканским по Хвалынскому морю на Шемаху. И был у них ряд с хаканом хузарским, что, когда обратно пойдут, тот им за долю малую позволит на своей земле лагерем стать, едой обеспечит да и передохнуть даст немного после трудного пути. Обещал — и обманул. Встали русы на берегу, а ночью напали на них наемники хакана, бохмичи… Еле отбились. Потеряли многих. Сам Хельгу, хакан тмутороканский, тогда погиб. Был бы дед твой Игорь похож на твоего отца, отмстил бы хузарам. Но Игорь не рискнул. Согласился на виру и на то, что не хакан, мол, велел русов бить, а сами его бохмичи решили отомстить за убитых в Шемахе единоверцев.
— Хочешь сказать, что все бохмичи теперь — мои кровники?
— Нет. Хочу только напомнить, что для бохмичи все люди другой веры — враги. И если бохмичи дает клятву человеку другой веры, то это лживая клятва.
— Ну нет! — воскликнул Владимир. — Вот мой Габдулла поклялся — и верен!
— Так он же не только тебе клятву давал, — напомнил Сергей. — Рядом жрец бохмичи стоял. Всё слышал. И стал свидетелем клятвы пред Богом. Нет, княже, я так не могу. Мое слово — крепкое. Кому бы я его не дал. И твое — тоже.
— Да, — подтвердил Владимир. — Так и есть. И еще я вепрятину люблю! Такую, чтоб жир горячий с нее капал! И не пить я не могу! Это как же: будет дружина братину поднимать, а батька их — морду воротить? Да и не хочу я от пива да вина отказываться! Весело мне от них!
— Это, княже, ты сейчас как человек рассуждаешь, а не как владыка, — возразил Духарев.
И еще я вепрятину люблю! Такую, чтоб жир горячий с нее капал! И не пить я не могу! Это как же: будет дружина братину поднимать, а батька их — морду воротить? Да и не хочу я от пива да вина отказываться! Весело мне от них!
— Это, княже, ты сейчас как человек рассуждаешь, а не как владыка, — возразил Духарев.
Князь нахмурился:
— Ну и как же, по-твоему, должен владыка рассуждать?
— А вспомни, что я тебе сказал: для бохмичи все, кто другой веры, — враги. Значит, и ромеи — враги, и ляхи, и угры, и германцы… Все, кто вокруг, — потому что бохмичи нынче только в Великом Булгаре живут. Но до Булгара — далеко, и он нам — не помощник. Значит, примешь веру своего Габдуллы — и придется тебе со всем миром воевать. Как их пророк Бохмичи-Магомет и заповедовал. Хорошо ли это?
Владимир задумался… Но отвечать не стал. Уклонился.
— Много ты мне всего наговорил, воевода, — резюмировал он. — Ты мудр, но я — князь. Своим умом думать должен. Вот и подумаю. Ступай. Спасибо тебе!
Духарев поклонился и вышел. По ту сторону дверей — Габдулла. И опять — с улыбочкой.
Сергей резко остановился.
— Веселишься, холоп? — бросил он резко. — С чего бы?
Габдулла не оскорбился и не обиделся.
— Я знал, что господин мой сына твоего, Артёма-князя, в Киев позовет! — Шемаханец осклабился еще шире.
— А тебе что с того?
— Говорят, он недурно с оружием управляется? Получше, чем твой младший?
— Может, и так, — проворчал Духарев.
— А я бы проверил! — заявил Габдулла. — Как думаешь: не откажет?
— Вот у него и спроси! — буркнул Сергей, отодвинул шемаханца в сторону и зашагал к лестнице.
Вслед ему донесся смех бохмичи.
Вот же гад! И всё-таки почему он так похож на покойного Ярополка?
Глава девятая. Великий князь и посол византийского Василевса
На сей раз великий князь принимал византийского посла без лишней помпы.
Он сам, Добрыня, воевода Путята, ярл Сигурд, воевода Претич и, естественно, Сергей Иванович Духарев, более известный как боярин-воевода Серегей. В качестве гостя присутствовал князь черниговский, носивший пушкинское имя Фарлаф. Так повелось, что формально Чернигов признавал главенство Киева, а Фарлаф был правнуком одного их сподвижников Рюрика[17]. Лет на двадцать постарше Владимира, Фарлаф внешне от него изрядно отличался. Ростом повыше, намного толще, рожей пошире и вдобавок — обладатель могучей полуседой бородищи, отпущенной на полянский манер.
Мандатор Мелентий вошел, опираясь на плечо ромейского старшины. Он заметно прихрамывал, но выглядел бодро. На пол укладываться не стал.
— Божественный Автократор римский Василий Второй… — энергично зачастил он, — …предлагает тебе, хакан русов, великий князь киевский Владимир, согласно договору, заключенному твоим отцом, хаканом Святославом и василевсом Иоанном Цимисхием выполнить свой союзнический долг и оказать ему помощь в борьбе с мятежным Вардой Фокой, за что готов заплатить тебе пятнадцать кентинариев[18]. За эту плату Август и император рассчитывает получить от тебя не менее пяти тысяч отборных воинов!
Всё. Изложил. Выдохнул.
Воеводы переглянулись. Плата была более чем щедрая. Судя по физиономиям матерых вояк, предложение пришлось по вкусу.
— Нет, — сухо произнес Владимир.
— Нет? Почему? — Мелентий искренне изумился. Он-то рассчитывал, что без малого полтонны золота сразят варвара наповал.
— Я не торгую кровью своих дружинников, — холодно произнес Владимир. — А договор, что был заключен моим отцом, закончился с его смертью.
— Но…
Владимир глянул строго — и Мелентий заткнулся.
— Я никогда не был на вашей земле, — произнес Владимир, — и совсем мало знаю о ваших обычаях. Скажи мне, есть ли у вашего императора братья, сестры?
— Брат его Константин, соправитель и…
— А сестры? — перебил Владимир. — Есть?
— Анна… — пробормотал Меленитий, не понимая, к чему клонит великий князь. — Анна Багрянородная.
— Это хорошо, — кивнул Владимир. — Я никогда не стал бы продавать своих воинов за золото. Однако я мог бы прийти на помощь другу и родичу. Поэтому если твой господин действительно нуждается в друге, то, думаю, он согласится отдать за меня кесаревну Анну. Если он согласен, я приду. И приведу с собой шесть тысяч воинов.
«Опаньки! — подумал Духарев. — Вот это ход!» Потребовать в жены сестру ромейских императоров! Ту самую Анну, порфирогениту[19], которую в свое время Никифор Фока отказался отдать за императора Оттона. Император Священной Римской империи получил вместо нее принцессу Феофано, всего лишь племянницу Иоанна Цимисхия, еще одного узурпатора. И Оттон был вполне удовлетворен результатом. И это — христианский император. А тут какой-то архонт варваров, язычник, дикарь…
У Мелентия язык прилип к гортани.
Порфирородная принцесса! Никогда такого не было! Еще Константин Великий писал (и слова эти начертаны на престоле храма Святой Софии), что никогда василевс ромеев не породнится через брак с народом, чуждым ромейскому устроению и обычаям. То же, спустя полтысячелетия, писал и другой император, Константин Багрянородный, в своем трактате «Об управлении империей», уподобляя подобный брак чуть ли не браку с животным и призывая на нарушителя анафему и прочие кары.
Мелентий даже дышать перестал.
— …Что же до золота, — продолжал Владимир, будто и не замечая, что посол — в ступоре, — то и золото нам пригодится.
— Но, великий… — наконец нашел в себе силы пробулькать мандатор. — Никак невозможно это… Ты ведь даже не христианской веры…
— Я — сын своего отца! — гордо заявил Владимир. — Я не знаю такого слова: невозможно! Ступай. Ответные дары тебе принесут позже. И позаботься о том, чтобы весной в днепровском устье нас ждали корабли, которые доставят нас в Константинополь.
Мелентий повернулся и вышел. Он не был уполномочен торговаться или спорить. Но вид у него был — пришибленный. Кто знает, как отреагирует Василий на предложение Владимира. То есть, как отреагирует — понятно. Но как это скажется на судьбе посла? Вполне могут и голову открутить.
Духарев улыбался в усы. Нет, какой молодец Владимир! Каждое слово — в строку! Истинный князь! В сравнении с его требованием любое другое теперь казалось сущей ерундой.
Но не все разделяли восхищение Сергея. Едва ромеи ушли, воеводы загомонили. Суть их ворчания сводилась к тому, чтобы требовать больше денег. А тут — еще одна баба в княжеский гарем. Кому это надо?
Владимир поднял руку с коротким жезлом — атрибутом княжеской власти, и гомон стих.
— Воевода Серегей, объясни им.
Духарев встал.
— У василевса ромейского сейчас очень трудное положение, — сказал он. — Из Болгарии, куда он лично ходил воевать, его вышибли. На востоке империи — неспокойно. Варда Фока силен, и к нему постоянно присоединяются новые союзники. А основа его войска — иберийцы[20] и армяне, которые уже давно считаются лучшими воинами империи. Василий сидит в Константинополе и не рискует дать мятежнику бой. Так что с каждым месяцем его положение ухудшается.
Так что с каждым месяцем его положение ухудшается. А следовательно, он все острее нуждается в помощи. Так что весной мы будем нужны ему больше, чем сейчас. Да мы из него веревки вить будем!
Воеводы радостно оживились. Перспектива вить веревки из византийского василевса им понравилась.
Но первая радость схлынула, и князь Фарлаф спросил:
— А если этот Фока доберется до василевса раньше?
— Я так не думаю, — покачал головой Духарев. — Пока что большая часть страны — за Василием. Да и стены его столицы тоже не из глины.
— А если Василий побьет мятежников сам?
— Для этого ему надо найти подходящего военачальника. Такого, которому он доверял бы и который был бы воином, а не царедворцем. Он уже послал одного — и тот перешел на сторону мятежников. Нет, без нас он боя Варде Фоке не даст.
— А почему ты думаешь, что шесть тысяч дружинников помогут Василию победить? — подал голос Путята. — Я слыхал: у ромеев счет воев идет на десятки тысяч.
— Ты слыхал, а я — видел, — надменно произнес Духарев. Путяту он недолюбливал. — Видел и бил. Вместе со Святославом. Спору нет: ромейская конница очень сильна. Но сколько ее? И на чьей она стороне? А на стороне мятежников по большей части — ополчение.
Тут он немного приврал. Были у Варды Фоки и опытные ветеранские части, а уж те, что вернулись со Склиром из Багдада, и вовсе битые волчары. Но еще Духарев слыхал, что у Склира с Фокой — не всё гладко. Есть между союзниками некоторые трения. И за пару-тройку месяцев они, скорее всего, усилятся.
Но Путята не унимался.
— Василий кинет нас в самую кровавую сечу! — заявил он. — Мы все погибнем, и некому будет получать золото!
— А тебя никто и не зовет! — насмешливо произнес другой воевода, Претич. — Струсил — сиди дома на печке!
— Да я… — Путята вскочил.
— Сядь, воевода! — пробасил Добрыня. — И помолчи, коли ничего путного сказать не можешь. Великий князь сказал свое слово — не тебе ему перечить. Пусть говорит тот, кому есть что сказать дельного.
— Я бы пошел, — заявил Сигурд. — Мне нравится.
— И мне любо! — поддержал Претич и покосился на черниговского князя, которому служил до того, как перейти к Владимиру.
— Сам не пойду, — покачал головой Фарлаф. — Не люблю морем плыть. Но воев бы дал. Пять сотен.
Путята пробубнил что-то себе под нос, но тихонько. Добрыня сказал: помалкивай, значит, молчим. За княжьим вуем Путята ходил, как нитка за иголкой. Истово и преданно. Обоих это устраивало.
— Ну раз договорили, то пора и усы медом смочить, — завершил Добрыня, и военный штаб киевского князя отправился пировать.
— Ты это ловко пошутил с порфирородной принцессой, — похвалил великого князя Сергей. — Теперь любое твое требование малым покажется.
— Пошутил? — Владимир удивленно поглядел на своего воеводу. — А с чего ты взял, что я — пошутил?
Глава десятая, в которой воеводе Серегею предлагают сплавать в далекие края
Артём приехал в Киев через неделю. С полусотней гридней. Остальная его дружина продолжала «воспитательную работу» среди уличей.
— Хорошо потрудился? — спросил Духарев сына за обедом.
Артём улыбнулся:
— Недурно. Прибрался как следует. Оставил, только чтоб до весны дотянуть да поля засеять. Кормильцев мы с тобой проредили. Теперь смердам не до бунтов. А капища языческие вымел начисто. Вот уж кто зажирел так зажирел.
— Может, не стоило богов обижать? — деликатно вмешался Артак.
— Может, не стоило богов обижать? — деликатно вмешался Артак. — Боги — они обидчивые.
Они с Рёрехом традиционно присутствовали на семейном обеде.
— Не боги это — идолы! — тут же вмешалась Сладислава.
Рёрех заперхал. Это он так смеялся.
Потом изрек:
— Смердьих богов бояться нечего. Их вон даже сами смерды палками бьют, если не угодят. Скажи лучше, много ль взял?
— Золота почти пуд, серебра — за две сотни гривен. Остального и не считал. А жадные они, эти жрецы! Иному и пятки припечешь, и шкуру на ленты распустишь — молчит, как идолище его. Но я для таких дел четверых нурманов взял. Эти…
— Нашел о чем за столом говорить! — сердито оборвала его мать. — Лучше о внуках расскажи!
— А что — внуки? — пожал плечами Артём. — Малы еще, а за тот месяц, что ты их не видела, не особо и подросли.
— А здоровы ли?
— Уезжал — были здоровы. А коли так печешься, приезжай. Княгиня моя тебе рада будет.
— Так уж и рада? — усомнилась Сладислава. — Две хозяйки на одном подворье…
— Почему ж две? Она хозяйка, а ты — гостья дорогая! Отдыхать будешь да нежиться. А то бегаешь тут целый день без роздыху!
— Мать дразнишь? — поинтересовалась Сладислава. — Это ты в Уличе своем — князь. А от меня живо ложкой схлопочешь!
Артём встал, обошел вокруг стола, обнял мать:
— Ох, матушка, матушка! Столько лет прошло, а ты — всё такая же!
Возвращаясь на свое место, сочно хлопнул по заду девку-прислужницу:
— Вина налей! — Снова встал: — За вас, батюшка и матушка! Живите вечно и горя не знайте!
— Артём, ты от взятого на уличах дольку князю отдай, — вполголоса сказал сыну Духарев. — Гривен десять. А то на тебя уже жаловаться приходили: мол, зоришь святыни языческие!
— И что Владимир?
— Я ему разъяснил, кто и что зорит, но подарок ему будет приятен. Не помешает. И еще одно у меня к тебе дело есть. Ты ведь с Вольгом, которого Варяжкой кличут, дружен был?
— Не без того, — кивнул Артём. — Было время, у меня сотником ходил. Пока Ярополк его к себе не приблизил.
— Не попробовал бы ты его уговорить обратно в Киев вернуться? Не дело это, когда сын Ольбарда белозёрского с печенегами по Дикому Полю шастает.
— Я, может, и попробовал бы, да что скажет Владимир?
— С Владимиром я решу.
— Вот это правильно! — одобрил прислушивавшийся к беседе Рёрех. — Я б и сам с Вольгом поговорил, да стар уже для дальнего пути. Но можешь передать ему, что я ему наказываю от копченых уйти. Я в роду годами старший, он повиноваться должен!
— Непременно скажу, дед. Что еще, бать?
— Еще? К ромеям с нами летом не хочешь сходить?
И вкратце пересказал будущие перспективы похода в Византию.
Артём выслушал внимательно, потом покачал головой:
— Не поеду, батя. Надо ведь и земли наши кому-то от копченых защищать. Сам знаешь: уйдет великий князь с дружиной — они и тут как тут. Пусть Славка идет. Он не откажется. Когда он, к слову, возвращается?
— До весны точно вернется.
— Вот и ладно, — кивнул Артём. Поднялся. — Спасибо, Господи, за трапезу сию! И вам, батюшка, матушка, спасибо! Пора мне к великому князю. Думаю, ему уже донесли, что я приехал.
— Погоди! — сказал Духарев. — Я — с тобой. А гридней своих можешь тут оставить. У меня нынче места вдоволь.
Развай мне новых ближников еще не набрал.
И помрачнел, вспомнив о потерях.
* * *Детинец, как всегда, был полон народу. Мастера гоняли отроков и детских, выводили и заводили коней, таскали в терем всякую снедь, резали живность для вечерней трапезы…
Воеводу и его сына приветствовали радостно и с почтением.
А со старым другом Устахом, тренировавшим на «детском» углу подворья троих беловолосых мальцов, одним из которых был старший сын Рогнеды и Владимира Изяслав, Сергей Иванович и вовсе обнялся.
Но дело не ждет.
— Сбегай к князю, — велел Духарев подвернувшемуся отроку. — Скажи: мы пришли.
Отрок умчался.
Однако первым появился не он, а Добрыня.
Обменялись приветствиями.
— Воевода, хотел бы с тобой кое о чем поговорить. Думаю, Владимир обойдется без тебя некоторое время. Пойдем!
Отказывать дядьке и правой руке великого князя Духарев не стал. Последовал за Добрыней в отведенные тому покои.
Артём остался ждать посыльного.
Однако шустрый отрок всё не возвращался, а вместо него появился средних лет воин с длинной, как у старца или волоха, бородой. Встал, подбоченился, клянул с вызовом:
— Ты — князь улицкий?
— Я. А кто ты? — Артём оглядел наглеца, пытаясь определить его статус. Роста среднего, плечист, на голове — немного странный для Киева высокий шлем с небольшим козырьком, бородища. На тулове — отличная, явно восточной работы двойная кольчуга, поблескивающая маслом. На ногах — мягкие сапоги. На поясе длинный, тоже восточный, кинжал и длинная арабская сабля в недешевых ножнах. А вот пояс… Пояс самый обычный. Широкий, с серебряными бляшками.
А должен быть — золотой. С таким-то вооружением.
— Я — Габдулла из Шемахи, прозванный Безотчим.
Значит, чужак. Однако по-словенски говорит хоть и с акцентом, но свободно.
— Что тебе нужно? — сухо поинтересовался Артём.
— Говорят, ты хорош на мечах, князь уличский?
Еще один любитель проверить, кто сильнее?
— До сих пор никто не жаловался, — сдержанно ответил Артём. — Надо думать — не успевал.
За спиной кто-то хохотнул. Понравилось. Ну да, пока разговаривали, вокруг собралось человек тридцать из киевских. Да еще десяток самого Артёма.
— Надеюсь, лучше, чем твой брат, — ухмыльнулся Габдулла. — Потому что его я побил легко.
Тут Артём понял, кто этот человек, и тоже показал зубы.
— Будь я на месте Богуслава, великому князю не пришлось бы утруждаться, — процедил он. — Зато воронам была бы радость.
Шемаханец должен был рассердиться, но вместо этого улыбнулся вполне добродушно… И Артём вздрогнул. Потому что это была улыбка князя Ярополка. И если убрать дурацкую бороду… Вылитый Ярополк Святославович! Вспомнилось, что и отец говорил что-то об удивительном сходстве…
— Мой клинок рад был бы попробовать твои слова на вкус, — сказал шемаханец, чуть выдвигая саблю из ножен.
— Он порадуется, — пообещал Артём. Растерянность, вызванная удивительным сходством, прошла. — Позже. А сейчас, холоп, прочь с дороги! Великий князь ждет меня!
— Именно это я и хотел сказать. Следуй за мной, князь, — и, развернувшись, двинулся в терем.
* * *- Вот, — Артём положил на ларь увесистый мешок. — Твое, княже.
— Что это?
— Серебро. Доля от того, что я взял на уличах.
— То твои смерды, мог бы со мной и не делиться, — заметил Владимир.
Артём улыбнулся.
— Смерды мои, а я — твой, — сказал он.
— Не обессудь, что побил ваших жрецов. От них-то всё зло и шло. Хотели, как встарь, родами повелевать и подать с них брать, будто князья. «Нам, говорят, князья не надобны! Сами себя защитим!»
— Говорят? — нахмурился Владимир.
— Говорили, — ответил Артём. — С говорунами я потолковал. Теперь молчат.
— Добро. А сейчас расскажи мне, что ныне творится на Диком Поле? И чего нам ожидать летом?
— Почему ты спрашиваешь меня, княже? — поинтересовался Артём. — Есть другие. Вот черниговский князь…
— Их я тоже спрошу! — перебил Владимир. — Говори!
— Летом да к осени копченые полезут, как всегда. Более всего цапон опасаюсь…
— А угры?
— Эти — нет! — уверенно ответил Артём.
— Почему так думаешь? Я б на месте их князя непременно напал. Ярополк — племянник ему. Был.
Артём покачал головой.
— Почему? Из-за договора с отцом моим?
— Великий князь Геза договором легко пренебречь может. Вот был у него с немцами договор, а он взял да и отхватил кусок Саксонии. А с нас ему и взять нечего. Разве что стрелу в грудь! — Артём добродушно улыбнулся.
— Откуда знаешь?
— Отец рассказал. Он знает.
— А я вот знаю, что и угры на твоих землях пошаливали, — заметил Владимир.
— Это не княжьи, — уверенно ответил Артём. — Так, разбойнички. Геза не сунется. Знает нашу силу.
— А если сила вдруг поубавится? — Владимир пристально поглядел на своего князя-данника.
— Ты о походе, что весной затеваешь? — И, заметив, что Владимир нахмурился: — Отец мне рассказал. Не тревожься, княже! Дальше меня не пойдет.
— Хочешь со мной пойти?
— Ты не возьмешь! — уверенно ответил Артём. — Я тебе здесь нужен…
— …Хочу я тебя попросить, воевода, — сказал Добрыня. — Не как дядька великого князя — как друг. Мы ведь с тобой друзья, Серегей?
— Пожалуй, — не сразу, но признал Духарев.
Добрыня хитер, жесток, прагматичен. Но Сергею и его семье худого ни разу не сделал. Использовал в своих интересах? Да. Толкал на рискованные действия? Было не раз. Но даже во времена, когда Сергей и его сыновья были в прямой оппозиции Владимиру, даже тогда Добрыня не был врагом. И племянника своего, если надо, — придерживал. Учитывая крутой нрав Владимира — непростое был дело.
Впрочем, и Владимир не забывал, что за ним — долг жизни. Терпел от Сергея и сыновей его то, за что других покарал бы.
— А раз друзья, то прошу тебя по-дружески: поезжай в Византию вместе с Владимиром. Знаю: ты немолод. Но тебе ведь не в бой ходить. Просто обереги князя нашего от ромейского коварства. Ты в их хитростях изощрен…
— Преувеличиваешь, Добрыня, — перебил Сергей. — Чтоб изощренным быть, надо ромеем родиться и при их императоре вырасти.
— …В ромейских делах ты более всех разбираешься, — проигнорировал возражение дядя Владимира. — Опять же звание у тебя ромейское, и немалое. Уж не знаю, как ты сумел его добыть…
— Не я, — сказал Духарев. — Брат мой покойный Мышата.
Но Добрыню с мысли не сбил.
— Что есть, то есть. Ты у ромеев — свой. Речью их владеешь, веры с ними одной. Друзей у тебя в Константинополе много и слуг верных.
— У меня во многих землях люди есть, — сказал Сергей. — Только это такие друзья, что верны тебе, пока выгода есть.
— Только это такие друзья, что верны тебе, пока выгода есть. А с великим князем сын мой пойдет, Богуслав. Он — муж искушенный и воин не из последних. От него князю больше пользы будет.
— В битве — да, — согласился Добрыня. — Но не в политике.
Последнее слово дядя Владимира произнес по-гречески, чисто, изрядно удивив Сергея. Умен Добрыня. И, чует сердце, знает куда больше, чем говорит.
— Помоги князю, чем сможешь, — почти просительно поизнес Добрыня. — Есть у тебя средства.
«Это точно, — подумал Сергей. — Средства эти деньгами называются».
Впрочем, одного наличия денег мало, тут Добрыня прав. Надо еще знать, кому занести и сколько.
— Вот еще меня удивляет, — произнес Добрыня. — Ты — человек больших заслуг. И богатств изрядных. А живешь скромно.
— Ну не сказал бы, — возразил Духарев. — Подворье мое далеко не маленькое!
— А дом — простой! И дружина твоя не с тобой живет, а за городом ютится.
Хрена себе — «ютится»? Сергей им целый Детинец отгрохал. На своей земле, кстати. Тут же и табуны… Удобно.
— Я тебе что хочу предложить, воевода-боярин, — продолжал Добрыня. — Есть у великого князя своя земля, от матери доставшаяся, неподалеку от Киева. Три сельца полянских, небедных меж Киевом и Берестовым. Там, кстати, и твоя собственная земля — недалеко. Ставь там городок на берегу, и будет у тебя вотчина не хуже, чем у сына твоего. Владимир тебя князем жалует. Что скажешь?
Интересное предложение. Подкупаем, значит? Хотя, если по деньгам считать — может быть, и выгодно. Да что их считать… Итак — немеряно.
— Богатый дар, — задумчиво проговорил Сергей.
— Не дар, — уточнил Добрыня. — Отдарок…
Глава одиннадцатая. Школа боевого мастерства
Загадочный княжий телохранитель во время беседы Артёма и великого князя помалкивал. Как и положено телохранителю.
Зато, когда они покинули княжьи покои, разговорился:
— Скажи мне, князь, ты ведь не трус?
— Это не у меня спрашивать надо, — усмехнулся Артём, — а у тех, кто от меня бегал, поджавши хвост.
— Я бы не побежал, — заметил Габдулла.
Артём остановился.
— Довольно темнить! Говори прямо, что тебе надо, холоп!
— Ты варяг, князь? — спросил Габдулла.
У Артёма было большое желание объяснить чужаку, чем отличается князь от холопа, но — сдержался. Загадочное сходство с Ярополком мешало. Если бы он не знал, что Габдулла родился за Хвалынским морем, то мог бы предположить, что перед ним — один из ублюдков Святослава. Хотя нет, по возрасту не сходится. Габдулла заметно старше Владимира, а тот — первенец.
— Варяг.
— Не похож.
— Это всё, что ты хотел узнать?
— Я ненавижу варягов!
— Ты не одинок, — вновь усмехнулся Артём, надевая шлем, который снял в княжьих покоях. — Нас многие не любят. Желчью не захлебнись!
— Ты спросил, чего я хочу? — гневно произнес шемаханец. — Я хочу с тобой сразиться!
— Не получится, холоп. Твоя жизнь принадлежит не тебе, а великому князю. Не думаю, что он согласится потерять даже такого дерзкого холопа.
Габдулла, похоже, об этом не задумывался. Но сразу нашел выход:
— Пусть это будет бой не до смерти!
Артём засмеялся. Настойчивость шемаханца ему понравилась. Тем более что и самому любопытно пощупать бойца, который сумел одолеть Богуслава.
Они вышли во двор.
Они вышли во двор.
— Здесь и сейчас! — заявил Габдулла. — Покажи мне свою сталь!
Гридни уличского князя, ожидавшие его во дворе, тут же оказались рядом. Почуяли угрозу. Артём успокоил их жестом.
— Нет, бохмичи, я не стану обижать мои клинки шутовским боем, — сказал Артём. И погромче: — Эй, десятник, подбери мне учебные мечи! И освободите круг!
На крыльцо вышли Добрыня с Духаревым. Остановились. Сергей и не подумал вмешиваться: сын знает, что делает. А вот Добрыня тут же послал отрока за Владимиром. Впрочем, тоже вмешиваться не стал.
К воеводам присоединился Устах. Княжич Изяслав сидел у пестуна на плече. Глядел во все глаза.
Артёму подали затупленные учебные мечи. Он снял с пояса собственное оружие и передал гридню. Затем покрутил оба тупых клинка, поиграл ими и одобрительно кивнул десятнику. Хороший баланс!
— Раз так, то я тоже не стану губить свои, — заявил Габдулла. — Подай мне такие же!
— Уверен? — усмехнулся Артём. — Не скажешь потом, что оружие виновато в том, что я тебя побил?
В толпе зрителей послышались смешки. Габдуллу в Детинце не любили — побаивались, Артёма же — обожали. Даже те, кто почти его не знал, наслушались славных историй о сыне воеводы Серегея.
Габдулла ощерился. К неприязни людей ему, судя по всему, было не привыкать. А вот проигрывать он не любил. И не собирался.
— Я побью тебя! — уверенно заявил он. Принял предложенные мечи, взвесил… И швырнул наземь. Железо со звоном ударилось о камни.
— Ты бы мне еще кочерги принес! — злобно рыкнул он на десятника.
Тот лишь ухмыльнулся.
Для шемаханца он оружия не подбирал. Взял первое попавшееся.
Растолкав дружинников, Габдулла прошел к навесу, где стояли учебные клинки. Долго выбирал, прикидывал по руке…
Появился Владимир. Мимоходом коснулся макушки Изяслава и встал рядом с Добрыней и Духаревым.
— Как думаешь, побьет он твоего сына? — спросил великий князь.
— Поглядим, — уклончиво ответил Духарев.
Хотя в победе Артёма не сомневался. Может, в конном бою у шемаханца еще был шанс…
Хотя и тут вряд ли. Стрела в глаз — и бой окончен.
Наконец Габдулла выбрал подходящие железки. Передал саблю и кинжал первому попавшемуся отроку и вошел в круг. Уставился исподлобья на противника.
— Да ты никак в гляделки со мной решил побороться, — насмешливо бросил Артём. — Так я не девка. Не зарумянюсь.
Габдулла напал раньше, чем Артём закончил фразу. Стремительно сократил дистанцию и ударил с двух рук, по разным уровням, и на том же движении — снова, поверху, внахлест…
Артём до самого последнего мгновения стоял неподвижно. Потом шагнул назад, а затем его собственные мечи взметнулись, будто стрекозиные крылья, — и со звоном отшибли клинки шемаханца. Тот отпрыгнул, ожидая ответной атаки, но ее не было.
— Всё, что ты можешь? — чуть удивленно проговорил Артём. — Не верю, что ты смог побить моего брата. Он, верно, очень устал или был ранен…
Шемаханец вновь атаковал, быстро, точно, мощно… И опять вспыхнули на солнце стрекозиные крылья и отбросили чужое железо. И опять Артём не контратаковал.
— Я понял! — воскликнул он весело. — Ты просто разминаешься, Габдулла. Скажи мне, когда начнем биться по-настоящему!
На сей раз атака была еще быстрее и еще красивее. Прямой в лицо, двойной финт правым, еще один, снизу наискось, и вторым клинком — навстречу… Но тоже финт, перешедший в точный и быстрый укол…
Но Артём их даже отбивать не стал. Просто уклонялся. Причем исключительно за счет работы ног.
Экономные, точные, выверенные перемещения. Ровно настолько, чтобы сталь разминулась с целью на какой-нибудь сантиметр.
Последний удар сын воеводы Серегея пропустил вообще в миллиметрах, зато оказался справа от Габдуллы, вне досягаемости мечей, подсек его ногу и одновременно с силой толкнул плечом. Габдулла грохнулся спиной наземь, быстро, как кошка, перевернулся на живот, но вскочить не успел. Нога Артёма придавила его к истертым булыжникам. Меч, поддев бармицу, уперся в шею, надавил с силой, так, что шемаханец вынужден был прижаться лицом к грязным камням.
— Пожалуй, я победил, как, княже? — весело крикнул он.
— Пожалуй, да, — согласился Владимир.
Артём тотчас убрал меч и ногу.
Габдулла вскочил, яростный, весь перемазанный в грязи…
Зрители разразились хохотом.
Бешеный, красный от ярости шемаханец озирался, как обложенный псами волк…
— А ну молчать! — гаркнул Владимир.
Подворье притихло.
— Кто-то слышал, как смеется князь уличский? — чуть потише поинтересовался великий князь.
Никто не слышал, потому что Артём и не смеялся. Хотя и не особо печалился унижению наглого шемаханца. Даже не глядел в его сторону. Молча цеплял к поясу боевое оружие.
— Это он победил Габдуллу! — сказал Владимир. — Если кто хочет посмеяться всласть, пусть возьмет мечи и встанет против Габдуллы. Есть такие?
Таких не было. Не потому, что — трусы. Зачем ввязываться в бой, где тебя заведомо побьют. Да еще и покалечить могут, учитывая нынешнее настроение Габдуллы.
— Нет? Тогда делом займитесь! Габдулла, умойся и со мной. Князь Артём, ты тоже. Мы не договорили.
И, не дожидаясь никого, шагнул в дверь.
— Не любят шемаханца, — негромко произнес Духарев, обращаясь к Добрыне.
— И хорошо, что не любят, — ответил тот. — Князю верней будет. А твой сын — хорош! Думаю, и Владимиру с ним не совладать.
— Хочет попробовать?
— Коли захочет — я отговорю. Негоже князю мордой в грязь падать. Пойдем-ка с ними! Недоволен Владимир. Не наказал бы сгоряча…
Но Владимир никого наказывать не собирался.
— Еще раз захочешь удаль показать, Габдулла, вспомни, как тебя мордой в грязь макнули! — строго произнес он.
Шемаханец спорить не рискнул. Лишь побагровел еще больше.
— Давно я тебя в бою не видел, князь. — Владимир повернулся к Артёму. — Хорош! Не поделишься ли умением с дружинными моими?
— Пошли их в Улич ко мне, — ответил Артём. — Научу, чему смогу.
— А тебя кто учил? Вижу, что не только старый Рёрех. Еще кто-то был. Или — сам дошел.
— До многого — сам, — честно ответил Артём. — Многое еще Асмуд показал. Но был и учитель. Батюшке спасибо: купил мне наставника-ромея, Петра Бравоса.
— Однако он мне говорил: ты его превзошел, — вспомнил Духарев, который тоже брал у Бравоса уроки.
Артём пожал плечами. Ну да, есть такое слово — талант.
— Покажи отрокам моим, — велел Владимир. — Прямо сейчас покажи. А то, уверен, многие подумали: уж не волшебство ли?
Артём засмеялся. Он видел, что великому князю и самому интересно.
— Твоя воля, — согласился он. — Только учти, княже: в настоящем пешем бою от этого искусства проку немного. Оно не для сечи, а для поединков.
— Ты покажи, а я уж как-нибудь разберусь, где какая польза, — отрезал Владимир.
Во дворе опять образовали круг. Артём взял учебный меч и учебный же, увесистый щит. Отрока в пару брать не стал.
Отрока в пару брать не стал. Кивнул тому десятнику, что подбирал ему мечи. С хорошим воином лучше работать.
— Руби меня, — велел Артём.
Десятник рубанул. И еще раз. И еще. Грамотно. Аккуратно. Умело прикрываясь щитом от встречного удара.
Артём не отвечал. Передвигался маленькими шажками, и даже вроде не быстро, но десятник всё равно не мог его достать. Как-то так получалось. Более того, Артём то и дело оказывался от него сбоку, причем не со стороны щита, а справа.
— Довольно! — скомандовал Артём, и десятник с облегчением остановился. Легко ли — всё время рубить, и всё время — мимо?
— Теперь я атакую! — объявил Артём, и на десятника посыпались удары. Не слишком быстрые и не слишком сильные, но на ответную атаку у того возможности не осталось. Только и мог, что отбиваться. Но стоял твердо. Ни на полшага не отступил. Наконец Артём, связав его клинок, с силой толкнул щитом.
Десятник был намного крупнее и тяжелее улицкого князя, но всё равно его отбросило шага на два. Впрочем, он тут же ринулся вперед… И нарвался на точный укол в горло. Причем, если бы Артём не отдернул меч, десятник даже от тупого клинка получил бы серьезную рану.
— Ты зачем вперед полез? — спросил его Артём укоризненно.
— Ну я… — Гридень не мог объяснить своего необдуманного порыва.
— Ты решил, что ты — в строю?
Десятник кивнул. Верно, рефлекс. Отступил — вернись на место.
Артём жестом отослал его и, оглядев отроков, выбрал одного, показавшегося подходящим. Тому подали оружие… И Артём немедленно атаковал. Чисто по-нурмански: показал удар в шею, а сам резко увел меч вниз. Отрок подпрыгнул, пропуская меч под собой. И тут же присел, когда железо пошло по верхнему уровню. И снова подпрыгнул. И опять присел. Клинок мелькал быстро и так, что щитом прикрываться было неудобно, а мечом отрок просто не успевал.
— Не запыхался? — участливо поинтересовался Артём после минутной «гимнастики».
— Не-а! — весело крикнул отрок. — Я так долго могу!
Артём остановился.
— Долго, говоришь? Ну-ка, бегом к бревну! А теперь: вспрыгнул — соскочил. Начали!
В углу двора были вкопаны столбики, на которых горизонтально, на разной высоте лежали бревна. Отрок выбрал не самое низкое.
Упражнение тоже было всем знакомо, поэтому отрок довольно бодро отпрыгал еще минуту. На бревно — с бревна, на бревно… Прыгучий юноша. Именно такого Артём и выбирал.
— А теперь — к бою!
Он сам легко вскочил на бревно, перебросил щит в правую руку, а меч — в левую и атаковал. Отрок умело парировал… И, получив щитом в щит, чтобы удержать равновесие, вынужден был перепрыгнуть на соседнее бревно… И оступился. С грохотом шмякнулся на землю. Впрочем, здесь булыжники были устелены толстым слоем соломы. Как раз на такой случай.
— Довольно! — скомандовал Артём. — Ты оступился, потому что устал.
— Я не устал! — возмутился отрок.
— Тогда — обратно на бревно! А теперь закрой глаза — и прыгай на соседнее.
Отрок прыгнул — и опять свалился. Встал, совершенно сконфуженный.
— Это не ты промахнулся, — успокоил его Артём. — Это твои напрыгавшиеся ноги. А теперь скажи: зачем тебе было прыгать?
— Так приказали же!
— Нет. Когда я тебя мечом рубил, ты зачем прыгал?
— А что еще делать?
Да. Ловок, но туповат.
— Свободен. Ты! Иди ко мне.
— Я тебя рублю мечом по ногам, — сказал ему Артём. — Что ты делаешь?
— Прикроюсь, — тут же ответил новый кандидат на колотушки.
— Щитом или клинком.
Он твердо знал, что прыгать нельзя.
— А зачем? — поинтересовался уличский князь.
— Зарубят иначе, — лаконично ответил отрок.
— Думаешь? Ну-ка руби меня!
И история с десятником повторилась. Отрок рубил похуже гридня, но с тем же результатом.
— Что я делаю? — спросил он.
— Убегаешь! — пропыхтел отрок.
— Разве? — И Артём тут же оказался у него за спиной. Тюкнул несильно по шее: — Иди отсюда!
Я не убегаю, — сказал он всем. — Я передвигаюсь. Ровно настолько, насколько надо. Мне не надо прыгать. Не надо кланяться. Я знаю, где мое оружие и где оружие врага.
В том, что говорил уличский князь, не было ничего нового для опытных бойцов, вроде Духарева и Владимира. Фишка была не в том, чтобы двигаться экономно, а в том, как двигаться. Ноги Артёма двигались будто по особому узору. Каждая ступня — на нужное место. Чуть повернешься — выигрываешь полметра. Шажок назад, шажок вперед и чуть в сторону. Это завораживало, словно диковинный танец.
Теперь Духарев понял, откуда у сына такая легкость. И вспомнил, как тот же Петр Бравос пытался научить его этому танцу, но не особо преуспел. Духарев был слишком тяжел для такого. И совсем другой танец битвы глубоко впитался в его тело. Переучиваться втрое труднее, чем учиться.
— Ты, ты и ты! — Артём на этот раз выбрал совсем молодых ребят. — Идите сюда! Я покажу вам, как надо. А вы потом покажете другим…
— Да, — сказал Владимир, когда они впятером: великий князь, Добрыня, Духарев, Артём и присоединившийся к ним Пежич — сидели наверху за столом и угощались княжескими яствами: — В настоящем бою от этого проку немного. А другие секреты ромейских бойцов тебе ведомы?
— Кое-что знаю, — уклонился от прямого ответа Артём.
— Эх, ромеи, ромеи… — вздохнул Владимир. — Сколько у них хитростей да тайн. Скажи, воевода Серегей, этому их Христос научил?
— Христос убивать не учит, — ответил Духарев. — Он учит миру.
— А чтобы мир был крепок, надо крепко повоевать! — сказал Артём и засмеялся.
Глава двенадцатая. Дела торговые и домашние
Приехали Богуслав с Лучинкой. И с караваном, разумеется. Целая череда саней и даже два обросших шерстью верблюда.
Богуслав с женой, загорелые, веселые, явно довольные и жизнью и возвращением, сразу оживили атмосферу в доме.
Из дальнего похода вернулись живые, с большим прибытком и крепкими связами на Востоке. Это ли не счастье?
Узнав, что весной предстоит поход в Византию, Богуслав обрадовался. И тут же поехал к князю. С подарками. Представляться и заодно проситься обратно в дружину.
Владимир Богуслава принял хорошо. Подарки взял, отдарился собственным плащом меховым, отороченным соболями. Обещал дать тысячу конных под начало. Словом, обласкал.
А потому усадил напротив, велел подать вина с медовыми лепешками и взялся выспрашивать о Востоке. О бохмичи. Какова их сила, как живут, что празднуют… Многое князь уже знал от своего телохранителя, но сейчас его больше интересовала не вера, а ее результат.
Богуслав, пожив среди мусульман, знал о них многое. Так что — хвалил. И закон строгий, пусть и чуждый русам, но твердый. И то, как города построены и поля возделаны. Оружие куют — лучшее. Кони… Да таких вообще ни у кого нет. Воинов хвалил: хороши, не хуже ромеев были бы, кабы знали, что такое дисциплина. Но вместо дисциплины у бохмичи — храбрость необычайная. Кого в бою убьют, тот сразу — в мусульманский рай. Как жил, что делал до того, не важно. Еще хотят бохмичи весь мир завоевать, как когда-то отец Владимира.
Как жил, что делал до того, не важно. Еще хотят бохмичи весь мир завоевать, как когда-то отец Владимира. Чтоб везде только их вера была. Однако люди другой веры в их городах тоже живут. Правда, ежегодную виру должны платить за неправильную веру. Но платят, потому что жить им среди мусульман всё равно выгоднее и безопаснее.
— А могут они веру поменять? — спросил Владимир.
— Если захотят — легко. У них даже так: если в плен кого-то возьмут и убить захотят или рабом сделать, а тот захочет веру бохмичи принять, так его за это в живых оставят и даже свободу дадут. Только свободным, у которых нет ничего, жить очень трудно. Земли свободной нет. Уйти некуда. Один путь: или с голоду помереть, или кому продаться.
Владимир был удивлен. Даже здесь, на юге, и то земель хватало. Рощи да леса, да плавни… А еще — степь. Иди, живи, паши, охоться… Если степняков не боишься. Даже и самому искать не надо. На порубежье, в городок или сельцо, любой может сесть. И дань платить не надо. Только будь готов, что копченые набегут… Но ведь и от печенегов спрятаться можно. Зерно в землю зарыть, самим убежать. Всяко лучше, чем с голоду помирать, когда вокруг — изобилие.
— По их законам, если украдешь чего — руку рубят, — сказал Богуслав. — А если с чужой женой побарахтался, всё мужское отрежут. Только это еще доказать надо: четырех свидетелей надо привести, которые на их священной книге поклянутся, что своими глазами всё видели.
Владимир засмеялся.
— Еще жен у них четверо, — сообщил Богуслав.
— А я слыхал — больше бывает, — заметил великий князь.
— То уж не жены, а наложницы. Этих у иных князей — до тысячи.
— Вот как? — Владимир удивился. — И как же они успевают? Небось заскучают бабы да разбегутся…
— Это — никак. Женщин в отдельной части дома держат. Гарем называется. Присматривают за ними стражники-евнухи. А каково им там, в гареме, это владыку не волнует.
— Что? И жен там держат, даже водимую?
— Всех. У бохмичи женщин в строгости держат. И лицо никому показывать не дают. Только мужу.
— Вот дикие люди! — Владимир засмеялся. — Как же он женится, если лица ни разу не видел?
— Того не ведаю, — Богуслав улыбнулся. — Я по обычаю бохмичи не женился. Это у тебя, княже, спросить надо. Ты ведь на дочери булгарского владыки женат.
— Мне-то показали, — Владимир самодовольно усмехнулся. — Троих привели, чтоб я выбрал самую красивую.
После разговора с Богуславом Владимир двинулся в женскую часть терема. Там, правда, не евнухи на страже стояли — обычные отроки. И женам князя разрешалось ходить куда вздумается: хоть в гости, хоть на рынок. Но выходили они редко. Разве что Рогнеда была пободрее да своевольнее. Воистину дочь воина и мать сыновей-воинов.
Его, Владимира, сыновей. И Олава была такой же. Жаль, умерла. И первенец ее — тоже.
«Нет, не захватить бохмичи весь мир, — подумал великий князь. — Жалкие, забитые жены воинов не рожают».
И пусть его собственная мать не княжна, но рода доброго.
Миновав стражу в дверях, Владимир нанадолго задумался: кого выбрать?
Выбрал Рогнеду.
Старшая жена великого князя тетешкалась с младшим сыном, Ярославом.
Две холопки стояли рядом, бдительные, как стража на воротах. Если велит чего княгиня — сразу бежать исполнять. Нрав у Рогнеды Роговолтовны — крут. И на расправу скора.
Великий князь, затаясь, наблюдал за женой и сыном. С удовольствием. Жена красива, сын, хоть и мал, а ловок и резов.
Долго смотрел Владимир, никем не замечаемый. Прирожденный воин, он умел так выбрать место, что его не видели.
Прирожденный воин, он умел так выбрать место, что его не видели. Умел замереть, почти не дыша, не шевелясь, но в мгновенной готовности поразить ворога.
В покоях водимой жены ворогов у Владимира не было.
Если не считать самой жены.
Чуял великий князь: не сдалась дочь Роговолта его, Владимира, мужской и княжеской силе и власти. Не покорилась — уступила на время.
За то и ценил. Красота что? Красивых много. А такие, как Рогнеда, редки. Волчья порода. Только оплошай — враз увидишь клыки.
Вот почему в покои водимой жены Владимир входил будто на чужую землю. И на ночь не оставался почти никогда. Хотя и покои — его, и богатства, наполняющие эти комнаты, — тоже почти все им дарены.
Вот и сейчас, затаясь в тени, Владимир чувствовал себя не хозяином, а замершим в засаде хищником, готовящимся к броску на ничего не подозревающую добычу. Тоже опасную, но сейчас — беспомощную, поскольку не ведающую о его присутствии.
К немалому удовольствию Владимира, первым заметил его маленький Ярослав. Тут же пискнул сердито и прижался к матери. Знал, что бывает, когда приходит сюда этот огромный человек, коего велено называть батюшкой.
Малыш не ошибся. Всё повторилось. Увидав шагнувшего из тени мужа, Рогнеда тут же отцепила сына от рукава, сунула мальчика нянькам и, поднявшись, низко, в пояс, поклонилась. Молча.
Холопки, не дожидаясь приказа, убрались из опочивальни, унеся с собой возмущенно вопившего Ярослава.
Толстая ткань, закрывавшая выход, еще колыхалась, когда Рогнеда, поворотясь к Владимиру задом, задрала подол тяжелого, шитого серебром платья и тонкую нижнюю рубаху и замерла, упершись руками в край ложа.
Владимир не торопился. Сегодня у него было достаточно времени, чтобы не утолять похоть в спешке, а вволю попользоваться и этими роскошными белыми ягодицами, и той сладкой норкой, вход в которую доступен только ему.
Великий князь расстегнул боевой пояс, отягченный мечом, ножом, короткой булавой, шитым бисером денежным кошелем, положил всё на прикрытую волчьей шкурой лавку и скомандовал негромко:
— Повернись. Сегодня глаза твои рысьи видеть хочу, Рогнедь. И зелье после не пей. Хочу сегодня сына зачать…
Когда Владимир покинул опочивальню, в которой стало заметно прохладнее (подбросить дров в печь было некому — челядь-то выставили), за слюдяным окошком смеркалось. Зимний день короток.
Тугой кошелек остался лежать на лавке.
«Родишь сына, здорового и сильного, — одарю много щедрей», — уходя, пообещал великий князь.
— Рожу тебе сына, непременно рожу, — прошептала ему вслед изнуренная мужниными ласками Рогнеда. — Здорового и сильного. И имя ему будет — Мстиша… Нет, краше. Мстислав.
* * *Лучинка и Сладислава сидели за документами: Сладислава перебирала кусочки пергаментов, рулончики бересты, раскрывала, объясняла…
За время странствия жена Богуслава очень изменилась. Не только похорошела, но сильнее стала, увереннее. Научилась читать и писать по-гречески и по-арабски.
Еще она привезла с Востока арабские цифры, и это очень удивило Сладу. До сего времени она думала, что только в их семье знают этот счет. Да и то потому, что муж научил. А тут, оказывается, целые народы сию тайну ведают. Звала Сладислава невестку уважительно и полным крестильным именем: Евпраксия, а не Праксея. Впрочем, все остальные домашние, включая мужа, по-прежнему звали ее Лучинкой. Очень ей подходило.
Невестка отложила пергамент, замерла ненадолго, будто прислушиваясь…
— Что, устала? — ласково спросила Сладислава. — Терпи, милая, надо. Умру — тебе всё самой вести придется.
— Нет, матушка, не устала. Только… Знаешь: я ведь ребеночка ношу.
Сладислава молча обняла невестку. С минутку они посидели рядышком: внучка булгарского хакана и дочь деревенской колдуньи из-под Турова…
Такие разные.
И такие близкие.
Потом Лучинка осторожно отстранилась и сказала:
— Давай дальше, матушка. Что там у вас с купцом бременским Йоганном?
— А вот смотри, — вновь сосредоточилась Сладислава. — Это долговое обязательство, по которому он…
Глава тринадцатая, в которой Киев встречает нежданного гостя
Если Богуслава в Киеве ждали, то этого гостя не ждал никто. Тем не менее он появился. Сильный, красивый, веселый… С пятью сотнями хирдманов, с ног до головы увешанных золотом, и такого зловещего вида, что киевская стража закрыла перед ними Подольские ворота и держала снаружи, пока из княжьего терема на появился сам воевода Претич и не велел впустить.
Впрочем, наверх, на Гору, поднялись только трое нурманов: Торстейн Бычий Хвост, Халльфред Трудный Скальд и конечно их вождь: прославленный ныне конунг, а в прошлом — дружинник великого князя Владимира — Олав Трюггвисон, которого многие по старой памяти всё еще звали Кракабен, что значит — Воронья Кость. За его необычайное умение предугадывать судьбу и ловкость в гадании.
Впрочем, Олав Трюггвисон уже давно не пользовался своими колдовскими умениями. Зачем это человеку, который уже сделал самый правильный выбор?
Да еще с ними был пес. Огромный лохматый волкодав, преданно державшийся в шаге от Олава и полностью игнорирующий всполошенный брех киевских кобелей.
О том, что сын конунга Трюггви появился на землях киевского князя, Сергей Иванович узнал пусть и загодя, но с опозданием. Это потому, что нурманы двигались стремительно даже без своих драккаров. Встал на лыжи и побежал. Для самых северных северян это привычнее, чем степняку на коне скакать. Как на крыльях летели. Само собой, не с одними лыжами. Сотни две саней, запряженных добрыми лошадками, бодренько катились по зимнику, доверху загруженные всяким товаром и имуществом, обгоняя неторопливых купцов.
Плохо, что ни один из подвластных Владимиру князей и наместников не потрудился прислать гонца. Видать, не сочли, что пять сотен нурманов представляют опасность. Тем более — под предводительством Олава, некогда — княжьего любимца. Зная Трюггвисона, Духарев не сомневался, что тот останавливался в каждом крупном городе: попировать-повеселиться, заодно и припасы обновить.
Весть пришла от сына Артёма. Они с воеводой Сигурдом были соседями: после вокняжения в Киеве Владимир одарил верного ярла куском древлянских земель из бывшей Олеговой вотчины. Не удивительно, что Олав сначала посетил дядьку, а уж потом двинул в стольный град.
Прошедшие годы основательно изменили Трюггвисона. Из длинного костлявого подростка вырос могучий муж почти Духаревского роста. Но по-прежнему — красавец. Синие сияющие глаза, светлые густые волосы, прихваченные золотой с каменьями диадемой, яркие губы, небольшая ухоженная бородка… Ни одного шрама на лице, зубы — как отполированные. Великий князь киевский, тоже далеко не урод, на фоне Олава смотрелся весьма скромно.
Однако ж сын Трюггви поклонился Владимиру первым и не как равный равному, а низко, почти в пояс, удивив и всех присутствующих, и даже самого князя.
— Добро пожаловать, Олав-ярл! — пророкотал явно польщенный Владимир. — Будь гостем моим!
— Благодарю, княже! Никогда не забуду твою доброту и ласку!
Великолепный Олав либо забыл, почему покинул Киев, либо сделал вид, что забыл.
— Только я теперь не ярл, а конунг, — сообщил он с широченной улыбкой.
Позади Олава заухмылялись его ближники: тоже молодцы — просто загляденье. И не у всякого ярла найдутся этакие доспехи и такие толстые золотые гривны да браслеты.
Еще удивил Духарева пес. Здоровенная лохматая зверюга размером с мишку-подростка. Но — воспитанная. Вошла со всеми, улеглась и принялась сканировать пространство. Можно не сомневаться: если что не так — прянет аки пардус.
Но — воспитанная. Вошла со всеми, улеглась и принялась сканировать пространство. Можно не сомневаться: если что не так — прянет аки пардус.
Сергею сразу захотелось такую же.
Владимир еще раз оглядел Олава с головы до ног, решил: проявленного почтения довольно, чтобы забыть о прошлых мелких обидах.
— Будь моим гостем, Олав, сын Трюггви! — провозгласил он по-нурмански. — И ты, и люди твои… Много ль их?
— Четыреста восемнадцать, — ответил Трюггвисон. — Считая тех, что сейчас со мной, и не считая собаки! — и ласково почесал волкодава повыше глаза. — Пока — немного, но будет — больше.
Владимир на мгновение задумался, потом объявил:
— Твоим людям накроют столы в нижнем городе. А мы с тобой попируем вместе! Как в старые времена!
— Вот это праздник! — воскликнул Олав и громко захохотал.
Владимир глядел на него очень внимательно.
«Прикидывает, как вписать Олава с хирдом в будущий поход», — легко догадался Сергей.
Но тут князь тоже засмеялся… И понеслась.
Заманить Олава в будущую ромейскую кампанию не удалось. У сына конунга Трюггви оказались другие дела. Личные и неотложные. Но начал он — издалека.
— Знаешь ли ты, конунг, что я теперь — христианин? — спросил он.
Вот это новость! Стольники Владимира, в подавляющем большинстве — язычники, изумленно переглядывались. Вот уж от кого они никак не ожидали, что примет ромейскую веру. То, что они знали о христианстве, ну просто никак не сочеталось с кровожадной профессией «викинг».
— И что же подвигло тебя, сын конунга Трюггви, на такой шаг? — спросил Владимир. — Мне было бы очень любопытно это узнать.
— Тогда я, конунг, расскажу тебе свою историю, — сказал Олав. — А уж ты сам думай, сгодится ли она тебе. Скажи, слыхал ли ты о том, что Гейра, дочь Бурицлава, вендского конунга, — была моей женой?
— Говорили мне, — кивнул Владимир. — Было время, я думал: уж не сойдемся ли мы с тобой в битве? Но знающие люди сказали: ты не поднимешь против меня меч. И я поверил.
— Верь мне и в будущем, — сказал конунг Олав, глядя прямо в глаза великому князю. — Я в долгу перед тобой, и так будет всегда. Но позволь мне продолжить.
И он продолжил. С обычным для нурманов хвастовством.
— Многое я свершил, пока жил у вендов. Ходил вместе с Бурицлавом-конунгом[21] и Отта-кейсаром[22] на Датский Вал[23] воевать с Хаконом-ярлом, захватившим земли моего отца-конунга. Но Хакон, удачливый в битвах, сумел удержать Вал. Тогда Отта-кейсар посадил свое войско на корабли и переплыл через фьорд в Йотланд. Харальд, конунг данов, поспешил ему навстречу. Была славная битва — и Харальд-конунг бежал.
Но, — продолжал Олав, — к печали моей, Хакона-ярла не было с ним. Сбежал от нас на остров Марсей. Отта-кейсар начал переговоры с конунгом данов, убеждая того принять свою веру и обещая за то стать ему добрым другом. Харальд-конунг сначала противился, но когда святой епископ Поппо взял в руки раскаленное железо и пронес его, а потом показал руки конунгу данов, и тот увидел, что ладонь епископа не обожжена.
Тут Олав умолк, потому что в зале поднялся ропот.
— Ты видел это сам или слышал от других? — спросил весьма заинтересованный Владимир.
— Нет, — ответил Трюггвисон. — Я не видел рук епископа. И вопросы веры тогда меня мало интересовали. Я хотел лишь одного: смерти своего врага Хакона-ярла.
Владимир кивнул.
— Рассказывай, конунг, — разрешил он.
Гул в зале тут же умолк.
Тишина нарушалась лишь журчанием напитков, подливаемых в чаши, да собачьей грызней на посыпанном соломой полу.
Огромный пес Олава в собачьих сварах не участвовал. Лежал близ хозяина, величественный и равнодушный. Князь среди собак.
«Нет, я непременно должен добыть подобного зверя. Или хотя бы щенков от него», — подумал Духарев.
— Увидав, какие чудеса творятся Именем Христа, — продолжал Олав, — Харальд уверовал и тоже крестился. А когда наконец прибыл мой соперник, Хакон-ярл, вынудил креститься и его, и его людей[24]. И я понял тогда, — вздохнул сын Трюггви, — понял, что Отто-кейсар не убьет Хакона, и я не стану конунгом Норвегии. Так это меня огорчило, что даже явленное епископом чудо не заставило меня уверовать в Христа. Так что ни я, ни мои люди не приняли Крест. Нас никто не принуждал, ведь мы были союзниками. Но, думаю, зря я тогда не крестился. Многие тогда, да и сейчас называют меня провидцем, но на самом деле я был слеп. Может, прими я Крест, как это сделал конунг данов, и Бог пощадил бы мою Гейру.
Тут Олав вздохнул еще печальнее. И все увидели, что глаза его увлажнились. Даже сейчас, спустя много лет, конунг всё еще скорбел об умершей.
— Болезнь отняла у меня жену, — произнес он, совладав с чувствами. — Видно, не благоволили этому браку боги Севера, а Истинного Бога я тогда не ведал. Так что и детей у нас не было, хотя прожили мы вместе три года.
После смерти Гейры не смог я оставаться на земле вендов и ушел сначала к фризам, где воевал славно и хорошую взял добычу, потом бил саксов, скоттов и еще многих, о чем скальд мой Халльфред написал немало добрых стихов, и ты, конунг, и все вы, славные и почтенные люди, если пожелаете, сможете услышать их позже. Я же скажу просто: четыре года провел я в битвах, радуя Одина и Тора. А потом боги моих предков отвернулись от меня. Два лучших корабля потерял я во время шторма, третий, приставший к берегу, был захвачен франками, а люди мои перебиты. Я отомстил за них, однако понял, что удача меня покидает, а люди мои ропщут. Вот тогда судьба привела меня на острова Сюллинги, что лежат на закат солнца от Англии. И там я встретил человека, открывшего мне Истину…
История Олава, сына Трюггви, будущего конунга и крестителя Норвегии- Не говори мне о Христе, — сердито бросил Олав. — Бог, который отнял у меня Гейру — не мой бог!
— Но ты видел чудеса, творимые Его Именем! — воскликнул Эмон, ирландец, принятый в хирд еще в те времена, когда Гейра была жива, а Олав Трюггвисон дрался в войске Отто-кейсара. — А чудо, сотворенное епископом Поппо[25]?
— Да, я знаю о чудесах, творимых именем Христа, — согласился Трюггвисон. — Но я видел и чудеса, творимые богами моих предков. Уж не знаю, чем твой отшельник лучше финской вельвы. По мне так заговоренная воронья кость (Олав потрогал свой любимый оберег) куда надежней, чем ваш крест.
— Конунг! — перебил Олава ирландец. — Не веришь, так проверь! Не зря же ветра принесли нас именно сюда! Ты же сам рассказывал, как много лет назад человек из Гардарики, обычный воин, но тоже из христиан, предсказал тебе великую славу! Так послушай, что скажет тебе одаренный Богом!
Олав был не против поговорить с отшельником. Но не знал, как к этому отнесутся его хирдманы.
В последнее время многие из них вслух говорили, будто конунг больше не люб Одину и Тору. А конунг, лишенный удачи, перестает быть конунгом… Из двух сотен хирдманов Трюггвисон мог быть уверен только в половине, не больше. Многие воины даже не знали, кто он на самом деле, ведь, покинув землю вендов, конунг оставил там и свое родовое имя, повелев отныне называть себя не Олавом, сыном Трюггви, а Оле-конунгом из Гардарики.
— Хочешь, я сам схожу к отшельнику? — предложил Эмон.
— Скажу, что я — это ты. И пусть…
Олав расхохотался.
— Не нужно быть провидцем и колдуном, чтобы отличить твою рожу от моего лица!
Ирландец смутился. Славный воин, внешностью он не удался. А вот Олава многие считали очень красивым. Особенно женщины.
Но после смерти Гейры ни одной из них не удалось привлечь его внимание более чем на одну ночь. Потомок Харальда Прекрасноволосого говорил об этом так: как может жалкая медь удовлетворить того, кто держал в руках благородное золото?
— Но предложение твое недурно, — отсмеявшись, заявил Олав. — Проверим твоего предсказателя. Торстейн Бычья Нога — вот кто пойдет к твоему отшельнику и узнает, так ли он всеведущ.
Вернувшись в лагерь, Олав сообщил о том, что намерен сделать.
Хирдманам идея понравилась. Многие слышали о сюллингском отшельнике прежде, и мысль обмануть христианского колдуна показалась им забавной.
Торстейна Бычью Ногу обрядили в лучшие одежды, повесили на пояс меч Олава с красным камнем на оголовье и серебряными накладками на ножнах. На руки ему Трюггвисон надел собственные золотые браслеты, а на плечи — бархатный плащ.
Люди Олава, поглядев на Торстейна, в один голос заявили, что Бычья Нога теперь почти так же хорош собой, как сам конунг.
— Сам хитроумный Локи не сделал бы лучше! — похвалился Олав. — Теперь даже я готов назвать тебя конунгом, Бычья Нога!
И громко захохотал.
А вот Торстейн, напротив, смутился и покраснел. Дело в том, что хирдманы, недовольные Олавом, прочили Торстейна в вожди и не скрывали этого. От Торстейна, конечно, а не от Олава, который, узнай он о подобных замыслах, мог бы обойтись жестоко и с Торстейном, и с заговорщиками.
Отшельник жил не в пещере, как друиды, а в маленьком домике на берегу озера. Около домика сушилась рыба и выстиранные портки.
— Ищешь кого, воин Севера?
Торстейн оглянулся.
Сказано было на языке саксов, но на сакса человек походил мало. Больше — на йотуна. Большой, ростом почти с Торстейна, голый, если не считать изодранных коротких штанов, заросший черным волосом, с такой спутанной гривой, что Торстейн подумал: уж не взял ли дикий человек, подобно конунгу Харальду, гейс — не причесывать и не стричь волос, пока не свершит задуманное?[26]
В отличие от тех жрецов, к которым привык Торстейн, на человеке-йотуне не было никаких оберегов. Только большой черный деревянный крест. И потемнел крест скорее всего просто от времени, потому что вряд ли отшельник кормил его жертвенной кровью.
— Я — Оле-конунг из Гардарики! — гордо произнес Торстейн. — Слышал, ты умеешь провидеть будущее?
— Настоящее — тоже, — сообщил отшельник. — А потому не стоит тебе называть себя конунгом, но стоит помнить о том, что ты клялся конунгу в верности. Оставайся верным ему и в будущем и не прогадаешь. А теперь ступай к своему вождю и скажи: я его жду.
На сей раз Олав отправился сам.
— Скажи мне, святой человек, получу ли я желаемое? — поинтересовался Олав, не уточняя, что именно желает.
И тут же убедился, что имеет дело с настоящим прорицателем.
— Ты получишь свое королевство, — не раздумывая, заявил отшельник.
Это был правильный ответ, хотя Олав имел в виду всего лишь свою удачу.
— Бог даст тебе его, — продолжал между тем отшельник, — если ты примешь Истинную Веру.
«Хочет, чтобы я крестился», — подумал Олав.
Но сын Трюггви не принял крещения даже ради любимой Гейры. Стоит ли это делать сейчас? Ведь землями его отца правит Хакон-ярл, который сначала, по требованию конунга данов, принял Крест, а затем вновь вернулся к вере отцов, выгнал монахов-христиан, изрядно пограбил земли данов, потом сам подвергся нападению Харальда-конунга и спасся, как говорили, тем, что северные боги наслали на конунга всяких чудовищ, вынудив уйти.
И Бог христиан ничем не помог конунгу.
Так говорили люди, и Олав не видел причин, почему бы ему не верить их словам.
И вот теперь отшельник обещает Олаву землю, которой сейчас правит Хакон-ярл, оказавшийся сильнее христианина Харальда, повелителя Дании.
Возможно, Христос решил руками Олава свершить не сделанное конунгом данов? Но что будет, если боги Севера окажутся сильнее и на этот раз?
— А если я не сделаю этого и останусь верен богам моих предков? — спросил Олав. — Что будет со мной далее?
— Смерть придет к тебе, — сказал отшельник.
— Что ж, все мы когда-нибудь умрем, — заметил Олав. — Меня этим не испугаешь.
— Смерть придет к тебе сегодня, — уточнил отшельник. — Подступит внезапно, откуда не ждешь. Однако Бог позаботится о тебе. Тебя сочтут мертвым, но пройдет семь дней — и ты восстанешь, чтобы оплакать погибших друзей и обратиться к Истинному Богу Иисусу Христу.
— А с чего бы твоему Богу заботиться обо мне, если я не из его поклонников? — осведомился Олав.
— А с того, Олав, сын Трюггви, — сказал отшельник, очень удивив Олава, представившегося как обычно «Оле из Гардарики», — что тебя ждет славное будущее. Ты станешь великим королем. Многих ты обратишь в христианство и тем спасешь их души. А теперь ступай и возвращайся, когда уверуешь в могущество Истинного Бога, сотворившего небо и землю и всё, что им сопутствует, в том числе и тебя, упрямый сын Трюггви, хотя ты и не желаешь этого признать. Вскоре ты получишь доказательство Его могущества, вновь получив от Него свою доселе бесполезную жизнь.
И Олав ушел. Слова отшельника не убедили его (для того чтобы убедить такого, как Олав, одних слов маловато), но заставили задуматься.
Вот так, глубоко задумавшись, Олав, сын Трюггви, спускался по тропинке вдоль склона, когда на него напали заговорщики.
Олав считал, что удача покинула его, однако был не совсем прав. Кое-что осталось.
Это «кое-что» и надоумило его сначала отправить вместо себя Харальда Бычью Ногу.
Харальд же был человеком не только красивым, но и великой силы. Прозвище свое получил за то, что еще в молодые годы, желая показать удаль, вырвал из сустава ногу бычка-двухлетки. С тех пор сила Торстейна увеличилась, а воинское умение закалилось в множестве битв. Будь он сейчас с заговорщиками, Олаву пришлось бы совсем плохо, потому что не было в хирде Олава никого, включая и самого конунга, сильнее Бычьей Ноги.
Но слова святого отшельника проникли в сердце Торстейна, и он отказался предать своего конунга.
Однако заговорщиков было четверо, а Олав — один.
Он знал всех четверых: то были его собственные люди. Из тех, кто громче всех кричал о том, что удача покинула Олава. И еще он знал, что они — хорошие воины, умелые во владении железом.
Олав родился сыном конунга и страха не ведал.
Но он был глубоко оскорблен тем, что собственные хирдманы предали его.
— Вы клялись мне в верности! — воскликнул Олав, обнажая меч. — А теперь ищете моей смерти! Ледяной ад Хель — подходящее место для таких, как вы!
— Если бы мы искали твоей смерти, Олав Трюггвисон, то ты был бы уже мертв! — заявил конунгу Снорри Черный из Вестфольда, могучий викинг, присоединившийся к хирду Олава после битвы у Датского Вала, потому что не пожелал креститься. — Но мы лишь хотим, чтобы ты уступил место вождя более достойному, потому что удача твоя иссохла, как вода в летней луже. Осталась только грязь, не способная утолить жажду даже лягушки.
— Это у тебя, Снорри, в жилах не кровь течет, а грязь! — гневно зарычал Олав и, прыгнув вперед, отсек Снорри правую руку повыше локтя.
Трое других от неожиданности подались назад: не предполагали, что Олав рискнет напасть первым.
Осталась только грязь, не способная утолить жажду даже лягушки.
— Это у тебя, Снорри, в жилах не кровь течет, а грязь! — гневно зарычал Олав и, прыгнув вперед, отсек Снорри правую руку повыше локтя.
Трое других от неожиданности подались назад: не предполагали, что Олав рискнет напасть первым.
— Ха! — воскликнул Трюггвисон, вновь вздымая меч. — А я ошибся! Всё-таки кровь, а не грязь! Да так много, будто я свинью зарезал!
С этими словами Олав ударил мечом по шее Снорри, и удар этот был смертельным, однако трое других предателей уже опомнились и сами напали на конунга.
Олаву пришлось туго. Удары сыпались со всех сторон, а у сына Трюггви даже щита с собой не было, так что пришлось отбиваться мечом и секирой.
Но Олав был так хорош в пляске острого железа, что сумел ранить еще двоих предателей, прежде чем третий нанес ему страшный удар топором по голове.
От этого удара шлем конунга разошелся, лезвие топора прошло сквозь подшлемник и увязло в голове Олава.
Однако поразив, предатель раскрылся, и Трюггвисон с яростным криком воткнул меч ему в грудь. Клинок конунга пробил доспех, сломал ребро и вошел в легкое.
Отмстив, конунг упал бездыханный, с топором, торчащим из головы, но его обидчик тоже прожил недолго: захлебнулся кровью. Двое же уцелевших вырвали меч Олава из груди убитого — в доказательство, что конунг мертв, — и поспешили с этой вестью вниз, к кораблям.
Они хотели представить дело так, будто сами непричастны к смерти Олава, однако их свежие раны говорили об обратном, а у Олава в хирде было довольно людей, ему преданных. В их числе были ирландец Эмон и Халльфред по прозвищу Трудный Скальд, этот последний и изобличил предателей.
Но у заговорщиков в хирде тоже было немало друзей, и среди них — шестеро кровных родичей. Так что хирдманы разделились и встали друг против друга.
И была битва, в которой бесполезно, но не бессмысленно (ведь речь шла о чести) пролилось много крови, и победили те, кто был верен конунгу Олаву.
И главная заслуга в этой победе принадлежала Торстейну Бычьей Ноге, который, помня слова отшельника, встал на правильную сторону и тем смутил бунтовщиков, надеявшихся увидеть его своим хёвдингом. Торстейн же принес на берег того, кого мятежники сочли мертвым. Не удивительно, что они ошиблись, ведь добрый боевой топор застрял в голове конунга. Вернее, им так показалось, потому они и не добили Олава. Зачем добивать мертвеца?
Однако правы оказались не они, а отшельник. Семь дней пролежал без памяти Олав Трюггвисон, потому что хорош был удар Снорри Черного. Другого он непременно отправил бы в Валхаллу, но, как сказано выше, Олаву была назначена другая судьба, и его черепная кость оказалась покрепче железного шлема.
Семь дней поил его, беспамятного, ключевой водой Халльфред Трудный Скальд, а на восьмой конунг очнулся и потребовал пива.
Многое увидела душа Олава, блуждавшая в иных мирах, пока тело пребывало в неподвижности, но говорить об этом конунг не стал. Оплакал погибших верных, простил тех мятежников, что остались в живых, а едва смог встать на ноги, немедленно отправился к отшельнику и принял Крещение. По примеру конунга крестились и его хирдманы, а мудрый отшельник сказал, что Олав Трюггвисон станет знаменитым конунгом и совершит немало славных дел, многих людей обратив в христианскую веру.
Об одном лишь печалился Олав: в недавней битве погиб ирландец Эмон.
На той земле провели викинги зиму — в доме одного из местных ярлов, который счел это честью, потому что лучше с честью принять будущего конунга Норвегии, чем сделать то же самое под угрозой его меча.
Впрочем, ни Олав, ни его викинги не делали худого, ведь они теперь были христианами, а христианам не подобает обижать единоверцев.
Немало времени провел Олав со святым человеком, и тот поведал, что мудрость его — от Бога проистекает.
От Бога же и предвидение будущего и иные чудесные дела. Всю зиму учились Олав и его люди правильной вере, не забывая, впрочем, и о плотских надобностях. А весной, взявши с собой двух священников из местных, покинули Сюллинги и направились к берегам Англии.
История Олава, сына Трюггви (продолжение)- Жаль, что мы теперь — христиане, — сказал конунгу Торстейн Бычья Нога, когда они сошли на берег в английской гавани. — В этой стране можно было бы поживиться.
— Однако мы не станем этого делать, — заявил Олав. — Крещеным не подобает грабить таких же крещеных. Но я думаю, Иисус позаботится о том, чтобы мы не остались в проигрыше.
— Наверное, ты прав, — не стал спорить Торстейн. И вздохнул, потому что хорошую драку он любил не меньше, чем набитый кошель.
Они шли рядом, и встречные уступали дорогу, потому что нореги были высоки ростом, дорого одеты и выглядели грозно. Этим они привлекали всеобщее внимание, особенно внимание женщин, ведь Олав Трюггвисон, как сказано ранее, был очень красив, да и Торстейн весьма хорош собой.
— Однако мы пришли, — заметил Торстейн. — Думаю, это и есть тинг англичан.
И верно: перед ними лежало обширное пространство, заполненное людьми.
Тут им никто не уступал дорогу, потому что толпа стояла плотно, и все старались расслышать, что происходит в центре, где высился шатер конунга и еще несколько — местной знати.
— Подождем, — сказал Олав, решив, что негоже ему, роняя честь, самому расталкивать английских бондов.
Ждали они недолго, так как хирдманы Олава, увидев, что конунг остановился, поспешили к нему и быстро проложили проход сквозь толпу англичан.
Многие ворчали, однако противиться не смели. Даже те, при ком было оружие.
Выйдя в первые ряды, викинги остановились.
— Это что же, здешний хёвдинг-законоговоритель? — поинтересовался Торстейн, указав на высокого англичанина в дорогих доспехах и красивом желтом плаще.
Человек в желтом громко вещал что-то, взмахивая рукой и указывая в сторону конунгова шатра, рядом с которым, в окружении воинов, стояла красивая, богато одетая женщина в тонкой золотой короне.
— Не иначе как это жена здешнего конунга или его дочь, — пробормотал Олав. — Она хороша, верно?
Бычья Нога громко рассмеялся.
— Попробуй поговорить с ней, — предложил он. — Дочери конунгов тебя любят!
— Ну да, — охотно согласился Трюггвисон. — Я ведь и сам — конунг.
— Морской! — уточнил Торстейн и рассмеялся еще громче, привлекая всеобщее внимание. Ярл в желтом плаще нахмурился: решил, видно, что смеются над ним.
— Не забывайся, Бычья Нога, — строго произнес Олав.
— Но ведь ты и есть морской конунг, — Торстейн был простоват и говорил то, что думал. — И так будет, пока землей твоего отца правит Хакон-ярл.
Тут Бычья Нога поймал взгляд англичанина в желтом плаще и ухмыльнулся так нагло, что англичанин нахмурился еще больше.
— Я не прочь подраться, — сказал Торстейн Олаву. — По-моему, этот болтун хочет того же. То, что мы теперь — христиане, не помешает мне проучить его, если он сам напросится?
— Похоже, это важный человек здесь, в Англии, — заметил Олав, рассеянно глянув в сторону человека в желтом плаще. — Постарайся его не убить.
И тут же забыл об англичанине, потому что увидел, что жена конунга (а может — его дочь) идет к нему.
Нет, красавица-англичанка не пошла к нему прямо. Она часто останавливалась, чтобы бросить пару слов то одному важному англичанину, то другому.
Но Олав неплохо разбирался в женщинах, и взгляды, которые красавица иногда бросала в его сторону, говорили сыну Трюггви о ее намерениях так же ясно, как вздувшийся парус показывает направление ветра.
Однако не всем намерения дочери (или жены) конунга были так же хорошо понятны. Англичанин в желтом плаще определенно решил, что красавица идет к нему. Он перестал хмурить брови, приосанился и повернулся так, чтобы большая золотая фибула засверкала на солнце.
Зря. Женщина прошла мимо него и остановилась напротив Олава.
Сопровождавшие ее воины уставились на сына Трюггви с подозрением, заставив его пожалеть, что он — в обычной дорожной одежде, порядком запыленной, и только богатый меховой плащ, золотые браслеты на руках да еще — доброе оружие говорят о его настоящем достоинстве.
— Кто ты? — спросила она, без стеснения глядя в синие глаза конунга.
Сказано было на языке норманов. И одного взгляда на женщину было довольно, чтобы понять: в ней тоже течет кровь Севера.
Вблизи она показалась Олаву еще красивее, чем издали.
— Я здесь чужой, только что из похода, — ответил сын Трюггви, еще раз пожалев, что не одет как подобает, потому что наряд у красавицы был очень богатый, и Олаву хотелось выглядеть не хуже. Женщина ему очень понравилась.
«Она должна стать моей! — решил Олав. — Кто бы она ни была».
— Я — Гюда, — женщина словно угадала его мысли. — Мой отец — конунг в Ирландии, а мой муж был здешним конунгом. — И вновь угадав мысль Олава: — Он умер недавно, так что теперь я — королева и правлю этими землями.
Сын Трюггви улыбнулся от радости. Раз эта женщина — вдова, значит, ему особенно повезло, ведь ни отец, ни муж теперь не будут решать за нее, а уж в том, что он, Олав, ей по нраву, можно не сомневаться.
«Нет такой женщины, что устояла бы передо мной!» — подумал конунг гордо.
— Вижу, что ты — человек благородный, — улыбнулась в ответ Гюда. — Но назови свое имя, чтобы я могла пригласить тебя к трапезе.
— Мое имя Оле, — с тех пор как Олав покинул землю вендов, он всегда назывался так и лишь немногие из его воинов знали настоящее имя сына Трюггви. — Я — конунг из Гардарики. Морской конунг, — честно уточнил Олав. — Но отец мой был настоящим конунгом, и наступит время, когда я верну земли, принадлежащие мне по праву.
— Уверена, так и будет! — горячо произнесла вдова ярла.
Однако она была не только красавицей, но и правительницей, а потому спросила:
— Четыре боевых корабля, что вошли сегодня в гавань, — твои?
— Да, — подтвердил сын Трюггви. — Но ты можешь быть спокойна, госпожа. Мои люди не причинят беспокойства!
— Две сотни норманов поблизости — это уже достаточный повод для беспокойства!
Это сказала не Гюда, а человек в желтом плаще. И по его речи было понятно: язык северян для него — чужой. За спиной англичанина стояли его люди. Их было больше, чем людей Гюды, и все они были хорошо вооружены. Но не лучше, чем викинги.
Торстейн Бычья Нога обрадовался, решив, что англичанин в желтом плаще сейчас бросит кому-нибудь из них вызов. Торстейн шагнул вперед, потому что очень хотел, чтобы вызов достался ему. Фибула на плаще англичанина очень приглянулась Бычьей Ноге. Да и сам плащ…
Но Олав успел заступить Торстейну дорогу, а Гюда сказала:
— Это Элвин-ярл. Он очень храбр и преданно служил моему мужу. А теперь надеется, что когда-нибудь я соглашусь стать его женой. — Тут она засмеялась, и по ее смеху Олав догадался, что надеждам Элвина-ярла сбыться не суждено. — Однако пока — он мой человек, и я надеюсь, что между вами не выйдет ссоры.
Торстейн Бычья Нога очень огорчился, а сын Трюггви сказал:
— Я не ищу ссор на земле Англии, однако я не из тех, кто бегает от хорошей драки!
— Об этом легко догадаться по твоему виду! — сказала Гюда с улыбкой.
Торстейн Бычья Нога очень огорчился, а сын Трюггви сказал:
— Я не ищу ссор на земле Англии, однако я не из тех, кто бегает от хорошей драки!
— Об этом легко догадаться по твоему виду! — сказала Гюда с улыбкой. — И по виду твоих спутников. Вы выглядите опасными людьми. Таких лучше иметь в друзьях, а не во врагах. Так что будь гостем на моей земле, Оле из Гардарики! Я распоряжусь, чтобы вам предоставили жилье, а если вы захотите что-то продать или купить — никто не станет чинить вам препятствий и требовать больших пошлин.
— Тот, кто потребует от нас слишком много, останется без ничего! — воскликнул Бычья Нога и с вызовом поглядел на Элвина-ярла. Но тот даже не заметил, потому что пялился на Олава-конунга, и взгляд этот был недобрым.
Торстейну стало ясно, что драки не избежать. Вот только вряд ли Олав захочет сделать Бычью Ногу своим поединщиком, ведь он уже давно оправился от раны, а хорошую драку любит ничуть не меньше Торстейна.
В ответ на слова сына Трюггви прекрасная вдова еще раз улыбнулась и, повторив, что ждет Олава на пир, удалилась, сопровождаемая своими людьми. Элвин-ярл ушел вместе с ней.
Гюда выполнила свое обещание. Олаву и его людям предоставили хороший дом и место на рынке, где они могли продавать свою добычу.
А вечером Олав с дюжиной своих лучших людей отправился на пир. Здесь собрались самые знатные люди страны.
Был среди них и уже знакомый Олаву Элвин-ярл.
Еще присутствовал епископ, который сначала отнесся к Олаву и его хирдманам настороженно, однако, узнав, что все они — христиане, очень обрадовался и возблагодарил Бога за это.
Олав подарил ему перстень, снятый им с одного священника из Валланда в ту пору, когда Олав еще не был христианином.
Перстень очень понравился епископу, и Олав понял, что отныне может рассчитывать на его поддержку.
А вознамерился он, ни много ни мало, жениться на королеве Гюде.
Когда-то на пиру дядя Олава Сигурд сказал ему: чтобы лечь с женой конунга, ты должен сам стать конунгом. Стать конунгом Олав был не прочь. Тем более что именно это ему обещал отшельник. Правда, тогда Трюггвисон решил, что речь идет о его родине, Норвегии, однако Англия — тоже хорошая страна. И что скрывать — Гюда ему очень нравилась, а то, что она — королева здешних мест, лишь добавляло ей прелести в глазах Олава. Может, с ней ему удастся забыть свою умершую жену.
Гюде Олав тоже пришелся по душе, ведь он был хорош собой, и сразу видно, что знатного рода. И еще он был очень удачливым морским конунгом, потому что люди его были богато одеты, и золота на них было больше, чем на знатных английских лордах, которые занимали за столом почетные места. Всё это очень понравилось Гюде. Она не скрывала своих чувств, говорила Олаву лестные слова и дважды коснулась его руки.
Олав не остался в долгу и во всеуслышание произнес стихотворение, посвященное красоте королевы. Надо сказать, что стихотворение это было сочинено не им, а Халльфредом Трудным Скальдом — совсем для другого случая. Однако Халльфред, который тоже присутствовал здесь, ничем не выдал своего авторства и вместе со всеми громко хвалил поэтический талант конунга. Это было мудро, потому что поэзия прокладывает путь к сердцу женщины почти так же хорошо, как дорогой подарок, а стань Олав конунгом в Англии — и все его люди от этого выиграют.
Знаки внимания, оказываемые знатному викингу, были замечены многими англичанами и кое-кому очень не понравились. В первую очередь тем, кто рассчитывал стать новым мужем Гюды. А таких среди лучших людей королевства было не так уж мало.
Но главным претендентом был Элвин-ярл, который глядел на Олава с лютой ненавистью.
И тут кто-то из лордов сказал во всеуслышание, что пора бы королеве определиться и взять себе мужа, ведь это не дело, что страной правит женщина. Разве женщина может возглавить войско? Или родить наследника без мужа?
Пирующие уже порядочно выпили и, забыв об уважении к своей королеве, подняли невероятный шум, требуя, чтобы Гюда немедленно выбрала среди них подходящего мужа.
Разве женщина может возглавить войско? Или родить наследника без мужа?
Пирующие уже порядочно выпили и, забыв об уважении к своей королеве, подняли невероятный шум, требуя, чтобы Гюда немедленно выбрала среди них подходящего мужа. При этом каждый лорд старался перекричать других, расхваливая сам себя. И люди, пришедшие с лордами, тоже старались вовсю, выкрикивая имена своих вождей.
Только двое из достойных помалкивали. Лорд Элвин и Олав Трюггвисон.
Гости разошлись так, что дело непременно дошло бы до драки, если бы не охрана королевы, разделявшая самых ярых спорщиков древками копий.
Шум стих, когда сама Гюда поднялась со своего места.
— Будь по-вашему, — сказала она. — Я выберу себе мужа прямо сейчас. Из тех, кто присутствует здесь.
Тут наступила такая тишина, что стало слышно, как грызутся под столами собаки.
— Я выбрала, — громко произнесла королева. — Моим мужем станет… Оле-конунг из Гардарики!
С этими словами она положила руку на плечо Олава Трюггвисона и улыбнулась ему.
В зале снова поднялся шум. Многие были недовольны выбором королевы. Но еще больше знатных людей радовались, что королева не выбрала мужем другого лорда, ведь сын Трюггви был здесь чужим, и можно было надеяться, что он не станет вмешиваться в старые распри.
— Язычник-викинг не может стать твоим мужем!
Это крикнул доселе молчавший Элвин-ярл.
И снова наступила тишина, потому что сказанное было правдой. Все вспомнили, что имя Оле из Гардарики хорошо известно в Англии, потому что он немало повоевал и на этой земле.
Но тут за Олава вступился епископ и сказал, что Господь вразумил Оле и тот более не язычник, а христианин. Так что теперь грозная слава этого конунга будет защищать христиан от других язычников.
— Воистину мудрым было решение нашего конунга принять Крест, — сказал сосед Халльфреда Трудного Скальда. — Теперь он станет настоящим конунгом, а мы все получим земли и рабов.
— Но сначала, клянусь Молотом Тора, нам придется немного подраться, — заметил Торстейн Бычья Нога и засмеялся.
Элвин не рискнул оспаривать слова епископа, однако сразу заявил, что пусть Оле теперь и христианин, но настоящий выбор жениха для королевы Гюды должен сделать не человек, а Бог. И лично он, Элвин, готов сразиться с любым претендентом, дабы доказать, что Бог — на его, Элвина, стороне.
— Я не против, сказал Олав. — Но разве это не противоречит законам Христа?
— Да ты просто струсил! — тотчас же закричал Элвин.
Тут в зале сразу стало шумно. Одни кричали, что такой поединок — это грех. Другие — что пришелец боится умереть от руки Элвина, который слыл умелым и удачливым воином, убившим многих.
Кричали и люди Олава, глубоко возмущенные обвинением Элвина-ярла. Каждый из них считал своим долгом немедленно бросить вызов дерзкому англичанину.
Молчал только сам Трюггвисон.
Когда шум начал стихать, он поднялся со своего места и сказал:
— Если вы, христиане, считаете, что можно убивать друг друга, то я согласен.
Тут вмешался епископ и заявил, что убийство — это грех.
— Что ж, коли так, то я постараюсь не убивать этого человека, — произнес Олав-конунг. — Но если то, что о нем говорят, — правда, оставить его в живых будет непросто.
Элвин снова вскочил и закричал, что он сам убьет Олава, а если епископ не отпустит ему этот грех, то он найдет другого священника, который отпустит.
Олав громко засмеялся и предложил своему недругу встретиться завтра. Пусть возьмет с собой двенадцать человек, и он, конунг, возьмет с собой столько же.
Так и сделали. На следующее утро Олав и его люди встретились на рыночной площади прямо посреди ярмарки.
С Олавом было двенадцать его лучших людей. С Элвином-ярлом — ровно столько же.
— Делайте то же, что и я, — сказал своим хирдманам Олав и вышел на середину круга. Был он в своем обычном доспехе, но вместо меча взял большую секиру. Многие удивились такому выбору, но Олав только усмехнулся.
Элвин-ярл также был облачен в броню, а в руках у него были меч и щит.
С грозным криком он набросился на Олава… И тот первым же ударом тяжелой секиры вышиб меч из руки англичанина. А вторым ударом разбил щит и поверг Элвина-ярла наземь. Тут Трюггвисон отбросил секиру, навалился на противника и очень быстро связал его приготовленной загодя веревкой.
Надо отметить, что умение связать побежденного врага всегда считалось среди викингов важным искусством, и Олав владел им в совершенстве.
Едва меч вылетел из руки Элвина-ярла, как все норманы бросились на его людей и сделали то же, что и их конунг: не убивая, повергли ошеломленных англичан наземь и связали.
Толпа, наблюдавшая за поединком, разделилась на две части.
Одни кричали, что люди конунга поступили нечестно, другие, наоборот, восхваляли ловкость и умение конунга и его хирдманов. Они радовались, что теперь у них такой славный король и какой правильный выбор сделала королева Гюда.
Впрочем, даже те, кто осуждал северян, не рискнули им помешать, когда те потащили пленников в дом, щедро предоставленный хирду Гюдой.
— Я не стану тебя убивать, — сказал Олав пленнику, — потому что обещал это епископу. Но за твою дерзость и твою жизнь возьму с тебя выкуп: всё, что у тебя есть. И еще ты должен убраться с моей земли и никогда не возвращаться обратно.
Обнадеженный словами Олава о том, что тот не станет его убивать, Элвин заявил, что ничего обещать не станет.
Тогда вмешался Торстейн Бычья Нога. Он был разочарован тем, что вместо настоящего боя, где у него была бы возможность показать свою храбрость и мастерство, вышла такая глупая потасовка. Будто не воины вышли против них, а неумелые бонды.
— Я, — сказал Торстейн, — никому ничего не обещал. Но, ценя слово своего ярла, тоже не стану тебя убивать. Сейчас принесут горячие угли и поставят на них твои ноги, англичанин. И тогда мы все узнаем, так ли ты грозен на деле, как грозны твои речи на пиру.
— Что ж, — одобрил Олав. — Это хорошая мысль. Воинское умение твое оказалось невеликим, но интересно будет узнать, каково твое мужество. А если после испытания ты всё же умрешь от горячки, то в этом не будет моей вины, ведь только Бог решает: кому умереть, а кому выздороветь.
Элвин-ярл побледнел. Он понял: даже став христианами, викинги все равно остались викингами.
— Я отдам тебе всё, что у меня есть! — воскликнул он. — И уеду отсюда навсегда! Клянусь Именем Спасителя! — и поцеловал большой золотой крест, висевший у него на шее.
— Может, всё-таки проверим его мужество? — предложил Торстейн Бычья Нога, которому было жаль упускать развлечение.
— Он поклялся, — возразил Олав. — Вдобавок я и без того вижу, что мужество его не превосходит его воинского умения.
— Тогда я возьму себе это, — сказал Торстейн, сдернул с шеи Элвина-ярла крест и нацепил на себя.
Спустя несколько дней Олав женился на королеве Гюде и стал конунгом на земле Англии.
* * *- …Вот такой подарок сделал мне Бог за то, что я принял Крещение, — завершил Олав свой рассказ. — Мой скальд Халльфред поведал бы эту историю лучше, чем я, но, думаю, и сказанного достаточно, чтобы понять: Иисус Христос — истинный Бог, и Он сильнее всех прочих, так что мой тебе совет, конунг: прими Крест! Тогда сила твоя умножится, а удачей ты превзойдешь всех своих врагов!
— На удачу я и так не жалуюсь, — спокойно произнес Владимир.
— А мои враги стараются держаться от меня подальше.
— О да! — воскликнул Олав, рассказ которого был долог, поэтому конунгу пришлось часто смачивать горло, и пиво, которое выпил сын Трюггви, сделало его очень веселым. — Мне говорили, что ты неотразим в других битвах. Правда ли, конунг, что у тебя в каждом городе по сто наложниц, и все они каждый год рожают от тебя детей?
— Вранье, — хладнокровно ответил Владимир, покосившись на женскую половину стола, где его Рогнеда, которой речь нурманов была известна с детства, внимательно прислушивалась к разговору. — У меня очень много городов, Трюггвисон. — Даже двух лет будет маловато, чтобы объехать все. А кого интересуют ублюдки, если есть законные сыновья!
Нурманам его ответ пришелся по вкусу. Все еще больше развеселились и выпили за то, чтобы сыновья Владимира славой не уступили отцу.
— Что за пес у тебя? — поинтересовался Духарев, с интересом изучая лохматое страшилище, неподвижно лежавшее у ног Олава и не обращавшее внимания ни на падающие со стола кости, ни на грызущихся из-за подачек псов Владимира.
— О, это особенный пес! — с удовольствием ответил Олав Трюггвисон. — Я приобрел его в Ирландии, когда после удачного похода решил зайти к конунгу Олаву Кварану, моему тестю. По возвращении мы пристали к берегу, и я велел согнать к кораблям скот окрестных бондов, потому что мы соскучились по свежему мясу. И вот один из бондов пришел по мне и попросил вернуть его коров. Сказал, что его собака, — тут Олав потрепал черного волкодава по голове, — сама выберет и отыщет его коров. Мне стало любопытно, и я разрешил. Представь, ярл, этот пес выбрал из большого стада всех коров бонда. Мы проверили клейма. Ошибки не было. И я забрал Виги, так его зовут, себе. А взамен отдал золотой браслет. Считаю, это был хороший обмен. Умней этого пса я ни одной собаки не встречал.
— Я бы повязал его с моей сукой, — сказал Духарев. (Ирландский волкодав — это круто!) — Что ты хочешь взамен?
— Отдай мне своего сына! — заявил Олав. — Вот этого! — Трюггвисон показал на Богуслава, пировавшего за столом старшей гриди. — Когда я стану конунгом, я дам ему столько золота, сколько он сможет унести.
— Не могу, — покачал головой Духарев. — Он — воевода Владимира, и вряд ли тот согласится его отдать.
— Пожалуй, — не стал возражать Олав. — Он даже моего дядю Сигурда не пожелал отпустить. Это из-за вашего летнего похода в Византию. Жаль! Но я — удачлив, и мне подобает быть щедрым. Приведи твою суку, и мой Виги сделает всё как надо, можешь не сомневаться!
— А ты не хотел бы присоединиться к нам? — спросил Духарев. — Ромеи платят щедро!
— Не могу, — покачал головой Олав. — Напротив, я сам рассчитывал найти здесь поддержку.
— Эй, Трюггвисон! — окликнул гостя Владимир, которому не понравилось, что нурман шепчется о чем-то с Сергеем. — Ты еще не рассказал, почему бросил свои земли в Англии и приехал сюда? Не думаю, что для того лишь, чтобы рассказать мне о вере в Христа.
— Так и есть, — отозвался Олав. — Я не мастак говорить о вере. И приехал я сюда, потому что мне нужны сильные люди, чтобы отвоевать земли моего отца — те шестнадцать больших фюльков, которые когда-то взял под себя мой предок Харальд Прекрасноволосый и которыми теперь правит мой недруг Хакон-ярл. Вот почему я оставил свои корабли зимовать и пешком пришел сюда.
— Если бы ты согласился подождать год, я бы помог тебе, — сказал Владимир. — Дело твое — правое, и Хакон-ярл мне не друг.
— Если бы ты согласился подождать год, я бы помог тебе, — сказал Владимир. — Дело твое — правое, и Хакон-ярл мне не друг. Если ты и твои люди послужат мне один год, я сполна отблагодарю тебя.
Олав покачал головой.
— Люди моей земли послали в Ирландию человека, чтобы позвать меня, — сказал Трюггвисон. — Вот этот человек, — Олав показал на одного из своих спутников. — Его зовут Торир Клака, и он проделал нелегкий путь, чтобы найти меня.
Духарев поглядел на посланца норвежского народа. М-да. Сергей бы такому не доверил даже лошадь постеречь… Однако ж он сумел убедить Олава, который тоже далеко не лох. Значит, нашлись аргументы.
«Надо будет навести о нем справки», — подумал Сергей.
Ксожалению, связи торгового дома «Духарев и семья» в Норвегии были весьма слабы. Да и время года было неподходящее, так что, когда до Киева добралась кое-какая информация, Олав Трюггвисон был уже далеко. И всё, что смог сделать Сергей, — это проинформировать дядю Олава Сигурда-ярла о том, что Торира послали не друзья Олава, а главнейший его враг — Хакон-ярл.
Тем не менее можно было считать, что Духарев с лихвой отблагодарил Олава за щенков, родившихся от ирландского волкодава[27].
Глава четырнадцатая. Император — против!
Пришли новости из Константинополя. Как и следовало ожидать, идея отдать за Владимира собственную сестру и порфирородную царевну Анну повелителю Византии резко не понравилась.
Суть его ответа можно было свести к одной фразе: «Он там совсем охренел, этот варвар!»
Мелентий пребывал в глубокой печали. Резонно опасался за голову.
Духарев не пробовал его утешить. Он решил зайти с другой стороны.
— Послушай, дружище, — сказал он послу. — Давай я тебе поведаю одну историю, а ты уж, своими словами, перескажешь ее нашему Автократору. Итак, жила-была одна великая империя. С одной стороны ее теснили варвары, но это не страшно, потому что варваров было много, и всех их легко было перессорить меж собой. А вот с другой стороны ее поджимали сторонники пророка Мухаммеда. Вот с этими было сложнее, потому что они были едины. Еще с нею граничили единоверцы-христиане, но они тоже были недружественны нашей империи и предпочитали союзничать с другими государствами, от которых терпели меньше утеснений. И тут случилось так, что варвары тоже решили отступить от своего варварского единобожия и примкнуть к одной из великих вер. И повели переговоры с христианами другой империи. Но это еще полбеды. Хуже то, что они наладили дружбу с миром ислама. И теперь пусть повелитель нашей великой империи попробует представить, что будет, если варвары, о которых мы говорим, тоже уверуют в Мухаммеда…
— Я тебя не понимаю, светлейший муж, — напрягся Мелентий.
— А что тут непонятного? — удивился Духарев. — Князь наш заключил договор с волжскими булгарами-мусульманами. Налаживает торговлю с Хорезмом и Багдадом. — Тут Сергей приврал: это он сам налаживал такую торговлю, но зачем послу знать лишнее? — А если случится так, что он и сам примет ислам?
— Это невозможно! — воскликнул Мелентий.
Последние императоры-воины, Никифор Фока, частично реформировавший армию и военную стратегию, а особенно Иоанн Цимисхий сумели потеснить мусульман: отбили Крит, Сирию, кусок Месопотамии… Но страх имперцев перед последователями Магомета не иссяк.
— Очень даже возможно! — возразил Духарев. — Попробуй донести это до своего господина. Поверь, этот вариант куда хуже, чем Крещение, принятое от императора Оттона. Последователи Мухаммеда не знают жалости. И они очень воинственны. Именно эта вера больше всего подходит нам, русам.
— Но ты же христианин, светлейший! — возмутился Мелентий. — Ты — спафарий императора!
— Именно поэтому я тебе это и рассказываю, — невозмутимо произнес Сергей. — Попытайся дать понять Автократору или хотя бы паракимомену Василию, что единственный способ остановить приобщение Руси к исламу — это Крещение, принятое от Константинополя. А цена этого Крещения — порфирогенита Анна. Она — не только цена жизни и власти нынешнего василевса Василия Второго, да хранит его Господь, но и цена спасения всей империи. Сообщи об этом, Мелентий!
В Большом Дворце должны об этом знать. Так пусть знаю и пусть думают. Если хотят, пусть пришлют сюда епископов и других вероучителей. Но следует поторопиться, чтобы мятежник Фока не опередил всех нас!
— Ты воистину мудр, светлейший Сергий! — восторженно заявил Мелентий и умчался писать доклад.
Духарев же разгладил пышные усы и усмехнулся. Воистину есть просто ложь, наглая ложь, беспардонная ложь и политика.
Труднее было с Владимиром. Рассказ Олава Трюггвисона произвел на князя впечатление. Но вовсе не то, которое хотелось бы Духареву. Владимиру очень захотелось самому поглядеть на чудеса, творимые христианами. На епископа, который носит в руках раскаленное железо, как простую деревяху. На мудрых, которые способны предсказывать будущее таким, как Олав-конунг. Хотелось великому князю увидеть Чудо. Да такое, что затмило бы мелкие фокусы языческих жрецов вроде хождения по горячим углям.
Чуда же Духарев предоставить не мог. В Киеве было несколько священников, которых Сергей Иванович уважал и считал настоящими духовными подвижниками, в отличие от облаченных в рясы «агентов влияния» Византии. Но зримых чудес никто из них не творил, а чудеса духовные, после которых душа очищается и парит, были для Владимира недоступны. Посему в своей религиозной агитации упирал Духарев не на духовную часть, а исключительно на практическую пользу принятия христианства. Вроде уговорил, да. Но весьма опасался Сергей, что обращение Владимира пройдет по варианту великого князя угорского. То есть будет чисто формальным.
Когда же Сергей поделился своими сомнениями с женой, то Сладислава лишь головой покачала:
— Беспокойство твое — зряшнее. Потому что ты, муж мой, в рассуждениях своих забываешь о главном.
— О чем же? — спросил Духарев.
— Не о чем, а о Ком. О Боге.
Глава пятнадцатая. Печенеги
После того как Духарев перебил копченых у Чити, безобразия на днепровском зимнике прекратились. И за прочими хлопотами Сергей Иванович забыл о своих мыслях по поводу нестандартного поведения степняков. Не до того было. А повода вспомнить — не было. Озоровали лихие люди на дороге, что связывала Киев с Черниговом, но с южной стороны разбоя не было. Как выяснилось, до времени.
Оразграбленном санном поезде Владимиру сообщили, когда он возвращался из Родни.
Развернув дружину, великий князь тут же отправился в обратный путь и уже к полудню оказался на месте злодеяния. Толпа, собравшаяся поглазеть на убитых, уже разошлась. Тела убитых прибрали, аккуратно уложив под берегом, путь расчистили, оттащив разграбленные сани в сторонку. Очисткой зимника занимался наместник Родни Гримстайн, княжий человек еще со времен свободных виков, с десяток его дружинников и примерно столько же смердов, собиравших разбросанное по льду и присыпанное снегом.
Вещей, которыми побрезговали разбойники, было немало. Брали только то, что можно унести на спинах лошадей.
— Кого побили? — спросил Владимир.
— Булгар. С Дуная. Вчера напали, уже в сумерках.
— Уцелел кто? — без особой надежды спросил Владимир. Разговаривали они по-нурмански.
Даже сквозь свежевыпавший снежок было видно, что на много саженей вокруг всё испятнано кровью.
— Малец один. И девчонка. Но она махонькая совсем, ничего не поняла. Сани перевернулись, они под ними и схоронились, мой конунг.
— Что видели?
— Малец сказал: сначала стрелы полетели, потом конные наскочили… Больше не помнит ничего. Сани перевернулись. Повезло им.
— Кто это был? Куда ушли? Почему не догоняете?
— Кто — не видели. Ушли в степь. Следов нет — снег ночью выпал. Да и не с кем погоню устраивать: у меня конных всего восемь десятков, да и те — не вои, а так… Ополченцы. Станут охотиться за степняками в степи — только мертвецов множить.
— А сам что думаешь? Кто это?
— А что тут думать? — усмехнулся нурман. — Копченые это. Цапон. Их здесь уже видели. Когда твой воевода Серегей задал им жару, отстали. Да вот опять… Что мне делать, конунг? Родню-то я обороню, а вот санный путь — уже не осилю.
— Что ж не сказал мне, что на Чить цапон напали? — укорил великий внязь Духарева.
— А какая разница, какого племени копченые созоровали? — пожал плечами Сергей. — Как напали, так и отпали. Три сотни мы положили. Больше не сунутся.
Он по-прежнему недоумевал: с чего это так срочно понадобился великому князю.
— А вот сунулись, — раздраженно проговорил Владимир. — Купцов бьют нагло, прямо у меня под носом. Два селища разграбили. Какой я князь, если чать свою оборонить не могу?
— Дай мне двести всадников, господин, — подал голос Габдулла, — и я принесу тебе голову вождя разбойников!
Князь покосился на телохранителя, но ничего не сказал.
Зато Духарев решил поставить бохмичи на место. А то вдруг князю придет в голову поддержать идею Габдуллы.
— Ты, шемаханец, когда первый снег увидел? Небось здесь, в Киеве?
— На Дунае тоже снега хватает, — буркнул Габдулла.
— А воевать в снегу ты умеешь?
— Я везде воевать умею! — самоуверенно заявил шемаханец. — Дай мне сесть на коня, и ты увидишь, как я умею воевать!
— Ох и много ты на своем «арабе» сейчас навоюешь, — усмехнулся Духарев.
— Я…
— Довольно! — перебил шемаханца Владимир. — Говорить будешь, когда я велю!
Князь мрачно уставился на воеводу:
— Цапон… Мне говорили: их большой хан прежде был союзником Киева.
«Союзником князя Ярополка», — было бы точнее, но Владимир не любил упоминать убитого брата. Он взял большую виру с убийц, вдову сделал собственной женой, а сына ввел в род как своего, но уж Владимир-то знал, кто истинный, а не формальный виновник смерти Ярополка. И отлично понимал, что коварство Блуда сыграло ему на руку. А заодно дало удачный предлог избавиться от присутствия в Киеве того, кого обещал «держать заместо отца».
Но это здесь, в Киеве, Владимира посчитали законным наследником брата. Ни немцы, с которыми Ярополк удачно вел переговоры, ни печенеги-цапон, с которыми у Ярополка был заключен союз, правопреемником брата Владимира не считали. Немцы — ладно, а вот печенеги — это очень, очень опасно. Именно они сначала подрезали крылья его отцу, внезапно осадив Киев, а потом и вовсе лишили его жизни.
Но как замириться с большим ханом Илдэем, Владимир не знал.
— Можешь выяснить, что нужно Илдэю, чтобы возобновить союз?
— В союзе иль нет, копченым всё равно верить нельзя, — напомнил Духарев. — Но я знаю человека, который мог бы договориться с большим ханом.
— Ну?
— Четвертый сын Ольбарда, князя белозерского, Вольг!
Владимир нахмурился…
— Что-то не помню такого.
— Варяжко!
— Ах, этот? — Суровое лицо великого князя отчетливо выразило всё, что он думает о бывшем воеводе Ярополка, который едва не поломал все планы Владимира, а потом не только отказался ему присягнуть, а еще и сбежал к копченым, пообещав всемерно мстить за своего князя. И не солгал.
— Ты зря на него серчаешь, — спокойно сказал Духарев. — За что? Человек он — верный. Повернее других. Роту принес — и не отступил. А что не тебе, а Ярополку, так это дело не меняет.
— Еще как меняет! — по-волчьи ощерился Владимир. — Поймаю — на части порублю!
— А я бы не стал этого делать, — не повышая голоса, произнес Духарев. — Верный человек — он всегда верный. Уговори его, обласкай — и будет тебе так же служить, как прежнему князю. Думаю, он поддастся. Невелика радость — природному варягу с копчеными жить.
— Я подумаю, — буркнул Владимир. Похоже, он просто решил замять тему.
— Ты, княже, не думай. Ты — решай.
— Вот приведи его ко мне — тогда и буду решать! — отрезал великий князь.
— Нет уж, — воспротивился Духарев. — Думаешь, легкое это дело — Варяжку в Дикой Степи искать? Может, он вместе со всей ордой на полдень откочевал? А даже если и найти: как его тогда уговорить в Киев явиться? Он ведь небось клятвы потребует, что обиды ему чинить не станут. А клятва такая только тогда цену имеет, когда от тебя исходит.
Князь глубоко задумался.
Духарев ему не мешал. Знал: личные обиды много значат для Владимира, но не более, чем безопасность Великого княжества.
Так и вышло. Владимир поразмыслил, прикинул варианты и понял: этот — самый оптимальный. А может, вспомнил, что Варяжко у Ярополка был воеводой не из последних и впрямь верным. Такой любому властителю пригодится.
— Кому клясться? — буркнул он, исподлобья глядя на седоусого воеводу.
— Перуну, — ответил Духарев. — И мне. Я уж найду того, кто твою клятву Варяжке передаст.
— И что же, Вольг этот точно приведет ко мне цапон? — с сомнением произнес Владимир.
— Он на дочери Илдэя женат. И у большого хана в почете. Он для этого дела — лучший.
— Будь по-твоему, — принял решение Владимир. И поклялся.
Глава шестнадцатая. Варяжко
Младший сын белозерского князя, а ныне — младший хан печенежской орды Цапон Вольг-Варяжко проснулся и с раздражением оглядел тесное пространство кибитки. Потом перевел взгляд на молоденькую соложницу, взятую им потому, что жена донашивала последние месяцы, и недовольно поморщился. В отличие от законной жены Варяжки, дочери большого хана Илдэя, наложница была типичной печенежкой: смуглой, плосколицей, с приплюснутым носиком. Молодость была единственным ее достоинством.
Выпроставшись из-под волчьего одеяла, Варяжко подхватил здоровенный кувшин и прямо из горлышка глотнул парного кобыльего молока, заботливо принесенного кем-то из челяди. Покривился еще раз — кобылье молоко ему категорически не нравилось, но выбора не было. Эх! Сейчас бы квасу родного! А лучше — пива! Густого, вкусно пахнущего пива, что варят женщины на Белозере…
Варяжко пихнул девку. Та тут же проснулась, улыбнулась униженно, завернувшись в халат, спрыгнула с ложа, сунула ноги в валенки и убежала. Работать. Женщины у копченых работали много. Собственно, они и делали всё, что требовалось по хозяйству. Мужчины же пасли коней, воевали и оплодотворяли.
Варяжко выбрался из кибитки, соскочил босиком на снег. Холода он почти не чувствовал. Утро выдалось тихое, солнечное, мороз по белозерским меркам — слабенький.
Варяжкин боевой жеребец, привязанный тут же, у кибитки, потянулся к хозяину губами, но тому нечем было угостить друга, так что жеребец вернулся к кормушке с сеном.
Холода он почти не чувствовал. Утро выдалось тихое, солнечное, мороз по белозерским меркам — слабенький.
Варяжкин боевой жеребец, привязанный тут же, у кибитки, потянулся к хозяину губами, но тому нечем было угостить друга, так что жеребец вернулся к кормушке с сеном. В отличие от степных лошадок, самостоятельно добывавших пищу, хорошего коня надо было кормить.
Стойбище просыпалось. Повсюду тянули дымки, пахло традиционной печенежской похлебкой из мяса, зерна и пахучих трав. Варяжко вдохнул этот надоевший запах, и ему вдруг безумно захотелось вонзить зубы в хлебный каравай. Горячий, мягкий…
— Мой господин будет кушать?
Старуха, которая командует его челядью. Собственно, не такая уж и старуха. Может, ей лет сорок, а то и тридцать. Непривычным глазом не отличить, какой из них тридцать, а какой шестьдесят. Разве что по скрюченности спины и количеству зубов во рту.
— Неси.
Трое пацанят, закутанных в меха, похожих на мохнатые шарики, катались в снегу, отнимая друг у друга конский череп. Небольшая черная псина с волчьими челюстями следила за игрой с нескрываемым интересом.
Детей в стойбище было мало. Женщин — тоже. Ровно столько, чтоб хватило на обслугу. Остальные откочевали с большой ордой туда, где теплее и сытнее. С ними ушла и жена Варяжки. Сам он остался. Мстить. Осенью с ним было шестьсот сорок воинов. Сейчас осталось около трехсот. Воины, правда, не роптали — добыча тоже была немаленькая, но Варяжко понимал: настоящей войны с ними не затеять. В отдельности каждый из них — неплох. Вместе — дикая и алчная толпа. Набежали, схватили, убежали. Послушания — никакого. Что он ни придумает, всё испортят. Каждый сам за себя.
Авторитет Варяжки, поначалу очень высокий, с каждым днем падал. Копченые слушались его без всякой охоты. Исключительно потому, что Илдэй объявил его младшим ханом и велел повиноваться. Варяжко думал теперь, что остаться близ киевских земель на зиму — не такая уж хорошая мысль. Конечно, пограбить санные пути — это хорошо. Но проклятый снег лишает печенегов главного преимущества: скорости и неуловимости.
Месть, месть… Да разве это месть — купцов грабить? А до самого Владимира — не добраться. Небось убийца Ярополка и знать не знает, что где-то на окраинах его земель щиплет жалкие кусочки тот самый воевода Варяжко…
* * *- Ветра нет, — сказал Лузгай, командир лучшей сотни Артёма. — Копченые спят.
— Вот засони! — сказал другой сотник, Вальгар Барсучонок, и засмеялся. — Солнце взошло, а они дрыхнут.
— А чё им еще делать, — вмешался третий сотник, Крутояр, сын князь-воеводы Свенельда и дворовой девки. — Кашеварят у них бабы, а кони сами пасутся. Хорошо живут!
— Жили, — уточнил Артём. — Борх, тебе табун прибрать и проследить, чтоб никто не удрал.
Сотник молча качнул головой. Голова хузарина казалась несоразмерно огромной, потому что поверх шлема на нее была надета белая мохнатая шапка. Зато не блестит и в снегу не видно.
— Остальные — как уговорено. Всех, кто с оружием, — бить беспощадно. Кроме Варяжки. Этого — живым. Помните его?
Все четыре сотника разом кивнули. Еще бы им не помнить славного воеводу…
— Раз так — давайте к своим воям. И по сигналу…
Артём взялся за дело сразу, как только получил от отца «добро».
Ему было примерно известно, где разбойничали копченые. Знал он и направление, в котором они уходили.
Но искать в степи их следы уличский князь не стал. Поступил иначе. Зная, откуда степняки не будут ждать неприятностей, решил зайти не со стороны Днепра, а со стороны Южного Буга, то есть — со своей уличской земли. Разослал разведчиков и уже через седьмицу получил результат.
Стоянка цапон была обнаружена. А вот самих разведчиков никто не заметил. Потому что не предполагали, что те придут со стороны заката.
Конечно, стоянка степняков — это не город. Сегодня она здесь, а завтра за поприще[28] отсюда. Но кочевье на кибитках — это не летучий отряд. Оставляет такой след, который найти не так уж сложно.
Но самое главное: это было именно то, что искал Артём. Среди степняков разведчики заметили воина в необычной для копченых, но вполне обыденной для старшей киевской гриди броне. Никем иным, кроме Варяжки, этот воин быть не мог.
Теперь главное — не упустить бывшего воеводу!
Сигналом был не обычный звук рога, а пущенная вверх стрела с заметной алой лентой. Артём не хотел заранее всполошить копченых.
Стрела взлетела. Битва началась.
Артём в сече не участвовал. Въехал на холм и наблюдал на сражением, окруженный ближниками: полусотней опытных гридней. Если что пойдет не так, они — резерв.
Хотя что может пойти не так? Разве что Варяжко, хитрец, какой-нибудь трюк учудит…
Сначала Артём собирался просто встретиться с бывшим другом и бывшим киевским воеводой да поговорить. Но на обычных переговорах Варяжко мог и отказаться от предложения. А когда оказалось, что выследить малое кочевье в заснеженной степи — проще простого, то Артём даже и сомневаться не стал. Всегда приятно говорить с позиции силы с тем, кто ее, силу, уважает.
Гридь всё сделала безупречно. Хузары за сто шагов положили дозоры: полдесятка копченых, коим было велено нести сторожу, но которые, вместо того чтобы бдить, просто дремали в седлах. Затем сотни Лузгая, Крутояра и Барсучонка разом поднялись и покатились на ворога. Сначала — бесшумно, потом, когда уже ворвались на стойбище, — с грозным боевым кличем.
Со своего холма Артём видел и слышал всё, что происходило. Проспали копченые свою беду. Дружина уличского князя, действуя четко, небольшими сплоченными группами, накатилась на стойбище, опрокидывая копьями шатры, вскрывая кибитки, сбивая стрелами заполошенно выскакивающих наружу, бездоспешных печенегов. Некоторые всё же успевали вскочить на привязанных у жилищ коней и дать деру. Но тех, кому удавалось вырваться из стойбища, настигали уже хузарские стрелы.
Многие, впрочем, успевали отбросить оружие и упасть ничком в снег. Таких не трогали. Пока…
Варяжко не увидел стрелы с красным хвостом. И не увидел, как побили сонных дозорных. Опасность он почуял, когда пришел в движение пасшийся неподалеку табун.
И сразу — слитный топот копыт со всех сторон.
Варяжко мгновенно сообразил: пытаться как-то организовать степняков на бой невозможно. Три сотни печенегов — изрядная сила. Если на конях, с полными колчанами и готовностью биться. Сейчас это — сброд. Каждый сам за себя.
У Варяжки был выбор: вскочить охлюпкой на коня и попробовать уйти. Конь у него был отличный, брешь высмотреть можно…
Но — смысл?
Бывший воевода киевский не стал убегать. Нырнул в кибитку, натянул сапоги, надел подкольчужник, бронь, шлем, взял меч и щит и уже без всякой спешки вышел наружу…
И сразу увидал направленное в лицо железко копья.
— Так и знал, Вольг, что ты самый большой колесный домище отхватишь! — весело заявил Вальгар Барсучонок, поднимая копье вверх. — Меч отдай!
— А ты возьми! — дерзко предложил Варяжко.
Для того чтобы уверенно завалить любого пешца, даже нурмана-берсерка, достаточно трех стрелков. За Барсучонком стояли пятеро. Но смерть с мечом в руке — не худшая.
— Ладно, оставь себе! — великодушно разрешил Барсучонок. — Не убивать же родича из-за какого-то куска железа!
— Я бы от такого железа не отказался! — заявил один из лучников.
— Тогда слезай с коня и доставай меч! — предложил Варяжко.
— Ты мне вроде не родич. Одолеешь — будет твоим.
— Недолго, — с усмешкой посулил Вальгар, заметив, что гридень принял предложение всерьез и собрался спешиться. — Потом князь снесет тебе глупую голову и сделает из нее горшок для помоев. Эй, родич, мой князь хочет с тобой побеседовать. Ты как, не откажешься?
— Спросили ощипанного гуся, не откажется ли он на вертел залезть, — пробормотал Варяжко. — А кто твой князь ныне, сын Стемида?
— Вон он, едет уже, — сказал Барсучонок. — Да ты не тревожься, родич. Мы ж не копченые. Не договоритесь, резать не будем. Слово!
Тут полукольцо дружинников раздвинулось, и на утоптанную площадку перед кибиткой выехал князь-воевода Артём.
— Здрав будь, Вольг Ольбардович, — спешиваясь, сказал он.
— И тебе того же… Артём Серегеич, — процедил Варяжко. — Одарил, значит, тебя братоубийца за то, что князя своего предал.
— Ты слова выбирай, Вольг! — холодно произнес Артём. — А то как бы пожалеть не пришлось!
— Что? Два раза меня убьешь? — Варяжко захохотал и взмахнул мечом. — Ну стреляй, гридь! Живым не дамся!
— Да кто тебя спросит? — усмехнулся Артём и… Никто не успел увидеть, как вылетели из ножен клинки. Хотя нет, Варяжко успел. Сумел даже закрыться от сабельного…
Но в тот же миг леворучный меч со звоном врубился в шлем, и земля ушла из-под ног бывшего Ярополкова воеводы.
Очнулся он через мгновение, но — поздно. Меч лежал в стороне, а сам он — на спине, с острием, упершимся в кадык.
— Добивай! — прохрипел Варяжко, толкаясь навстречу клинку, но нога в отороченном мехом верховом сапожке придавила его к земле.
— Не дождешься, — насмешливо проговорил Артём. И, наклонившись: — А Улич мне не от Владимира, а от Свенельда достался. В приданое. Или ты, княжич, со своими копчеными, в невинной крови купаясь, не только честь, но и память потерял? — И, повысив голос: — Вяжите его!
Трое гридней тут же подхватили полуоглушенного Варяжку и упаковали в ремни.
— Добро собрать, загрузить в кибитки покрепче — и в Чить! — скомандовал Артём. — К вечеру, чую, метель будет.
— Княже, а что с остальными копчеными? — спросил Крутояр. — Бить всех?
— Ну зачем же всех? — Взгляд Артёма упал на трех маленьких бутузов, в ужасе прижавшихся друг к другу. — Отбери из степняков парочку непопорченных и упакуй в дорогу. Баб и детишек — тоже с собой возьмем. Остальным — жилы подколенные перерезать, да и пусть живут.
— Так они ж после такого всё равно передохнут! — удивился Крутояр.
— А вот это уже не мое дело. Я им не нянька!
Глава семнадцатая. Замирение
Тяжеленький тюк увязанных в кожаный мешок доспехов упал к ногам Варяжки.
— Облачайся, — велел Артём.
— Биться со мной будешь? — с надеждой спросил Варяжко.
Они остановились как раз на перекрестке, где от основного тракта отделялся санный путь к Вышгороду.
— Обойдешься. — И, отроку: — Помоги воеводе. Видишь же: руки у него от пут занемели. А ты, Вольг, глупое сказал. А сейчас — умное скажешь. Клятву дашь на мече, что не поднимешь его ни против меня, ни против князя, ни против руси.
— А если не дам? — Бывший воевода Ярополка размял руки, сам подпоясался широким боевым поясом, встряхнулся, тронул рукоять… И тут же оказался под прицелом вскинутых луков.
Однако Артём махнул рукой, и луки опустились.
Однако Артём махнул рукой, и луки опустились.
— Дашь, — уверенно произнес уличский князь. — Во-первых, я тебе наказ от старшего в роду привез, пестуна моего Рёреха: повеление от копченых отступить. А во-вторых, я тебе тоже клятву дам. На кресте. Что никто тебе в Киеве обиды не припомнит и худого не сделает: ни враги твои прежние и нынешние, ни сам великий князь Владимир.
— За что же это мне дар такой бесценный? — прищурился Варяжко.
— За честь, — последовал короткий ответ. И Варяжко кивнул молча. Он понял.
Сбросил рукавицы, взялся за ледяное железо, призвал Перуна, четко, чтоб многие услышали, произнес слова клятвы. Затем поцеловал клинок, осторожно, там, где согрел, — чтоб губы к металлу не примерзли, вбросил в ножны и легко взлетел на коня.
Теперь настал черед Артёма поклясться и поцеловать крест. Затем старые друзья съехались, обнялись и расцеловались по обычаю.
— Теперь — в Киев? — спросил враз повеселевший (уже не на пытки и казнь ехал теперь) Варяжко.
— Погоди! Копченых — сюда!
Дружинники подтянули на арканах двоих степняков. Порядком измученных, но вполне еще годных как для боя, так и для хорошей потехи.
— Хочу, чтобы эти поехали с нами, — сказал Артём. — Сумеешь объяснить им, чтоб вели себя скромно и с вежеством, тогда им и жизнь сохранят, и оружие вернут. А ты за них в ответе будешь.
— Это мои люди, — сказал Варяжко. — Сделают, что велю.
И скомандовал по-печенежски.
Степняки уставились на него, не веря своей удаче. Варяжко прикрикнул сердито, и цапон тут же заухмылялись, сообразив, что избегли смерти лютой и вполне заслуженной. Один тут же процедил что-то в адрес русов. Явно хулительное…
Шлеп! — и поперек дубленой морозом и ветром плоской рожи забагровел рубец.
— Язык придержи! Отрежу! — посулил Варяжко, опуская плетку.
Печенег не обиделся. Потер след удара, ухмыльнулся еще шире, показав неполный комплект зубов, вскочил на подведенного коня и только после этого нацепил пояс с саблей и ножом. Тул со стрелами и лук в налуче уже были приторочены к седлу.
Варяжко махнул рукой, обозначив копченым место за собой, и дружина двинулась рысью в сторону Киева.
* * *- Княжич варяжский Вольг — к великому князю Владимиру! — торжественно произнес Артём, поклонился и шагнул в сторону, пропуская Варяжку и пару его спутников-цапон.
Войдя, бывший воевода Ярополка сразу остановился, огляделся…
Великий князь восседал на возвышении, в окружении бояр и воевод. Многих Варяжко хорошо знал. И большинство из знакомых глядели на него сейчас с откровенной ненавистью. Враги давние и враги новые, коих Варяжко приобрел своими кровавыми набегами на русь.
Варяжко покосился на Артёма. Тот кивнул ободряюще, показал взглядом: «Я — поклялся. И я — с тобой!»
Бывший воевода Ярополка вздохнул, шагнул вперед…
Великий князь пристально глядел на него. Недобро, угрожающе… Но Варяжко сделал еще шаг, затем медленно вытянул из ножен меч, опустился на колено, двумя руками уложил меч на скобленый пол, сверху — подбитый войлоком шлем и стянутую с выбритой головы шерстяную шапочку, затем склонился совсем низко, так, что свесившийся с гладкого черепа варяжский чуб коснулся запотевшей стали, да так и замер…
Великий князь поднялся и сошел вниз.
Следом за ним тут же направился Габдулла…
Но поймал предупреждающий взгляд Артёма и остановился. Понял, что, если потребуется, уличский князь защитит господина не хуже шемаханца.
Великий князь встал над Варяжкой…
Прошла минута, другая… Бояре на скамьях завозились, зашептались…
Но Владимир, не оборачиваясь, поднял десницу — и все затихли.
Великий князь наклонился, взял меч варяжского княжича, провел рукой по клинку… Потом опустил ладонь на плечо Варяжки:
— Встань, — произнес негромко.
Бывший воевода Ярополка поднялся. Они с князем были почти одного роста и сложения. Оба — с длинными варяжскими усами и начисто бритыми подбородками.
— Возьми, родич, — так же негромко произнес Владимир, протягивая меч Варяжке. — И поклянись служить мне так же верно, как брату моему служил.
— Клянусь! — твердо произнес Варяжко. — Силой Перуна Молниерукого, удачей моей и честью рода моего! Я — твой, батько!
— Ну вот, — удовлетворенно прошептал Духарев, наклонясь к Добрыне. — Теперь цапон — наши.
— Важное дело, — согласился дядька великого князя. — Стало быть, пора тебе, воевода, к ромеям собираться. Не забыл?
— На память не жалуюсь, — проворчал Духарев. — А ты?
Добрыня лишь усмехнулся в бороду и протянул Сергею собственный кубок с мёдом.
— Испей, — предложил. — Мёд — он для ума полезен. Сразу в голове яснеет, и думы тяжкие отступают.
— А мне, воевода, думать не тяжко, — усмехнулся Духарев. — Так что я лучше вина хлебну. Не хочешь?
— Мне эта ромейская кислятина в горло не пойдет, — буркнул Добрыня.
— Не понимаешь ты, — вздохнул Духарев. — Это — чистый сок солнца! Опять же и пряностей я в него добавил, и меда маленько — для сладости. Зимой — лучше не бывает!
И протянул Добрыне собственный, стеклянный кубок.
Добрыня не удержался, пригубил — из любопытства.
— А недурно, — похвалил он. И, хитро прищурясь: — Небось из того винограда, что на твоей земле в Византии растет?
— Нет, — качнул головой Духарев. — Это — с земли булгарской.
Правда, тоже — с собственных виноградников Духарева, но об этом Сергей скромно умолчал.
А старший сын — молодчина. Исполнил всё безукоризненно. Безошибочно. Есть у него такой талант. И в больших делах, и в малых. Вот, к примеру, подобрал Артём мальчонку, пацанчика из простых смердов. Ничего особенного. Духарев, может, и сам бы подобрал сироту. И пристроил куда-нибудь к челядникам — коней пасти или во дворе прибираться. А сын мальчонку в род ввел. И не ошибся. Великим воином растет Илья-Годун. Когда рассказали Сергею Ивановичу, как его приемный сынишка сходу показал себя у князя Стемида, Духарев удивился. Не ожидал. А вот старый Рёрех, слушавший рассказ варяга-посланца, и усом не шевельнул. Но единственный глаз — так и сверкал.
Сергей понимал, почему. Артём угадал в мальце доброе железо для будущего клинка, но ковал клинок Рёрех. Возился с приемышем едва ли не больше, чем с родными сыновьями Духарева. Почему? Видать, была на то причина. А какая, спрашивать ведуна бессмысленно.
Но результат налицо. Меч получился добрый. И еще один стальной стежок скрепил важнейшую связь меж родом воеводы-боярина Серегея и природными белозёрскими варягами. И новый стежок — сегодня. Вольг-Варяжко.
Почти полвека прошло с тех пор, как Сергей пришел в этот мир. Безродный чужак, никто… А теперь самые славные мужи этой земли — его родичи. Воистину не зря прожиты полвека. И пусть Духарев умирать пока не планировал, но мысль о том, что все его сыновья, даже малолетка Илья, могут не только за себя постоять, но и завоевать уважение лучших воинов этого мира, — грела сердце.
Глава восемнадцатая
Шестью месяцами ранее.
Подворье белозерского князя Стемида Большого
— Годун, я здесь решаю, кто годен в отроки, а кто — нет! — Стемид Большой взирал на мальчишку сверху вниз довольно-таки свирепо.
Подворье белозерского князя Стемида Большого
— Годун, я здесь решаю, кто годен в отроки, а кто — нет! — Стемид Большой взирал на мальчишку сверху вниз довольно-таки свирепо. — Ворочать весло тебе не по плечу. Значит, будешь детским!
— Илья! — звонко выкрикнул сын боярина-воеводы Серегея. — Так меня зовут родичи! Запомни, дядька Стемид, если хочешь, чтоб я тебе служил!
Трувор, успевший познакомиться с норовом Ильи-Годуна, вдобавок нахватавшегося дерзости у рода Машеговичей, расхохотался. А вот его старший брат, Стемид Белозерский, был попросту обескуражен. Не привык князь, чтобы этакий дрыщ позволял себе нахальничать. Властная Стемидова душа требовала: врезать сопляку и отправить на конюшню — стойла чистить. Но Стемид — варяг. Князь. Значит, человек чести и Правды. А по Правде наказывать мальца — не за что. Каждый может проситься в отроки. И настаивать — тоже. Тем более — родич. А Годун — родичь и есть, ведь старый Рёрех сейчас в роду у Серегея, а сей мелкий и дерзкий малец боярину-воеводе — сын. И бересты с пареньком пришло две. Одна — от отца его, Серегея, а вторая — от Рёреха. В первой малец именовался Ильей, во второй — Годуном. В первой была просьба: обойтись с малым как с собственным сыном. Во второй — повеление научить парнишку варяжской Правде.
Стемид почитал воеводу-боярина, но Рёрех — старший в роду. И от того, что он отдал княжение Стемидову отцу, его старшинство никуда не делось. Следовательно, учить мальца надо так, как хочет Рёрех. И звать так, как зовет Рёрех, а тот звал Годуном или Гошкой.
Илья не спорил. Рёрех — пестун. Ему можно. А если нельзя, то прилетит палкой по спине — и сразу станет можно.
Князь Стемид не знал Илью. Потому проверял. Илья тоже не знал князя. И тоже проверял. Если Стемид Большой слеплен из того же природно-варяжского теста, что и Рёрех, то…
Оплеуха прилетела вмиг…
Только мимо, потому что Илья «нырнул» и мозолистая длань прошла над макушкой.
Трувор еще больше развеселился.
А Стемид сердиться не стал. Будь здесь, в тереме, еще кто-то, возможно, он и осерчал бы… А может, и нет. Понравилось белозерскому князю, что, уворачиваясь, мальчишка не назад, а вперед шагнул. Да и увернуться от Стемидовой длани непросто.
— Илья, значит? — рыкнул он. — Добро. Пусть будет Илья. Илья-детский. Вот когда наберешь силу да вес, чтоб большое весло в одиночку крутить…
— Отрок! — перебил дерзкий мальчишка. — Кабы в дружинные из-за одной лишь силы брали, так слепая кобыла, что жернов крутит, враз в старшие гриди опоясалась!
Ловко отбил.
— Ты с ним лучше не спорь! — опередив брата, заявил Трувор. — У него на одно твое слово своих десять! Без малого год с дружиной Йонаха-хузарина полевал. А у Машеговича быстрей языка только стрелы летают.
— Будь ты сыном моим, — проворчал Стемид, — я б тебя плеткой хорошенько поучил.
Но нельзя — как сына. Слово Рёреха выше слова боярина-воеводы. А Правда кривды не терпит.
— Надо — учи, — покладисто ответил Илья. — Боли не боюсь. Хоть до смерти бей… хотя нет, до смерти не надо. Родня опечалится. А так — давай, испытай, коли желаешь. Увидишь, что годен я в отроки!
— А ведь не врет! — глянув мальчишке в глаза, определил Стемид.
— Не врет, — подтвердил Трувор, подмигнув Илье. — Стал бы он род ложью позорить!
— А всё же сила отроку нужна, — не желал уступать белозерский князь. — И не только грести. Вот хотя бы лук натянуть как следует, чтобы бронь пробить…
— А зачем мне ее пробивать? — опять не удержался, перебил Илья.
— Я лучше стрелой в глаз ударю. Зачем хорошую вещь портить? У белки глаз мельче, а я ни разу не промахнулся, верно, дядька Трувор?
— Враг — не белка. Он твоей стрелы ждать не станет. Да и с лодьи стрелять — не с земли! Ее, знаешь ли, раскачать может.
— Знаю, может, но всяко не сильнее, чем коня в галопе!
— Почти год — с Йонахом Машеговичем, — напомнил брату Трувор. — Хузарская выучка.
Он явно получал от разговора удовольствие.
— Учил меня дедко Рёрех! — немедленно уточнил Илья. — Йонаш только доучил, чему смог. До природного хузарина мне — как вороне до сокола.
Сказал и опечалился. Но тут же вспомнил, что воину показывать слабость не положено, и вновь задрал нос кверху. Ох и нахальный же вид! Так и хочется… Но нельзя. Только по Правде.
— Ты меня испытай, дядько Стемид! — попросил малой. — Выстави против меня любого из отроков своих! А коли за мной будет победа, все увидят, что не по родству, а по праву меня опоясаешь!
Во как хорошо сказал. Вовремя вспомнилось, что дед Рёрех про князя и дружину говорил. Мало, мол, если тебя один лишь князь примет. Надо и чтоб братья твои тебя достойным сочли. Это у чужих кровное родство тебя наверх поднимает, а у варягов главное — Правда. Покажи, что достоин, и хоть в князья. «Природный варяг, — вещал Илье Рёрех, — над прочими братьями не потому стоит, что — природный, а потому что — лучший. А ты, репка-сурепка, не природый, а принятый. Тебе, чтоб славу свою доказать, надобно мочь любого природного на колено поставить!»
Трувор опять подмигнул. На этот раз — брату: видишь, мол, что не только нахален малец, но и разумен не по годам. Такой, если в бою не падет, то непременно в воеводы выйдет.
Стемид покачал головой. Не потому, что был с братом не согласен, а потому что именно он, Стемид Белозерский, сейчас оказывался тем, кому надлежит позаботиться о том, чтобы нахаленок дожил до своего воеводства.
«Как сына…» — просил воевода Серегей. Сына бы — не допустил. Детский — он и есть детский. Если оказался в бою, за ним старшие присмотрят. А отрок — не из тех, кого берегут. Он сам спины гридней в бою оберегает, если до сечи дошло.
Так что по уму — следует оставить мальца в детских. Целее будет. Но если по Правде — должен Стемид его проверить. Должен.
— Хорошо, — решил князь белозерский. — Будешь биться. Справишься — возьму в отроки. И медвежатиной кормить буду, чтоб силу быстрее набирал. Если справишься.
«Только не справишься ты, — подумал Стемид. — Уж я об этом позабочусь. Для твоего же блага, маленький Серегеич!»
— Ты шутишь, отец? — поинтересовался младший сын Стемида Большого. — Я должен сражаться с этим цыпленком? Да не буду я!
— Перун Молниерукий! Еще как будешь! — рявкнул белозерский князь, которому сегодня с избытком хватило пререканий с малолетним нахалом. — И будешь обращаться с ним нежней, чем с новорожденным жеребенком. Если ты, Руад, попортишь ему шкурку или, храни нас пращуры, что-нибудь сломаешь, в весенний поход мы уйдем без тебя!
— Ты не сделаешь этого, отец… — неуверенно проговорил Руад.
— Ты сомневаешься в моем слове? — прорычал Стемид Большой, поднимаясь со своего «княжеского» стула.
Руад испугался. Давно он не видел отца в такой ярости. Последний раз — когда тот узнал о том, что свейских зверобоев видели на княжеских тюленьих лежках.
«Неужели это из-за мелкого братца Богуслава? — подумал княжич. — Да не может быть!»
Но перечить отцу не рискнул.
— Да не может быть!»
Но перечить отцу не рискнул. Велено уложить мальчишку — уложим. Бережно? Уложим бережно. Руад видел приехавшего сегодня утром боярича мельком и успел отметить лишь то, что малец зачем-то вырядился в боевую бронь. Будто на битву приехал, а не к родичам в гости. Бронь, впрочем, была замечательная. Куда лучше той, что висела на распялках в светлице Руада. А чему удивлятся? Отец мальца — богатейший киевский боярин и был воеводой самого Святослава. Вот уж когда добычи привозили столько, что гридь золотыми ложками кулеш уминала.
Руад не завидовал. Мир велик. Настоящим воинам добра хватит.
— Ну, малец, какое оружие ты выбираешь? — добродушно поинтересовался Руад.
Собравшаяся на подворье Детинца малая дружина Стемида: сто шесть воев, гридней и отроков, в большинстве — природных варягов, пахарей моря и сеятелей смерти, — обменивалась насмешливыми замечаниями. Громко советовали Руаду ходить поаккуратней. Чтоб случайно не раздавить супротивника. Всерьез будущий поединок никто не принимал. Руад статью пошел в отца: рослый, широкогрудый. Малолетний гость росточком — Руаду чуть повыше зерцала. Захотел князь повеселить дружину — значит, повеселимся.
— Я бы выбрал лук, — серьезно проговорил малец, который (вот смеху-то!) всё воспринимал всерьёз. — Но это было бы нечестно. Из вас, северян, стрелки — не очень-то.
Двор так и грохнул. Руад тоже осклабился. Дядька Трувор не рассказывал ему насчет битых в глаз белок.
Малец спокойно переждал, пока хохот утихнет, и продолжил степенно:
— …Потому я выбираю меч и дротик. Дротик пусть будет учебный, без железка. Не хочу батюшку моего в расход вводить, виру выплачивать. Да и негоже это: мы ж с тобой, Руад, родичи. А кто родича кровь пролил, тому удачи не будет.
Последние слова его услышал только Руад. Хохот дружинников напугал даже привычных ко всему ворон Детинца.
— Как скажешь, — спокойно отозвался княжич. Он уважал мужество. Кем бы малец себя не мнил, но выйти с оружием против воина-варяга, который вдобавок ходил в отроках только потому, что князь ждал от сына какого-то особенного подвига… Нужна немалая храбрость, чтобы на такое решиться. Так что пусть храбрится малый. Это правильно. Лучше хвастать, чем выказывать страх…
Илья говорил и изучал своего соперника. Крупный. И сильный. Почтил белозерский князь сына Серегеева — собственного сына вывел в поединщики. Хороший противник. Спокойный, сильный, опасный.
«С сильным будь слабым, со слабым — сильным» — так учили Илью.
Но тут прикидываться бесполезно. Руад Стемидович и так знает, что сильнее. Да так оно и есть. И в этом слабость княжича. Не будет он биться всерьез. Пожалеет. Потому надо одолеть его раньше, чем поймет, что недооценил Илью, и они станут биться на равных.
Ага, учебный меч и полуростовой щит. Илья так и думал. Смять, оглушить, задавить… «Ну берегись, белозерский княжич! Сейчас я тебя удивлю!»
— До первой крови! — рявкнул Стемид Большой, и гогот на подворье мгновенно стих. — Бой!
Дротик прилетел точно в переносицу Руада. Звяк! Княжич чуть наклонил голову, приняв удар налобьем шлема. Будь перед ним настоящий воин — не рискнул бы, но бросок был — так себе. Петушиный клевок.
Теперь шаг вперед, ленивый мах щитом, и из-под щита, быстрый, длинный понизу — плоскостью клинка, по ногам (небойсь не ожидает прохода снизу) — и всё. Ногу мальцу не сломает, но приголубит как следует. Хромать ему потом дня три. Ничего. Перетерпит. Есть! Подбитый учебным мечом малый отлетел в сторону, но тут же вскочил. Левая рука повисла плетью. Удар пришелся по ней, а не по ногам. Крепкий удар — рука враз отсохла…
Илья тоже недооценил противника.
Крепкий удар — рука враз отсохла…
Илья тоже недооценил противника. Быстроту его недооценил. Началось всё ожидаемо: щит вперед, чтобы перекрыть обзор… Но Илья только этого и ждал: метнулся лаской понизу, сбоку, под край щита — резнуть мечом по ноге. Легонько, чтоб кровь пустить. И — победа. Не успел. Продольный мах длинного меча сшиб Илью во время выпада. Больно-о!!!
Илья перекатом, через здоровое плечо, вышел в боевую стойку.
А хуже того — рука сразу онемела. Вот же бугай здоровенный! Но какой быстрый! Бил бы не плоско, а краем — точно бы кость сломал. А был бы меч боевой — прощай рука!
Быстрый взгляд на мощную ножищу… Эх! Самую малость не достал! Порвал самый край штанины, дырка на полвершка, не более, самым кончиком… Обидно! Не бывать теперь Илье отроком князя Стемида. Больше его Руад к себе не подпустит. Но побегать княжичу придется. Так просто ему Илью не достать…
Руад перехватил взгляд мальца, скосил глаза вниз (боковым зрением продолжая держать шустрого боярича) и увидел махонькую, еле палец просунуть, прореху на льняной штанине. Сразу сообразил, откуда она взялась, — и восхитился. Достать Руада на первом же выпаде не мог никто из Стемидовых отроков. И далеко не каждый — из гриди. Будь рука мальца на пядь длиннее — проколол бы мясо до кости.
Никто бы и слова не сказал. Младший со старшим вправе биться боевым оружием в полную силу… Или — нет?
— Ты колол или резал? — громко спросил Руад.
Вопрос его поняли пятеро: Стемид, Трувор, двое из старшей гриди и сам Илья.
— Резал, — буркнул приемный сын Серегея.
«Добивай давай, а не разговоры разговаривай!»
«Ай да малец! — восхитился Руад. — Пожалел меня!»
Младший старшего не щадит. Берегут друг друга в учебном бою только равные.
Руад уронил щит и, глядя маленькому бояричу прямо в глаза, рванул зубами кожу на шуйце. Затем показал гриди выступившую кровь.
На этот раз его поняли только двое: Трувор и отец.
Стемид кивнул одобрительно и провозгласил:
— Победил Илья, сын Серегея!
Он видел выпад малыша и оценил его по достоинству. Подрастет — великим воином станет. А пока в бою о нем Руад позаботится. Кровью поклялся сын.
Руад подмигнул изумленному Илье.
— Не грусти, братец, — сказал он маленькому герою. — Мы с тобой еще поиграем железом. Но не сегодня. Сегодня мы будем праздновать!
«А старый Рёрех, верно, ведун. Ничего, кроме Правды, не нужно юному Серегеичу, — подумал Стемид. — Нет в мальце изъяна».
Но задача Рёрехова от того легче не станет. Потому что у каждого бога — своя правда, а малый не Перуну кланяется, а Христу. И даже если примет отрок сердцем основу варяжскую, это еще не значит, что Перун Молниерукий примет его. Оба они ревнивы, Перун и Христос. А душа у воина одна. На две части не рвется.
Часть вторая. Рим и Русь
Глава первая. Из Киева в Царьград
[29]
В начале марта в Киев прибыли посланцы Василия Второго. Аж два епископа-законоучителя — вести дипломатические переговоры и попутно шпионить.
И, очень кстати, по гладкому санному пути — еще один епископ. Немецкий.
С аналогичной миссией.
А чуть раньше, будто по заказу, — посол из Великого Булгара. Для организации постоянной миссии.
Владимир со всеми иностранными дипломатами держался ровно и дружелюбно. Разместил. Назначил кормление.
Ромеи обеспокоились. Они чувствовали себя старателями, прибывшими столбить разведанную золотоносную жилу и обнаружившими на окученном участке прорву соперников, осваивающих желанную территорию. Семена, посеянные Духаревым ранее, упали на благодатную почву и дали обильные всходы.
Свою беду посланцы Автократора понесли прямиком к Духареву. Естественное движение. По «штатному расписанию» канцелярии логофета дрома[30] Сергей — «штатный агент влияния» при дворе варварского вождя.
Сергею даже не потребовалось особо сгущать краски, чтобы превратить беспокойство в панику.
Роль крепнущей Руси в мировой политике была очевидна не только ему, но и всем, кто обладал нужной информацией и был готов чуток пошевелить мозгами. Если походы Святослава можно было представить как дерзкие разбойничьи экспедиции невероятных масштабов, то нынешние четко обозначенные границы владений киевского князя — это было уже нечто стабильное и потому очень важное. Свойство человеческого ума таково, что он уверенно собирает из фактов-кубиков именно тот игрушечный домик, который ему привычен. Так что совсем нетрудно было представить достаточно свободный, разномастный и слабо управляемый конгломерат Владимировых данников как единое централизованное государство. Сергей маленько постращал ромеев — и те с готовностью устрашились. Они-то знали, что Владимир был не одинок в своей государственной деятельности. Такой же централизацией и «собиранием земель» и «укреплением властной вертикали» занимались и другие великие князья: Болеслав Польский, Геза Венгерский… И большую часть таких вот «собирателей» Великая Римская империя восточного образца уже «проиграла» конкурентам. Но ни Польша, ни Венгрия не могли по значению соперничать с Владимировой Русью, занимавшей на геополитической карте средневекового глобуса исключительно выгодное и перспективное положение.
В чем в чем, а уж в глупости и недальновидности византийских политиков упрекнуть было нельзя. Всё они понимали… И, опять-таки, по свойственному людям образу мысли, видели в первую очередь именно те страшилки, которых больше всего боялись.
Сергею осталось лишь подлить в огонь немножко маслица. Например, намекнуть, что иудеи-хузары — тоже в игре. Полный вздор для тех, кто знал ситуацию изнутри, но не для византийских дипломатов, которые очень хорошо помнили о проблемах, которые сравнительно недавно создавала им Хузария. А почему бы и не быть четверому игроку? Ведь в Киеве имеется целый квартал, принадлежащий иудеям…
В общем, Большая Игра была в самом разгаре, когда Добрыня в очередной раз напомнил, что рассчитывает на личное участие Духарева в событиях будущего лета.
Что ж, коли так — надо собираться. Тем более что посланцы-епископы дозрели до того, что мысль отдать за Владимира константинопольскую принцессу уже не казалась абсурдной. Чего не сделаешь ради спасения державы и любимого Автократора? Цель, как несколько позже сформулируют братья-иезуиты, оправдывает средства.
Небольшая проблема пришла откуда не ждали.
Владимир поссорился с водимой женой. С Рогнедой. Да так крепко, что выгнал ее из Детинца в пригородное сельцо Предславино.
Зашедший в гости к Духареву Устах рассказал, что причиной ссоры стала как раз планируемая женитьба Владимира на сестре ромейского василевса. Дочь Роговолта Полоцкого враз сообразила, что с появлением в Киеве Анны водимой ей уже не быть. Даже если Владимир не последует христианскому обычаю и не прогонит других жен (такого от любвеобильного князя никто не ждал), то станет Рогнеда при Анне — как дочь ярла при дочери большого конунга. Меньшая и младшая. И сыновья ее тоже умалятся. Так что билась за свое право первенства Рогнеда люто. Даже в сердцах пообещала убить ненавистную ромейскую кесаревну.
Раньше Рогнеде многое сходило с рук: Владимиру нравилась ее неженская свирепость и яростный норов. Но такая угроза — это уже чересчур.
И отправилась сердитая княгиня в Предславино.
Впрочем, Владимир уже через пять дней навестил Рогнеду на новом месте и одарил мужским вниманием. Однако в Детинец не вернул.
Примерно через недельку, не спеша, но и не откладывая, дабы успеть до таяния снегов, воевода-боярин Серегей, он же — спафарий византийский Сергий, оснащенный всеми необходимыми грамотами от послов-епископов, на пару с отозванным в столицу мандатором Мелентием и его охраной отправился в Константинополь.
Примерно через недельку, не спеша, но и не откладывая, дабы успеть до таяния снегов, воевода-боярин Серегей, он же — спафарий византийский Сергий, оснащенный всеми необходимыми грамотами от послов-епископов, на пару с отозванным в столицу мандатором Мелентием и его охраной отправился в Константинополь. Миссия Мелентия была завершена. Теперь при киевском князе имелось посольство много выше рангом.
Бывший имперский посол и его охрана совершенно потерялись в огромном санном поезде, двинувшемся в путь под управлением Духарева.
Воспользовавшись ситуацией, Сергей принял под свое начало изрядное количество полезного груза, который намеревался доставить прямо в империю в начале судоходного сезона и реализовать по самым высоким ценам.
Чтобы всяким нехорошим парням не пришло в голову подняться за счет боярина-воеводы, Духарева сопровождали пять сотен отборных дружинников: две трети всей своей гриди. А в Крыму Сергей рассчитывал еще более усилить свою армию — за счет хузар Машега.
Само собой, чтобы доставить все это богатство и мощь к Золотому Рогу, требовалось немалое количество кораблей, но с этим проблем не возникло. Сергею не надо было даже прибегать к собственным ресурсам: флотилия, выделенная Византией для будущей транспортировки русов в империю, уже была на пути к Херсону. А зачем ей простаивать зря, если есть возможность пополнить казну некоторым количеством номисм?
Никаких сложностей, если не считать небольшого шторма, по пути не возникло, и уже в начале апреля Духарев прибыл в города василевсов Константинополь.
* * *Всю дружину Сергея свободным порядком в город не пустили бы. Да и ни к чему. Тридцать бойцов личной охраны — достаточная и вполне оправданная свита для знатного ромея.
Духарев мог бы отправить дружинников в собственное поместье, но решил держать их поблизости. А заодно сэкономить на фураже и провианте.
Так что шесть с хвостиком сотен бойцов были записаны русами. Русам же, согласно действующему еще с Олеговых времен договору, входить в город разрешалось только группами, без оружия и в сопровождении специально выделенного сопровождающего. Так что размещали гостей из Киева вне стен, на европейском берегу Босфора, близ монастыря Святого Маманта.
Хорошее место, просторное. Рядом — загородная резиденция императора, ипподром (как же без него) и просторные зимние казармы императорских военных подразделений-тагм, ныне пустующие. Согласно всё тому же договору в весенне-летне-осенний сезон окрестности монастыря превращались в «русский квартал», где купцов-русов тщательно переписывали, назначали казенное содержание (но только при наличии товаров на продажу и на ограниченный срок) и при выходе в город обязаны были давать сопровождающих — толмачей-гидов-соглядатаев.
Продавать свои товары по ценам, установленным для иноземцев, Духарев не собирался. Тем не менее бесплатное размещение и казенное обеспечение получил в полном объеме. По нормам, установленным для наемников-этериотов. Как, впрочем, и договаривались еще в Киеве.
Разместив дружину, воевода-боярин Серегей превратился в спафария Сергия, заплатил положенный для знатного гражданина Византии взнос, скинул прочие дела на помощников, тепло распрощался с Мелентием, обещавшим похлопотать об аудиенции на самом высоком уровне, уселся на застоявшегося в путешествии «араба» и в сопровождении управляющего делами торгового дома «Духарев и семья» фессалийца Дорофея отправился домой. То есть в свой собственный особняк «с видом на набережную», купленный еще покойным братом Мышатой, коего здесь именовали Михаилом.
Грек-фессалиец Дорофей тоже достался Сергею в наследство от Мышаты. Угодливая скользкая сволочь. Но сволочь весьма полезная. Так полагал Духарев. Хотя проверить, как сволочь ведет дела, не помешает…
Но не сегодня. Устал. Да и вечереет уже.
Сергею очень хотелось поспать хотя бы ночь на нормальной кровати, а не в гамаке над палубой.
— Всё — завтра, — заявил он управляющему. — Ужин мне и моим людям. Постель. Вот его, — указал на старшего своей охраны, — зовут Равдаг. Он над ними — главный. Скажет, что нужно, если сам не сообразишь. Но сначала — баня!
Константинопольская баня — это не русская банька. Тут формат другой. Но тоже приятно. И парок горячий, и водичка разная: холодная, теплая, почти кипяток… На все вкусы. Кресла мраморные, обогреваемые, горячий пол, массажисты и массажистки… по потребностям.
Духарев, воспользовавшись привилегией начальника, попарился первым, а уж потом — дружинники. Партиями. Всё-таки это было не общественное заведение, а домашнее.
Потом был ужин. Восхитительный. Особенно после однообразной морской кормежки.
И наконец — койка…
— Ты кто? — спросил Духарев, разглядывая молоденькую девчонку, вскочившую с постели при его появлении.
— Харита…
Хорошенькая. Личико свежее, кудри смоляные, фигурка — отличная… Насколько можно разглядеть под этим балахоном… Из хорошей, кстати, ткани…
Молодец, фессалиец. Знает, что надо мужчине после долгого путешествия…
Но что-то с этой девочкой не так. Как-то уж очень она смущена. И стесняется. Вон даже пальчики на ногах поджимает, а ведь пол — теплый. Обогреваемый.
Духарев подавил естественное желание — взять и воспользоваться.
Будь Сергей дома, ни секунды не колебался бы. Сколько раз ему подкладывали юных девочек… Давно со счета сбился. Ребенок от воеводы — большая для рода удача. И девочке от господина непременно — дорогой подарок. Браслетик, цепочку… Да они сами лезли к нему в постель, даже без всякого нажима со стороны родичей. Девственность в родовом обществе не котировалась. Ценилась способность рожать крепких детей — на благо и усиление рода. Причем собственно ценность жизни младенца в таких обществах была ничтожной. Это позже, с принятием христианства, за детьми с рождения признавалось право на божественную душу. У язычников дитя считалось своим только после принятия в род. Даже жены нурманских ярлов, подавая новорожденных отцу, не были до конца уверены в том, что муж не мотнет головой, отказывая ребенку в отцовстве. Глава рода сам решал, кому жить, кому — умереть.
Хотя в словенских родах детям крайне редко отказывали в праве на жизнь. Разве что в очень голодные зимы или при наличии видимого уродства.
Но если в ребенке течет кровь сильного, удачливого воина, боярина, князя — это другое дело. Такая кровь всему роду удачи прибавит.
Впрочем, на родине знали о том, что воевода Серегей не жалует девственниц, и потому непорочные девочки оказывались в его постели не так часто, как хотелось их родным да и им самим. Еще одно суеверие: первый мужчина не только являлся в случае удачи отцом первого ребенка, но и мистически участвовал в рождении будущих детей.[31]
Но здесь — не родная земля. Здесь — Византия. Так что следует трижды подумать, прежде чем принять подарок, внушающий подозрения. Капелька яда, уроненная в рот спящему — и нет спафария Сергия. Умер, бедняга! Надорвался в постельных играх. Возраст, сами понимаете…
— Ты — девственница?
Кивнула. И сглотнула судорожно, аж тоненькая шейка дернулась.
— Разденься!
Молча скинула длинную рубаху, шагнула вперед, наступив на смятую ткань…
Чистенькая девочка. Белая, как молоко, кожа. Крохотные сморщенные соски выглядывают меж волнистых прядей, спускающихся до самого лона…
Ну, что не так, спафарий Сергий? Что тебя смущает?
Маленькие ступни с очень аккуратными ноготками — на ткани рубахи. Вот что! Эта девочка — не рабыня. И даже не служанка. Удобство собственных ножек она ценит дороже, чем сохранность тонкого дорогого полотна.
И даже не служанка. Удобство собственных ножек она ценит дороже, чем сохранность тонкого дорогого полотна. Служанка наверняка обошлась бы с рубашкой более аккуратно.
— Покажи мне руку, девушка!
Да, так и есть. Эта мягкая лапка, возможно, неплохо управляется с иголкой, но никогда не знала тяжелой работы.
— Как зовут твоего отца, Харита?
И чуть слышный ответ:
— Дорофей…
— Уходи, Харита. И передай отцу, что господин сегодня будет спать один.
Девушка вскинула голову, и Духарев первый раз увидел ее глаза, огромные, черные, испуганные…
— Не гоните меня, господин! Делайте со мной что пожелаете, но не гоните!
«Ах ты лысая обезьяна!» — подумал Духарев, а вслух сказал:
— Не бойся, отец не сделает тебе ничего дурного.
— Я знаю, мой господин, — девушка вновь потупилась. Ой как неловко ей, невинной девочке, выросшей в холе и неге, стоять голой и беззащитной перед огромным и (что самому себе-то врать!) старым варваром!
— Сколько дочерей у твоего отца?
— Три, господин. Но остальные — совсем маленькие… От другой жены.
— Сядь, — велел Духарев. Опустился рядом, положил жесткую ладонь на гладкое бедро. Девушка не дрогнула, только губку чуть-чуть прикусила.
— Отец не любит тебя, Харита?
— Любит, господин. И я его люблю.
Голосок звучит искренне. Но это — Византия. Никому нельзя верить.
Духарев убрал руку.
— Уходи, Харита. Скажи отцу: сегодня я слишком устал. Если захочешь — можешь прийти завтра.
— Спасибо, спасибо, мой господин!
Подхватила рубашку и спугнутой ланью вылетела из покоев. Радость-то какая! Пытка откладывается до завтра!
Где же ты так накосячил, дорогой мой управляющий, что решил откупиться собственной дочерью?
Ладно, завтра с утра мы с тобой потолкуем. Плотненько.
Глава вторая, в которой Духареву деликатно напоминают, что он — «меченосец» империи
С утра разговора не получилось. Сергея срочно вызвали во Дворец.
Аудиенции у Автократора Сергей не сподобился: не тот уровень. Зато его принял логофет дрома, то есть персона, которую можно было бы сравнить с министром иностранных дел, министром дел внутренних, а также начальником государственной безопасности — в одном лице. Важный евнух с явными признаками недосыпа на одутловатом лице. С ходу сообщил, что из императорской казны спафарию за верную службу причитается приз. Потом мягко поинтересовался: насколько серьезны планы Владимира заполучить кесаревну Анну?
Духарев ответил: весьма и весьма серьезны.
«А нельзя ли как-нибудь решить этот вопрос? — поинтересовался логофет. — О цене, ясное дело, договоримся».
Он, как и прочие ромейские чиновники, не сомневался, что Сергей — агент влияния на службе империи. Ну а кем еще можно считать императорского спафария, добровольно живущего среди варваров?
Духарев не стал «министра» разочаровывать — в смысле переоценки логофетом его лояльности императору. А вот по поводу переубедить насчет цены военной помощи — категорически возразил. Мол, это такая традиция у архонта русов — брать в жены дочерей правителей, с которыми он заключал союзы.
А может, архонт согласится на кого-нибудь попроще?
Не получится, вздохнул «агент влияния». Владимир уже положил глаз на Анну. Более того, это, по мнению спафария Сергия, есть единственный способ привести к Крещению как самого архонта, так и его народ. Причем — в правильном, то есть византийском формате, а не том, какой предлагают германцы или латиняне.
При упоминании Священной империи Германской нации логофет поморщился. Эта самая СИГН уже стоила Византии здоровенного куска Европейских земель.
Эта самая СИГН уже стоила Византии здоровенного куска Европейских земель. Какое-то время Византии еще удавалось сохранять Венецию, но вскоре и она обрела независимость. Осталась только часть южной Италии.
А как поживает некий Блуд, осведомился логофет. В свое время этот человек был очень полезен империи и даже обеспечил поставку военной силы по демпинговым, можно сказать, ценам.
Плохо поживает, сообщил спафарий. От княжьего уха отлучен и сослан на север. За неправильные советы.
Логофет вздохнул, вылез из официального кресла и предложил Духареву вина и фруктов.
Сергей отказываться не стал. После того как его когда-то отравили на пиру у булгарского кесаря, Духарев, с помощью жены и нанятого специалиста-отравителя из ромеев, изрядно навострился в органолептическом[32] определении нежелательных для жизни примесей. Абсолютной гарантии эти навыки не давали: в арсенале византийцев имелись отравы не только без запаха и вкуса, но даже такие, что практически не влияли на тонкий вкусо-ароматический букет дорогого вина. Однако главной гарантией безопасности было то, что евнух считал Духарева своим агентом. Причем — эффективным. Потому вероятность того, что логофет захочет отравить спафария Сергия, была ничтожная.
За десертом разговор пошел на более простом языке. Министр хотел обсудить со специалистом по русскому менталитету варианты кидняка. То есть и войско получить, и князя крестить, а вот кесаревну всё-таки не отдавать. Не потому, что жалко, а потому, что плохо скажется на императорском рейтинге. Нарушение заветов предков, как-никак.
Духарев ответил, что пока он не видит вариантов, но подумать — можно. Хотя если блестящий ум логофета снизойдет к голосу мало разбирающегося в большой имперской политике спафария, то по его, спафария, мнению, если с помощью Владимира Август раздавит мятежников, то какая тогда разница, кто и что подумает? А того, кто посмеет высказать свои думы вслух, можно просто оставить без языка. Очень, говорят, способствует для вразумления болтунов.
Министр посмеялся над удачной шуткой своего шпиона. И спросил: а нельзя ли по завершении миссии просто кокнуть вышеупомянутого архонта? Как, например, к такому отнесутся другие русы, и не найдется ли среди них лидера, способного подхватить бразды и направить экипаж в другом, более правильном для Византии направлении?
Духарев, не моргнув глазом, ответил, что да, убрать архонта русов — это вообще не проблема. Владимир — человек доверчивый и совсем не осторожный в византийском понимании этого слова. Пригласить его в столицу и скормить что-нибудь ядовитое — вообще не вопрос. И, само собой, преемник великому князю тоже найдется, но…
Тут Духарев сделал паузу, чтобы логофет отнесся к его словам как можно более серьезно.
…Но оставшиеся без командующего (которому каждый боец присягнул лично) русы станут совершенно неуправляемыми. И еще неизвестно: кто хуже для государства — дикие варвары в самом сердце империи или свои, византийские мятежники. Но это еще не самое плохое. После смерти Владимира придется навсегда забыть о возможности Крещения руси именно по византийской линии. Зато вариант Крещения от немцев или, хуже того, принятия ислама от злейших врагов империи станет как никогда актуален. А еще стоит вспомнить, что у русов полно сторонников среди мисян, с которыми император воевал недавно и, деликатно выражаясь, не сумел добиться полной победы. Хочет ли Автократор заполучить орды русов и мисян в Македонии и Фракиии? Он, смиренный спафарий Сергий, полагает, что нет.
Логофет, прекрасно знавший, что Василий из Болгарии едва ноги унес, понимающе покивал.
А если рассмотреть такой вариант, предложил он, что в процессе подавления мятежа русы понесут столь большие потери, что не смогут более представлять собой значительную военную силу?
Тогда — другое дело, одобрил «шпион» Сергий. Тем более что в этом бою может пасть и сам архонт…
«Вот-вот! — обрадовался византийский «министр».
— Самое то для правильного развития сюжета!»
Правда, чуток поразмыслив, сообщил, вернее, соврал спафарий, экспедиционный корпус князя Владимира — лишь небольшая часть всего войска русов. И если у тех найдется подходящий лидер, то разборок не избежать.
«А он точно найдется?» — решил уточнить логофет. Ведь всех своих лучших, то есть самых агрессивных полководцев Владимир, насколько логофету известно из донесений, намерен взять с собой? А дети самого архонта еще слишком малы, чтобы их опасаться.
А говорит ли логофету что-нибудь имя «Добрыня»?
Логофет кивнул. Он хорошо изучил вопрос. Но он также слыхал, что Добрыня — стар…
Да, он не очень молод, согласился Духарев. Но о старости тоже говорить рано. Он, Сергий, старше Добрыни на двадцать лет, но всё еще в хорошей форме. А Добрыня сейчас просто в наилучшем для воеводы возрасте. Однако он, спафарий, просто восхищен мудростью логофета, который вовремя решил поставить вопрос о потенциальном правопреемнике Владимира. Молодой архонт силен, но не искушен. Он думает десницей, а не головой. А вот его «десница», то есть Добрыня — опаснейший человек. И очень любит своего племянника. То есть этот племянник — самое дорогое, что у него есть, потому что по законам варваров брат матери ребенку ближе отца. Нет, он, сиятельный логофет дрома, просто великий мудрец, наверняка понимает, что убить архонта Владимира было бы огромной ошибкой!
По роже евнуха было трудно понять, купился ли он на льстивую игру Сергея. Коварнейшая и хитрейшая бестия. Иные в придворной византийской игре не выживают. Но с логикой у логофета все нормально. Пусть думает. А уж он, Духарев, сделает всё для того, чтобы войско Владимира не было перемолото в византийской мясорубке.
Глава третья. Кадровые проблемы торгового дома «Духарев и семья»
Покинув дворцовый комплекс, Сергей оказался на площади Августеон, которую по праву можно было считать геополитическим центром империи. Прямо напротив главного дворцового комплекса сияли полушария куполов Святой Софии, главного и прекраснейшего из византийских храмов, справа, за величественной аркой, начиналась улица Меса, с которой, как говорили жители столицы, начинались все остальные дороги империи. Тут же, вплотную к Большому императорскому Дворцу, — Ипподром, политическое сердце Константинополя.
Площадь была полна народа. Но особенно много здесь было чиновников, которых имперская бюрократия плодила с невероятной быстротой.
Свой чиновник был теперь и у Духарева. Его определил к спафарию логофет — для решения возникающих проблем, ну и для шпионажа, само собой. Звали чиновника Евсеем, но Духарев, по совокупности внешних качеств, с ходу окрестил его «маленьким жадным глистом».
Ожидавшие у входа гридни подвели Духареву коня, взяли в кольцо — не столько для охраны, сколько для демонстрации уважения.
Затем все отправились в сторону Золотого Рога, на набережной которого, недалеко от Главных торговых рядов, располагался собственный дом Духарева.
После обеда Сергей вознамерился устроить генеральную ревизию в своей константинопольской миссии. Уж очень большие подозрения вызывал у него пронырливый грек-фессалиец Дорофей.
Обед был восхитителен. Из Дворца в подарок спафарию прислали продовольственные подарки, в том числе пряности, вино и какую-то совершенно особенную рыбу, которую повар Духарева приготовил просто волшебно.
Впрочем, вкусная еда не сделала Духарева добрее. Скорее, наоборот. Повар обходился недешево и всё это время кормил не Духарева, а как раз управляющего и его многочисленное (вторая жена, три дочери, со старшей из которых Духарев познакомился вчера, брат жены с собственной женой, два племянника…) семейство, до вчерашнего дня занимавшее лучшие комнаты здания. Ой, накосячил ты, мой плешивый друг!
Духарев даже документы не стал изучать.
Ой, накосячил ты, мой плешивый друг!
Духарев даже документы не стал изучать. Велел управляющему сесть на маленький табурет, установленный напротив собственного кресла, и, потягивая вино, принялся внимательно разглядывать грека. Тот попытался открыть рот, но Духарев скомандовал: заткнись! И продолжал психологический прессинг. Ишь как глазки забегали! Растерянный управляющий вспотел и порозовел. Затем побледнел…
Духарев «изучал» его почти час, не проронив при этом ни слова. Не то чтобы непрерывно сверлил взглядом… Под конец вообще на жулика не глядел. Но что фессалийца колотит дрожь, видно было и боковым зрением. Дозрел Дорофей.
Духарев кликнул гридней, велел грека раздеть и сунуть в подвал, где прежний владелец дома, константинопольский вельможа, казненный Никифором Фокой за деструктивный образ мыслей, держал не только бочки с вином, но и угодивших к нему в лапы недругов.
Сергей понимал: в неправильном поведении управляющего есть и его вина. В отличие от Мышаты, который большую часть времени проводил в империи, Духарев появлялся здесь всего трижды, и последний раз — еще при правлении Ярополка.
Тем не менее судьба управляющего была решена. На его примере Духарев намеревался преподать урок всем прочим служащим.
Но торопиться не следует. Пусть вороватый фессалиец помаринуется в сыром подвале часиков двадцать. А там, глядишь, и выложит всё сам, без применения варяжского пыточного арсенала.
Вечер Духарев посвятил обновлению связей. Посетил торжественный ужин магистра Зенона, данный по случаю крестин дочери. Вкусно поел, раздал дорогие подарки (в основном, меха и янтарные украшения), потолковал с приближенными к царственной особе на предмет настроений во Дворце и в столице.
Разговор обнадежил. Во Дворце мятежников боялись всерьез, а в столице вот-вот должны были возникнуть проблемы с продовольствием, что, само собой, не прибавит популярности императору. Так что, если Василий пустит события на самотек, то Варде не придется штурмовать константинопольские стены. Измена избавит его от этой тяжелой работы, а империю — от кесаря Василия Второго. Более того, некоторые из гостей, принадлежавших к влиятельным в империи родам, попытались прозондировать настроение Сергея на предмет смены приоритетов. Иными словами, не хочет ли спафарий переметнуться на сторону мятежников? Не окажется ли такой вариант более выгодным и для киевского архонта, которого представляет Сергей, и для него самого?
Духарев сделал вид, что не понимает намеков. Причин на то было две. Во-первых, союз с правящей партией представлялся ему более выгодным для Киева, а во-вторых, любопытствующие вполне могли оказаться шпионами Дворца.
Но в целом день прошел с толком. А вечером Духарев велел привести управляющего. Как и предполагал Сергей, клиент дозрел…
Суд в империи продавался и покупался. Стоимость зависела от статуса заказчика и от качества «приобретаемой услуги». Очень поспособствовал «глист». Приданный Духареву чиновник быстренько порешал все процессуальные дела, и украденное лысым фессалийцем имущество вернулось к законному хозяину. Особенно удачной его частью оказался маленький дворец, чьи окна выходили на набережную Мраморного моря. Ворюга не использовал дворец сам, а сдавал в аренду одному из представителей богатого клана Куркуасов. Духарев не стал выгонять вельможных постояльцев, но договорился, что оставляет за собой право занять дворец на месяц-другой в течение нынешнего лета.
Арендаторы не возражали. На лето они и так собирались покинуть город. Если позволит политическая ситуация. То есть в том случае, если Василий разобьет мятежников. Или мятежники скинут Василия. Главное, чтобы по просторам империи не перемещались толпы вооруженных парней.
Лишившийся всего неправедно нажитого управляющий получил в подарок жизнь. И был вместе с родственниками отправлен на западную окраину столицы, где, в беднейших кварталах города, исправно функционировал один их духаревских эргастириев, то бишь усадеб-мастерских — большая красильня со складом и магазином, командовал которой давний знакомец Духарева новгородец Сычок, очень удачно пристроенный в мужья наследнице оной мастерской.
По-ромейски Сычок говорил неважно, зато в его преданности Сергей мог не сомневаться. А с делами ромейка управлялась вполне самостоятельно.
Хариту Духарев оставил при себе. То есть — при доме. Не для постели, а для всяких хозяйских дел. Более того, пообещал подыскать приличного жениха. Самоотверженность надо поощрять. А для мужских надобностей Духарев воспользовался массажистками. Крепенькие, энергичные, они полностью отвечали его требованиям к «походным женам».
В субботу Духарев опять общался с логофетом дрома. На сей раз он даже получил некоторую предварительную информацию о настроении «министра». От «глиста». Щедрые подарки, которыми Духарев поощрял чиновника «за верную службу», были, надо полагать, побольше, чем годовое жалованье мелкого бюрократа. Впрочем, Духарев нисколько не сомневался, что «глист» снабжает информацией и логофета. Но это было даже на руку, потому что Сергей сгружал «глисту» только то, что считал нужным.
Логофет сообщил, что дромоны уходят обратно в Херсон, вернее — к днепровскому устью — встречать экспедиционный корпус великого князя. Интересовался, не хочет ли спафарий Сергий отправиться туда же?
Спафарий не хотел. Сказал, что плохо переносит морские путешествия. Но едва войско архонта русов окажется на земле империи, он тотчас к нему присоединится и сделает всё, чтобы результат оказался наилучшим для Августа.
На том и порешили. Владимир отныне считался «проблемой» спафария Сергия. Тем более что и у логофета было немало других дел. Василий Второй активно готовился к боевым действиям. Еще бы! Ведь главный нынешний злодей Варда Фока во главе могучей армии уверенно приближался к столице. И не просто приближался, а решительно склонял к повиновению попадавшиеся на пути города и латифундии, заодно взимая с них причитающиеся Василию Второму налоги. Впрочем, в «новостную ленту» империи затесалась и условно хорошая новость. Союзники Фока и Склир — поссорились[33]. Вернее, Фока взял да и заточил своего бывшего противника, а ныне — доброго друга Склира в темницу, «утешив» партнера тем, что после победы непременно выпустит и осчастливит. А условно хорошей ее можно было считать потому, что войско временно изолированного Фоки без зазрения совести присоединил к собственному.
Тем временем духаревские приказчики из ромеев времени даром не теряли и пристроили, вернее, распределили между жаждущими оптовиками драгоценные северные товары. В основном — по бартеру. Прибыль ожидалась грандиозная. Особенно учитывая копеечную доставку. Ромейские товары за совершенно пустяковую мзду загрузили на идущую в Херсон порожняком, но под охраной огненосных боевых кораблей, транспортную флотилию. Так что пиратов тоже можно не опасаться, и принадлежащие фирме «Духарев и семья» товары без проблем прибудут сначала в Херсон, а потом, уже при участии херсонского «отделения» духаревского дома, на речных судах отправятся дальше, в Киев. Причем тоже с оказией и почти бесплатно, потому что судами этими станут корабли днепровской флотилии Владимира, которые после доставки войска к Черному морю поплывут обратно в Киев. И, если всё пройдет гладко, дефицитнейшие византийские товары окажутся в Киеве аккурат к началу судоходного сезона в средней полосе, когда цены на местные продукты минимальные, а на импортные — на самом пике. А уж в Киеве Слада и верные люди позаботятся, чтобы товар, опережая всех прочих торговцев, отправился еще дальше на север. Или на запад. Или (как конъюнктура рынка подскажет) будет обменян здесь же, в Киеве, на лучшие меха, моржовую кость и прочие «дары природы» богатой Руси, чтобы отправиться дальше, на юг, уже под флагом духаревского торгового дома. Система должна работать непрерывно и безостановочно, выбирая самые эффективные схемы и самые доходные предложения. Единственное исключение — челядь.
Система должна работать непрерывно и безостановочно, выбирая самые эффективные схемы и самые доходные предложения. Единственное исключение — челядь. Рабами Духарев не торговал. Терял на этом деньги, да (торговля людьми составляла примерно треть экспорта Руси и сопредельных земель), но — не торговал. Принципиально. Впрочем, деньги и так рекой лились. Две-три тысячи процентов прибыли — нормальный доход большинства операций. Уж очень большой разброс цен в этом неспокойном мире. Это понятно, ведь из трех кораблей с добром обратно, как правило, возвращается только один. И не за пару месяцев, а минимум за полгода. И ценники в каждом государстве для своих одни, для чужих — совсем другие. И таможенные сборы недетские… И упомянутые выше пиратики. И разбойнички-вымогатели. Но всё равно те, кто готовы рисковать деньгами и шкурой, в случае успеха богатеют стремительно. Если выживут.
* * *Воскресенье Сергей Иванович посвятил душе. Был в храме — не в Святой Софии, где мог бы занять подобающие чину место, но, проявив смирение, в небольшой церкви Святого Фомы, неподалеку от дома. Исповедался, отстоял службу, причастился, а затем присоединился к церковной литии[34], что по случаю праздника, начавшись от Святой Софии, двигалась по улицам Константинополя, от храма к храму, временами останавливаясь на важных площадях для свершения открытого богослужения. Во главе шествия находились патриарх и сам Богопочитаемый Автократор Василий Второй.
Духарев пристроился в хвост шествию и, забыв на время о своей миссии, долгах, обязательствах и личных заботах, очистя голову от забот и тревог и на некоторое время превратившись из воеводы и спафария в обычного человека, христианина, верующего, прошагал километра три по столичным улицам с такими же преданными Христу человеками, наслаждаясь дивным пением и внимая молитвам, слова коих он понимал не всегда, но сам звук и строй которых проникал в сердце и наполнял разум той чистотой, что можно сравнить лишь с чистотой телесной после хорошей баньки.
А в завершение доброго воскресенья Сергей устроил бесплатное угощение: во дворе — для малоимущих и сирот, а в доме — для церковного духовенства во главе с настоятелем, коему исповедовался утром.
Деяние сие, вполне обычное для знатного человека в столице, было политически необходимо Сергею Ивановичу. Обильный доносчиками Константинополь знал всё и обо всех. А уж к религиозной жизни таких, как спафарий Сергий, граждан не только «натурализованных», но и большую часть жизни проводивших среди язычников, в столице присматривались особо, и о малейшей «неправильности» поведения немедленно узнавали те, кому положено знать. И доносили тем, кто принимал решения. В том числе и карательные.
Но, даже не будь в этом политической необходимости, Духарев все равно отдал бы воскресенье Господу. Душа требовала.
После трапезы состоялся правильный и душевный разговор, завершившийся тем, что задуманное Сергеем Ивановичем великое дело получило доброе напутствие и святое благословение. И еще настоятель маленькой церкви Святого Фомы, человек светлый и чистый, далекий от дворцовых интриг, пообещал поискать подвижников для проповеди Слова Божьего среди язычников.
Если выйдет у него — будет славно. Очень, очень нужны будут в Киеве люди, которые разумеют по-словенски и понесут людям Свет Христа, а не угодную Византии политику.
Покончив с делами, Духарев уехал в «деревню». В собственное ранчо с белым домом на холме, несколькими сотнями арендаторов и даже маленькой личной церковью. Лес для охоты, озеро — для романтических прогулок. Вдобавок обширному поместью Духарева было пожаловано право экскуссии, то бишь налоги на этой земле собирал сам Духарев, а не мытари государства.
Поохотились славно. Особенно когда банда оголодавших за зиму и отбившихся то ли от императорского, то ли от мятежного войска голодранцев вторглась на духаревскую территорию и напоролась в лесу на десяток еще более оголодавших (но уже по хорошей драке) духаревских дружинников.
Особенно когда банда оголодавших за зиму и отбившихся то ли от императорского, то ли от мятежного войска голодранцев вторглась на духаревскую территорию и напоролась в лесу на десяток еще более оголодавших (но уже по хорошей драке) духаревских дружинников. Банда в полусотню ржавых копий, с боевыми пращами, расхрабрившаяся от сознания своего численного перевеса, не придумала ничего лучшего, как полезть драку. Впрочем, дай они деру, результат был бы тот же.
Останки «храбрецов» по приказанию Сергея развесили вдоль дороги на виллу, а Духареву пришлось напомнить враз запрезиравшим ромейскую армию бойцам, что есть профессиональная армия, состоящая из тяжелой конницы в панцирях, шлемах и поножах, с длинными копьями и защитой даже на лошадях, и есть пехота, главная задача которой в случае поражения стать «мясом» между отступающими катафрактами и погоней.
Слушали внимательно, но почтением не проникались. Молодежь. Ни один из них не видел вживую всадников Цимисхия, разбивших войско Святослава.
Духарева это беспокоило. Русская латная конница — серьезная сила. Но конница того же Варды Фоки — ничуть не хуже. А пожалуй, и лучше, если учесть их неслабый боевой опыт. Войны с арабами — это не печенегов по Дикому полю гонять. Одна надежда — на численное и тактическое превосходство. Эх, сейчас бы Святослава — в вожди!..
Нет, никогда эта боль не утихнет. Сколько ж друзей и людей великих он пережил! А скольких — потерял…
Глава четвертая, в которой Духарев удостаивается встречи с «первым министром» империи
Не успел Духарев как следует насладиться жизнью богатого византийского феодала, как из столицы прискакал гонец. Спафария Сергия желали срочно видеть во Дворце. И не кто-нибудь, а сам паракимомен Василий.
Об этом человеке следует рассказать отдельно.
Сын императора Романа Лакапина от наложницы, Василий, согласно обычной византийской практике, был оскоплен. По приказу собственного отца. Дабы не мог составить конкуренции законным детям. Предосторожность, как выяснилось, вполне оправданная. Бастард Василий оказался крут. Умен, дипломатичен и вдобавок — воин, что среди евнухов встречается не так уж часто. Когда законные сыновья Лакапина подняли восстание против папаши и отправили последнего в ссылку, в Константинополе тут же возник бунт… И законные сыновья отправились следом за родителем. А евнух Василий — остался. И более того, новый Август, Константин, сделал его паракимоменом, то бишь постельничим. Очень серьезная должность. Высшая для евнуха при византийском дворе. Паракимомен спал в одних покоях с императором, а следовательно, пользовался абсолютным доверием Августа. Вопрос — с чего бы? Ответ: надо полагать, заслужил.
Власть у постельничего была огромна. Почти равна власти премьер-министра. А тут еще Василий, даром что евнух, показал себя отличным полководцем: славно повоевал в Азии, крепко вломил арабам и захватил Самосату. Кстати, там, в Азии, поднялось немало отличных полководцев. И будущих императоров. Никифор Фока, Иоанн Цимисхий…[35] Не будь Василий скопцом, не исключено, он тоже был бы в этом списке. Но императорский «пост» для калеки закрыт. Поэтому Василий «всего лишь» доказал, что по праву считается первым после Августа лицом в империи. Ну и знакомства полезные завел. С тем же Цимисхием, например.
Императоры, впрочем, не любят, когда кто-то становится слишком крут, поэтому Константин Багрянородный с должности Василия снял. Однако оставил при дворце…
Но вот к власти приходит Никифор Фока — и Василий вновь наверху. Председатель сената.
А когда настала пора Никифору насильственно умереть, Василий вроде как в стороне. Среди убийц Никифора его нет, зато он первым присягает Иоанну Цимисхию, активно помогает последнему взять власть, а затем успешно рулит в Константинополе, пока Цимисхий громит врагов империи.
Автократор воюет, евнух правит и богатеет. Все довольны… Кроме законного императора Иоанна. Казалось, дни Василия сочтены…
Но тут у совершенно здорового и полного сил Цимисхия внезапно возникают проблемы со здоровьем. И — хоп! Нет больше Иоанна Цимисхия. А паракимомен Василий — есть. И правит теперь от имени новых императоров, малолетних Константина и Василия.
Вот к этому столь же опасному, сколь и выдающемуся человеку и пригласили, точнее, вызвали Сергея Духарева.
Незаконный сын Романа Лакапина был весьма представителен. Высок, широк в плечах, осанист… Приклей ему бороду — и ни за что не скажешь, что евнух.
Однако сейчас «первый министр» Византии был явно встревожен. Варда Фока в очередной раз показал себя молодцом.
Император Василий заслал против него очередного полководца: какого-то комита армянского происхождения. С целью не столько победить, сколько попытаться переманить примкнувшие к Варде Фоке армянские и грузинские части.
Миссия провалилась с треском. Более того, треть «правительственных войск» перебежала к мятежнику.
Но Духарева пригласили не за этим. Паракимомена очень интересовало: не пытались ли сторонники мятежника выйти на Духарева и переманить на свою сторону?
Сергей всё отрицал. Это был более безопасный вариант, чем честный ответ плюс заявление о верности Августу. В последнем случае у него могли потребовать имена заговорщиков (Можно подумать, паракимомену они неизвестны!), а то и вовсе отравить. В профилактических целях. Мало ли что не согласился! Вдруг — передумает? Автократору очень нужен киевский князь. А вот нужен ли ему спафарий Сергий? Да. Но лишь при условии полной лояльности.
Духарев очень постарался убедить «премьер-министра», что — лоялен. Хотя понимал, что играет с огнем. Человеку, запросто отравившему «действующего императора» Иоанна Цимисхия, вычеркнуть из жизни какого-то спафария — как дворняжке блоху прикусить. Духарев был искренен. Почти. И особенно упирал на то, что лишь он один сможет убедить Владимира принять крещение. Более того, Сергей Иванович обещал добиться от великого князя, чтобы тот не только крестился сам, но и крестил свой народ. Да и кто, если не он, спафарий Сергий, ныне — единственный христианин среди воевод киевских, способен на подобный подвиг?
«А где и кем был крещен сам спафарий?» — поинтересовался евнух.
Духарев ответил уклончиво. Мол, сам этого не помнит, потому что мал был. Но несомненно крестили его по византийскому чину.
А жена у спафария — из мисян, проявил эрудицию паракимомен.
«И что с того?» — делано удивился Духарев. А сами мисяне от кого веру приняли? А что уважения Византии не оказывают, так это — явление временное. Вот всыплет им Константинополь по первое число — враз вернется правильная духовная ориентация. Он, спафарий Сергий, это со знанием дела говорит, потому что в бытность свою воеводой архонта Святослава общался с мисянами много, и как раз — с позиции силы. Ну да сиятельный сам об этом наверняка знает, потому что опочивший брат Сергея, спафарий Михаил, по-словенски именуемый Мышатой, был в курсе ситуации.
Спорить с Сергеем паракимомен не стал. Но поинтересовался судьбой своего личного шпиона боярина Блуда. Духарев в очередной раз ответил, что Блуд — в большой немилости. За организацию убийства предыдущего князя Ярополка. Уточнил, что сам он был противником «смены руководства» в Киеве, поскольку Владимир намного агрессивнее и воинственнее. Да и язычник к тому же. Однако теперь он, спафарий Сергий, понимает, насколько дальновиднее оказался сиятельный паракимомен, поспособствоваший смене власти. Мягкий и слабый Ярополк вряд ли мог бы оказать императору помощь, столь нужную ныне.
Лесть, особенно грубая и беспардонная, весьма приятна властям.
К концу аудиенции Духарев был обласкан и одарен.
К концу аудиенции Духарев был обласкан и одарен. Причем не какими-то там дарами моря и дровами для растопки, а солидным земельным наделом. На Адриатическом побережье. То есть на территории, занятой ныне войсками Варды Фоки.
Зато не отравили.
Глава пятая. Немного геополитики
Очередной сюрприз. Болгары вторглись во Фракию. Этого следовало ожидать после того, как войско императора Василия было вдребезги разбито в Родопах.
Трудно сказать, на что надеялся император, затевая этот поход[36]. Формальным поводом стало якобы вторжение болгар в Македонию. Но Духарев предполагал, что молодой император попросту хотел поднять свой полководческий рейтинг.
В общем, собравши немалую армию, Василий вторгся в Болгарию.
Сначала всё шло неплохо. Успешно прошли горными тропами и осадили город Сардику[37].
Осадили — и зависли почти на месяц. Главная причина — отсутствие опытных инженеров. Большая часть осадных машин и орудий не работала. Только хороший лес зря извели.
Естественно, боевой дух войска от этаких «успехов» резко снизился. Вместо перспективы быстрого захвата города и жизнеутверждающего грабежа — тупое и ленивое сидение под стенами. Главное занятие: выжирание провианта и засирание окрестностей лагеря.
Бардак в войске, насколько слышал Духарев, был полнейший. Не лучшие комиты (лучшие оказались в войсках мятежного Склира и его победителя Варды Фоки), отсутствие грамотного военачальника… Дисциплина в лагере упала значительно ниже уровня дерьма в выгребных ямах. Системного снабжения не было. Стратиоты шлялись вне лагеря, скот и коней пасли свободно, будто у себя дома…
Итог закономерен. Внезапный удар болгар — и византийцы лишились половины обоза и большей части вьючных животных.
Пока отбивали то, что осталось, осажденные сделали вылазку и пожгли все осадные орудия и машины, включая те немногие, что кое-как работали.
Тогда наконец-то молодой Автократор принял верное автократическое решение. Надо сваливать. И не пустил дело на самотек, а занялся лично, то есть более-менее наладил процесс: разведка, быстрые марши, ночевки в укрепленных лагерях…
И тут с неба упала звезда.
Воистину то пала звезда императора Василия, но роль горевестника этому несчастному метеориту приписали уже после, а в ту ночь все придворные астрологи наперебой заверяли императора, что, наоборот, Автократору предстоят замечательные победы. А не попробовать ли еще разок наехать на Сардику?
Здравый смысл восторжествовал. Василий продолжил отступление. Однако осторожности поубавилось, и император — вляпался.
Сначала по всем правилам, после хорошей разведки, Василий завел войско в труднопроходимое и испещренное естестенными отверстиями ущелье… которое благополучно преодолел.
Тут бы ему и остановиться, но царственный полководец останавливаться не стал, двинулся дальше. Уже без всякой разведки — в еще более «неудобное» ущелье…
…Где ромеев, решивших, что самое трудное — позади, и «приняли» зловредные мисяне.
Разгром был ошеломляющий.[38] Большая часть армии полегла. Болгары взяли огромную добычу, включая и императорский шатер со всем содержимым. В общем, всё, кроме самого императора, которого личной гвардии все же удалось спасти.[39]
И вот теперь, пользуясь тем, что запуганный мятежниками Автократор безвылазно сидел в столице, окруженный все еще верными ему войсками, болгары преспокойно резвились уже не только в Македонии, но и во Фракии.
Пока Василий отсиживался за могучими стенами, Варда Фока наступал. Он устроил Константинополю натуральную морскую блокаду, приведя в Геллеспонт множество судов и наглухо заблокировав пролив. Затем захватил все приличные пристани на азиатском берегу, за исключением Абидоса, который обложил столь мощным войском под командованием магистра Льва Мелиссина[40], так что взятие этого последнего оплота Василия по ту сторону Босфора было лишь вопросом времени.
Многочисленные успехи не вскружили голову Фоке. Племянник убитого императора Никифора был настоящим профи и помнил, что военачальник должен быть готов ко всему. То есть, даже зная о том, что Василий сидит и трясется от страха в Константинополе, Фока, тем не менее, предусмотрел возможность попытки форсирования императорскими войсками Босфора и для пресечения оной построил мощное укрепление на Хрисопольском холме[41], оставив там войско, пешее и конное, вполне достаточное для удержания контроля над плацдармом.
Командование этим заслоном он доверил надежному человеку: своему брату, тезке покойного императора, Никифору Фоке. А поскольку Никифор был слеп,[42] то фактическим командующим был назначен некий патрикий Калокир Дельфин.
«Интересно, не тот ли это Калокир, который когда-то стал побратимом Святослава?» — подумалось Духареву.
Положение у Василия сложилось — не позавидуешь. Чрезвычайно удачное прибрежное местонахождение Константинополя (Мраморное море, Босфор, Золотой Рог) спасало город от полной блокады, но единственной лазейкой для снабжения столицы провиантом было Черное море.
Оставив на азиатском берегу изрядную военную силу, Варда Фока отбыл собирать стекавшиеся отовсюду подкрепления, необходимые, чтобы сделать последний шаг: войти в Константинополь, где, кстати, его сторонники кишмя кишели, несмотря на жесткие карательные меры, принятые «приятелем» Духарева логофетом дрома.
Сергея, на всякий случай, тоже взяли под жесткий контроль. При нем постоянно находились гвардейцы императора. Все — наемники и потому люди надежные и преданные. С дружинниками Духарева эти бойцы прекрасно ладили — одного поля ягоды. Однако получи они приказ арестовать или убить Сергея — исполнили бы без колебаний. Но пока у них был приказ — оберегать и защищать спафария. Чем они и занимались. Сергей был не против. Обстановка в городе продолжала накаляться. Цены на продовольствие росли, как бамбук. Стены домов каждую ночь испещрялись хулой в адрес императора Василия. Бунт мог вспыхнуть в любую минуту, и тогда императорские гвардейцы оказались бы весьма уместны.
Кстати, ни сам Духарев с охраной, дворней и слугами, ни его основная дружина, разместившаяся на территории «русского подворья», сложностей с пропитанием не испытывали, потому что снабжались непосредственно из императорских кладовых по нормам «военного времени», то есть весьма щедро.
Голода Духарев не боялся, но — тревожился. Он чувствовал, как напоен угрозой несвежий воздух столицы. Время работало на мятежников. Сергей с нетерпением ждал, когда же наконец прибудет войско великого князя Владимира.
Но как сказано в Евангелии от Матфея: «Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется».
Так и вышло.
Глава шестая. Русь и Рим
Последнюю часть пути воинство Владимира преодолело пешком. Вернее, верхом. В сопровождении представителей императора, разумеется. Ромеи еще помнили, как по этому пути хаживали предшественники Владимира Олег и Игорь.
А помнить было что. Помнить и молиться о том, чтобы русы не забыли, что пришли сюда по личному приглашению императора, а не как обычно. Грабить.
В город Владимирово войско не пустили. Осторожность императора можно было понять: шесть тысяч русов. Этого достаточно, чтобы вынести всю константинопольскую стражу, включая гвардейцев-этериотов. Так что разместили храбрых союзников в тех же казармах загородного дворца, где уже обитали гридни Духарева.
Впрочем, самого Владимира вместе с ближниками — князьями и воеводами, в город допустили, причем — с оружием.
Архонту русов была немедленно назначена официальная аудиенция в Большом Дворце. Немедленно — это по ромейским понятиям, ведь такое серьезное действо следовало основательно подготовить.
Процедура приема иноземных правителей Автократором ромеев происходила по старинному церемониалу, была выверена и расписана до мелочей и разыгрывалась из века в век, независимо от того, чьи ноги были обуты в пурпурные императорские сапоги.
Процедура приема иноземных правителей Автократором ромеев происходила по старинному церемониалу, была выверена и расписана до мелочей и разыгрывалась из века в век, независимо от того, чьи ноги были обуты в пурпурные императорские сапоги.
Сначала посольство следовало по мосту через Золотой Рог к Харисийским воротам. Затем — по главной улице — к площади Тавра. Далее, сквозь великолепную мраморную арку, к площади Константина, а оттуда, по широкой, вымощенной плитами улице, мимо увешанных коврами и драгоценными тканями, уставленных золотыми изделиями портиков — через тримуфальную арку — на Августеон, главную площадь империи.
Здесь торжественная процессия останавливалась, чтобы иностранный правитель мог насладиться зрелищем Святой Софии, гигантского ипподрома и Большого Императорского Дворца. Насладиться и проникнуться величием империи.
После поражающей варварское воображение прогулки по столице зарубежного лидера через главные ворота запускали в Большой Императорский Дворец.
То же произошло с Владимиром. Правила есть правила.
То, что архонт русов был последней надеждой Василия Второго, ничего не меняло. Владимира со свитой, невозмутимого (что-что, а держать лицо великие князья русов умеют), со всеми подобающими почестями впустили во Дворец, провели по раз и навсегда утвержденному маршруту: роскошным залам и галереям (где специально для этого случая собирали большую часть богатств Дворца), и наконец вывели в гигантский Тронный зал, где на великолепном троне, в пурпурных туфлях, многоцветном шелке, в золоте и жемчуге восседал сам Автократор Византии в императорской короне, с цепью из огромных драгоценных камней и еще более роскошным скипетром в руке. У трона повелителя величайшей (после падения Рима, разумеется) из земных империй произрастало золотое (вернее, позолоченное) дерево, и золотые механические птицы сидели в его ветвях.
Едва Владимир вступил в зал, как волшебные птицы запели, а золотые львы, охраняющие трон императора, ударили хвостами, распахнули пасти и испустили устрашающий рев.
Сопровождающие Владимира византийцы пали ниц, а трон императора, напротив, устремился ввысь…
— Я бы не отказался войти сюда победителем, — шепнул воевода Претич Сигурду-ярлу, и тот понимающе ухмыльнулся.
— Интересно, эти рычащие штуковины действительно золотые? — задал естественный для нурмана вопрос Сигурд.
Воеводы оживились. Каждый мысленно прикидывал свою долю от дележки таких неслабых кусищ благородного металла.
— Половина лапы меня бы устроила, — пробормотал Претич.
— А мне — вон ту веточку, — попросил Путята. — Думаю, гривен на пять потянет…
— Поклонитесь, — прервал «возвышенные» мечты воевод великий князь. — Все же это повелитель ромеев и мой будущий родственник.
Восемь ближников дружно отвесили поклон. Такой же, каким приветствовали бы своего князя.
Если византийский император ожидал от них большего, то не дождался.
Владимир и вовсе не стал кланяться. Даже не кивнул.
Потом поискал среди имперской верхушки кесаревну Анну. Ему показывали парсуну сестры императора, но рисунок — это одно, а реальность — другое. Художники всегда старались приукрасить тех, кого рисовали. Но тут, пожалуй, вышло наоборот. Феофано, простолюдинка, поднявшаяся до вершин власти, была прекраснейшей из женщин, и дочь унаследовала ее красоту. Владимир ласково улыбнулся будущей невесте, а потом перевел взгляд на рыкающих львов. Изучил их с большим интересом и без малейшего страха — он бы и настоящих львов не испугался, а тут какие-то игрушки. Хм… Золотые игрушки.
Наблюдавший за этой сценой с галереи Духарев (он тоже присутствовал, но не как воевода Владимира, а как спафарий. Типа — на страже безопасности Августа) мысленно усмехнулся.
Ох, не стоило Василию кичиться сокровищами! Чужое богатство для воина-варяга — это верный способ поднять ценник на собственные услуги.
Впрочем, было занятно. Тем более что сам прием длился недолго. От силы полчаса. Засим русов выпроводили. Впрочем, Владимир и тут «отличился». Надо полагать, пропустил мимо ушей все наставления церемониймейстера: повернулся к владыке Восточно-Римской империи спиной.
Иных иностранцев казнили и за куда меньшие проступки. Дипломатического иммунитета для чужеземных послов и владетелей в Византии не существовало.
Но вряд ли Владимиру рискнули даже замечание сделать.
После совершенно бессмысленной официальной встречи Владимира попытались отвести к логофету дрома для предметного разговора, но великий князь, получивший от Духарева предварительные инструкции, «министра» послал. Мол, негоже целому великому князю русов общаться с каким-то холопом, пусть даже и императорским. Не по уровню.
И покинул Дворец.
Логофет тут же послал за спафарием Сергием и перехватил Духарева раньше, чем тот присоединился к «свите» своего великого князя.
— Богопочитаемый Автократор повелел нынче вечером архонту и его воинам переплыть через Босфор и напасть на войско мятежников! — с ходу выпалил евнух.
— Архонт Владимир не любит торопиться, — пожал плечами Духарев.
И куда спешить? Мятежники, чай, не убегут, русы устали с дороги (Вранье! Гридь Владимира ехала шагом, подстраиваясь под темп обоза), а кроме того великий князь, прежде чем вступать в игру, желает услышать подтверждение условий договора, изложенных послами, от самого василевса. Лично. Варвар, что с него возьмешь? Считает себя ровней самому богопомазанному Августу. Хотя лично он, Духарев, не видит в этом ничего плохого, ведь так и будет, когда архонт примет крещение и женится на кесаревне Анне.
Логофета от таких слов аж перекорежило. Трудно сказать, что ему больше пришлось не по вкусу: то, что варвар проигнорировал прямое распоряжение императора, или то, что дикий рус может получить право именоваться кесарем и василевсом.[43]
— Но ты можешь хотя бы попросить архонта немного задержаться? — срывающимся голосом попросил логофет дрома, который, надо полагать, уже чувствовал на своей жирной вые дыхание монаршего гнева.
— Попробую, — сказал Духарев.
И, не теряя времени, устремился на перехват великого князя. Тот, впрочем, особо не спешил. Всё шло по заранее оговоренному сценарию.
Глава седьмая, в которой великий князь Владимир отказывается от мешка золота в качестве аванса, но великодушно принимает его в дар
— Хорош у тебя дом! — одобрил Владимир, глядя с высоты окна на Мраморное море.
Одно из качеств великого князя, симпатичных Духареву, — замечательная адаптация. Где бы ни оказался Владимир, везде он чувствовал себя хозяином положения. Достижения ромейской цивилизации он принимал как должное. По поводу разницы между каменным имперским зодчеством и родными деревянными пенатами не переживал. Примерно так юный отрок в простенькой защите смотрит на золоченое зерцало воеводина доспеха. Ну да, пока у него лишь курточка с железными бляшками, но придет время и…
Если что и способно было впечатлить Владимира, так это искусство. Музыка, пение, фреска, статуя… Причем оценивал его великий князь по каким-то своим, личным, не очень понятным Духареву критериям. Например, на львов в тронном зале дворца он глядел как на большую кучу золота, а мраморная фигурка всадницы на быке, украшавшая здешний холл, привлекла внимание князя чуть ли не на четверть часа. К немалому удивлению Духарева, рассматривавшего статуэтку просто как часть интерьера.
Временами Сергею казалось, что великий князь видит вещи как-то по-особенному. Во-первых, непредвзято, во-вторых, глубже, чем другие люди. Не поверхность, а тайную суть… Подобное не удивило бы Сергея в монахе, отшельнике или мудреце вроде Артака, но во Владимире, сыне и внуке воинов, воспитанном воином же и среди воинов, правителе умном, жестоком и прагматичном, — удивляло.
Не поверхность, а тайную суть… Подобное не удивило бы Сергея в монахе, отшельнике или мудреце вроде Артака, но во Владимире, сыне и внуке воинов, воспитанном воином же и среди воинов, правителе умном, жестоком и прагматичном, — удивляло. И не слишком радовало, потому что делало поведение великого князя непредсказуемым, не просчитываемым с помощью знания и логики. Когда властный жизнелюбивый ценитель ратной славы, плотских утех, охоты, шумных пиров и прочих молодецких забав вдруг замирает, любуясь статуэткой, — это как-то неправильно.
Вот отец его Святослав был Сергею понятен, хотя тоже временами абсолютно непредсказуем. Но вся его непредсказуемость лежала в области военной стратегии. И это тоже было понятно. Гений войны.
Дядька Владимира Добрыня тоже понятен. Сергей всегда знал, почему Добрыня принял то или иное решение. И что было в его основе: ум, хитрость или то и другое вместе. Владимир тоже обладал и умом, и хитростью. И многое перенял у дядьки. Но временами Сергею казалось, что великий князь играет в какую-то непонятную прочим игру с самим собой. Будто внутри у него живет еще некто… И Владимир прислушивается к нему так же, как к словам ближников-советников. Пытается уловить, отыскать нечто, недоступное простому взгляду и обычному пониманию…
Что, впрочем, не мешало великому князю задирать подол любой приглянувшейся девке.
«Хотя, — пришла в голову Духарева забавная мысль, — может, и в девках Владимир хочет отыскать нечто особенное, понятное только ему?»
— Хороший дом. И место хорошее, — произнес великий князь одобрительно.
Вид из окна и впрямь был неплох, хотя, на вкус Духарева, удовольствие миросозерцания изрядно портили всевозможные неопрятные плавсредства, покачивающиеся на пологой волне, и запашок, приносимый бризом.
Только что они с великим князем, ярлом Сигурдом и, само собой, сыном Богуславом недурно подкрепились дарами моря и земли, запив всё это отличным вином — подарком с «царского стола». Правда, подарок сей был сначала испытан на дворцовом чиновнике, «сопровождавшем» дар.
Отказаться от роли дегустатора ромей (под грозным взглядом Духарева) не посмел. Яды, конечно, бывают и замедленного действия, но императору не было ровно никакого смысла травить Владимира раньше, чем отправится в лучший мир мятежный Варда Фока. А буде кто-то из недругов Владимира решил проявить самодеятельность, то чиновник-сопроводитель наверняка в курсе. Работа у него такая — отвечать за проверку и сохранность царских даров.
— Да, дом хорош, — согласился Духарев. — Его мой холоп построил. На украденные у меня деньги.
— Казнил? — поинтересовался Владимир.
— Жизнь оставил, — честно ответил Сергей. — Дочка его мне приглянулась. Но дом забрал, конечно. Теперь он в твоем полном распоряжении.
— А дочка того холопа — тоже? — улыбнулся Владимир.
— Нет, княже, — в свою очередь улыбнулся Духарев. — Для тебя я припас яство повкуснее. Коли желаешь попробовать — милости прошу в баньку.
— В баньку? — усомнился Владимир. — После такой трапезы?
— Здешняя банька — не такая, как наша. Не отказывайся, княже, обижусь!
— Ну раз уж ты настаиваешь, боярин-воевода…
Всё. Теперь Владимир был «выключен» из политической жизни минимум на три часа. Духарев нанял для услаждения великого князя шестерых девок из лучшего аристократического борделя столицы, причем три из них были не только юны, красивы, обучены пению, танцам, массажу, само собой, полному спектру интимных услуг, но и отлично говорили на родных словенских языках.
Компанию великому князю составил ярл Сигурд.
Богуслава Сергей в «райскую обитель» не отпустил.
Сын нужен для дела. Впрочем, Богуслав и сам к византийским гетерам не особенно рвался. Младший сын Духарева старался быть верен своей жене. По возможности.
Оставив великого князя в обществе гетер, а его ближнюю дружину — в компании доброй еды и выпивки, Сергей и Богуслав сели на коней и с небольшой свитой отправились налаживать полезные контакты. Официальный повод — спафарий Сергий хочет представить византийской знати своего сына. Неофициальный — прощупать, как отнеслись представители столичной аристократии к появлению на византийской шахматной доске русского ферзя.
«Обход» занял более трех часов, а мог бы закончиться и заполночь, если бы Сергей принял хотя бы одно приглашение на обед. Вернее, на званый ужин.
Но Духарев отказывался, мотивируя это необходимостью, по повелению Автократора, присматривать за грозным архонтом русов.
Результат общения Сергея удовлетворил. Шесть тысяч русов существенно повысили лояльность местных вельмож действующему императору. Хотя можно было не сомневаться: стоит противоположной чаше весов пойти вниз — и византийские феодалы тут же переметнутся. Тем более что род Фок, равно как и род Склиров — того же поля ягоды. Причем наиболее крупные.
По возвращении домой Духарев обнаружил там небольшую правительственную делегацию, возглавляемую не кем-нибудь, а самим «премьер-министром», паракимоменом Василием.
Причем всесильный евнух «томился в прихожей» уже добрый час и порядком озверел.
Мгновенно сориентировавшись, Духарев первым делом извинился (в меру униженно) за поведение архонта русов. Мол, сами понимаете — дикий скиф. Совершенно дикий. Какой этикет? Какая дипломатия? Жрать в три горла да драться за десятерых — вот истинное призвание варвара. Но ведь именно это и требуется сейчас богопомазанному Августу, разве нет? Впрочем, после Причащения Святых Тайн великий князь Владимир несомненно переменится в лучшую сторону. Бог и византийские епископы, а особенно — царственнородная кесаревна Анна, научат русов культуре и пониманию истинного, то есть — византийского величия.
А теперь, не окажет ли превосходнейший Василий милость и не позволит ли он представить ему младшего сына Тимофея (примерно так можно перевести со словенского имя «Богуслав»), который недавно вернулся из Багдада…
На слово «Багдад» Василий среагировал правильно. Заинтересовался. Подобрел и принялся задавать вопросы. Вот он, настоящий политик. Амбиции — побоку, если есть возможность извлечь пользу для дела.
Богуслав-Тимофей с удовольствием на вопросы отвечал. Языком империи он владел несравненно лучше отца, так что препятствий общению возникнуть не могло.
А Духарев тем временем пошел извлекать великого князя из терм.
— Почему он не кланяется? — недовольно произнес Владимир, глядя на здоровенного роскошно одетого паракимомена.
Гладкое лицо Василия дрогнуло. Чуть-чуть, но достаточно, чтобы Духарев понял: словенский язык ему знаком. Интересная информация. А как насчет нурманского?
— Он полагает, что это ты должен кланяться, конунг, — на языке викингов ответил Духарев, искоса наблюдая за Василием.
— Я? Этому холощеному волу? — изумился Владимир.
Василий, судя по его невозмутимому лицу, реплики великого князя не понял. Или понял, но на сей раз не показал виду, что, надо полагать, совсем нетрудно для царедворца, пережившего нескольких императоров.
— Этот холощеный вол, как ты, княже, изволил выразиться, потерял свои яйца не по собственной воле, а всего лишь потому, что его угораздило родиться сыном повелителя Византии и его наложницы. Его отец позаботился о том, чтобы сын холопки не имел права занять место своих единокровных братьев. В противном случае именно он сидел бы сейчас на троне кесаря, ведь даже без яичек он сумел стать могучим воителем и мудрейшим из здешних бояр.
В противном случае именно он сидел бы сейчас на троне кесаря, ведь даже без яичек он сумел стать могучим воителем и мудрейшим из здешних бояр.
— Не повезло, — с искренним сочувствием произнес сын великого князя и его рабыни-ключницы, занявший престол своего «законнорожденного» брата. — Хорошо, что наши обычаи не такие, как здесь, и мой славный отец принял меня в род. Скажи ему, воевода, — Владимир перешел на родной язык, надо полагать сообразив, почему Духарев вдруг заговорил по-нурмански, — что я приношу свои извинения за то, что заставил ждать такого славного мужа… То есть не мужа, но… В общем, сам найди нужное слово. Скажи, что мне не доложили, кто пришел, и я сожалею. Вина ему предложи… Ну да ты сам знаешь, как лучше сделать.
— Архонт приносит свои извинения за то, что по неведению вынудил тебя ждать, сиятельный муж, транслировал слова князя Духарев. — Ему не доложили о твоем приходе. Прости и меня за то, что в моем доме тебе не оказали подобающего приема. Поверь: мое уважение к тебе — безмерно! Не желаешь ли вина? — Он указал на стол, где всё еще стоял присланный из дворца бочонок. — Оно превосходно!
— Мне известно качество этого вина, — довольно холодно произнес евнух. — Я сам его и выбирал. Но давай перейдем к делу, светлейший муж! Наш Август желает, чтобы архонт Владимир немедленно атаковал мятежников! Ты понял? Немедленно! Не сомневаюсь: несмотря на все наши предосторожности, слух о нем и его людях уже пересек Босфор. Каждый час на счету! Переведи ему то, что я сказал, спафарий! Слово в слово! Он — воин и должен понять, что я прав. А чтобы усилить вес моих слов, я добавляю к ним вот это! — Василий сделал знак двум своим людям, и те внесли и бросили к ногам Владимира приличных размеров мешок. В мешке громко брякнуло. — Это золото! — пояснил Василий.
Судя по внешнему виду, мешок тянул килограммов на пятьдесят. То есть на десять тысяч монет[44].
— Здесь — два кентинария, — уточнил Василий.
— Немного, — заметил Владимир. — Думаю, даже тысяча наемников-нурманов обошлась бы намного дороже.
— Это не плата наемникам, — выслушав перевод, объяснил Василий. — Это — подарок.
— Конечно, это не плата, — согласился Владимир. — О плате мы уже договорились. И еще я хочу знать, когда я смогу посмотреть на свою будущую жену поближе?
И без того маловыразительное лицо евнуха стало и вовсе каменным.
— Мятежники, — сказал он. — Если они будут готовы в нападению…
— …Это их не спасет, — перебил великий князь раньше, чем Духарев договорил перевод. — Скажи ему, что я не боюсь врагов. Но чтобы враги василевса ромеев стали моими, василевс должен стать моим братом. Как мы и договаривались. И в знак нашего будущего родства я готов принять этот скромный подарок… — Владимир пихнул сапогом мешок с золотом. — Но ты не ответил на мой вопрос. Когда я увижу невесту?
— Я спрошу об этом моего повелителя, — буркнул паракимомен, кивнул (иначе как кивком это небрежное движение головы не назовешь) и вышел.
— А ведь скопец прав, — заметил Сигурд. — Упустим время — куда больше крови прольем.
Владимир вопросительно взглянул на Сергея.
Тот ответил не сразу. Сначала он знаком велел слуге выйти, потом, собственноручно наполнив кубки из дареного бочонка, поднес их ярлу и князю киевскому и лишь после этого произнес:
— Это Византия, ярл. Здесь чужую кровь не берегут. И друзей у нас тут нет. Потому если император хочет, чтоб мы, не медля, без раздумий кинулись в бой, то именно этого делать не следует.
Византия, ярл! Если ромей советует тебе то, что кажется разумным, не соглашайся.
— Почему же? — поинтересовался Сигурд. — Мало ли кто мне советует? Если наши враги подготовятся к бою, победить их будет трудней. Это всем известно.
— Что скажешь, воевода? — Владимир поставил на мраморный стол оправленный в серебро кубок и взял с блюда тонкую полоску острого сыра.
— Если тебе кажется, что ромей прав, храбрый Сигурд, то это значит: ты чего-то не знаешь. Вот скажи мне: кто здесь наш враг? — осведомился Духарев.
— Враг — тот, с кем предстоит биться, — осторожно, чуя подвох, ответил нурман.
— Не всегда, ярл. Это — Византия. Здесь враги предают друзей, чтобы заключить выгодный союз. Здесь вражда между знатными родами длится сотни лет, но это не мешает им встать единым строем, если это сулит выгоду. Варда Фока был врагом императора при правлении Иоанна, а когда тот умер, по-прежнему оставался врагом императора, но уже — Василия, которому Иоанн уж точно не был другом. Точно так же, как он не был другом нашему недавнему гостю паракимомену Василию Лакапину. Но именно скопец Лакапин вернул Варду из ссылки. И не потому, что хотел Варде добра. У паракимомена не было другого выхода. Иначе мятежник Склир вышвырнул бы обоих Василиев из дворца. А ведь именно Склир когда-то пресек мятеж, из-за которого Варда Фока отправился в ссылку. А потом Варда Фока разбил Склира… И скоро вновь оказался в опале. И сам поднял мятеж. И едва Варда Фока восстал, его тезка и бывший враг Варда Склир тут же прибежал из Парфии его поддержать. И Варда Фока Склира принял. Вместе со сторонниками. Потом упрятал в темницу, а войско Склира оставил себе. Вот так делаются дела в империи. Сегодня ты враг, завтра — друг, а послезавтра тебя отравят. Так что ничего удивительного нет в том, что император Василий попросил помощи у нас. Давних врагов империи. И эта просьба не делает Василия другом, а Варду — врагом. Один — союзник, другой — противник. Если мы и войска Варды истребим друг друга, Василий станет счастливейшим из людей. И с удовольствием прикончит тех, кто остался. И знаешь, кто мне об этом сказал? Человек Варды Фоки, который пришел ко мне, чтобы предложить золото за то, чтобы мы либо встали на его сторону, либо просто сделали вид, что нас здесь нет. И еще он сказал, что заплатит больше Василия, сколько бы тот нам ни предложил.
— И ты не согласился?! — гневно воскликнул Сигурд. — Получить больше только за то, чтобы не участвовать в битве! Я думал, что ты умнее, воевода! Но, может, еще не поздно…
— Замолчи, Сигурд! — перебил ярла Владимир. — Здесь я решаю, у кого брать золото! И я не повторю ошибки моего деда Игоря, которого такие, как ты, уговорили принять от ромеев выкуп, а затем привели к гибели собственной жадностью!
— Конунг! Что ты говоришь? — Сигурд обиделся. — Когда я хотел твоей гибели? Вспомни, сколько лет я дрался за тебя! Но это просто глупость — умирать за меньшую плату, чем жить — за большую!
— Позволь, я отвечу! — опередил князя Духарев. — Василий — не друг нам. Но и Варда Фока — тоже. Но Василий в нас нуждается, а Варда Фока прекрасно справится и без нас. Поэтому он никогда не заплатит больше Василия, который без нашей помощи потеряет всё. Учись у ромеев, Сигурд. Когда они решают, кому из своих врагов прийти на помощь, то всегда выбирают слабейшего. Поэтому мы — на стороне Василия. Но если Варда будет разбит, сильнее станет уже Василий. И кто помешает ему отказаться от прежних обязательств?
— Наши клинки! — мгновенно ответил Сигурд.
— Молодец! — похвалил Сергей. — Значит, наша главая задача — не разбить мятежников, а сохранить своих воев.
— Молодец! — похвалил Сергей. — Значит, наша главая задача — не разбить мятежников, а сохранить своих воев.
— Но тогда скопец тем более прав! — воскликнул ярл, лицо которого покраснело от выпитого, а речь стала невнятной. — Нападем, пока нас не ждут!
— А нас не ждут? Ты в этом уверен?
— Откуда я знаю!
— Значит, надо узнать, — спокойно произнес Духарев.
— Так давай узнаем! — Ярл вскочил, намереваясь немедленно взяться за дело, но Духарев преградил ему путь:
— Оглянись, Сигурд! Не кажется ли тебе, что здесь кого-то не хватает?
— Девки в бане остались! — немедленно отреагировал Сигурд.
Сергей расхохотался.
— Ты можешь к ним вернуться, — сказал он. — Позже. Только я не о девках говорил. Как ты думаешь, где сейчас мой сын?
— А верно! — Сигурд наконец заметил отсутствие Богуслава. — И где он?
— Надеюсь, он плывет сейчас через Босфор, — спокойно ответил Духарев. — На переговоры с братом Варды патрикием Никифором.
— Но ты же сам сказал, что нам не следует вставать на сторону врагов Василия! — удивился Сигурд.
— Но я не сказал, что нам не следует вступать с ним в переговоры. Сам посуди: разве это не лучший способ узнать о настроении врага?
— И заглушить его подозрения! — одобрительно произнес Владимир.
Нурман осушил кубок и тут же наполнил его вновь.
— А почему на переговоры отправился твой сын, а не я? — сердито проговорил ярл. — Мое место — выше, значит, мне и пристало говорить от лица конунга!
— Давно ли ты овладел языком ромеев? — поинтересовался Духарев.
— На то есть толмач! — парировал Сигурд.
— И что же, толмач будет переводить тебе всё, что услышит по дороге? Я уж не говорю о том, что Богуслав знает не только язык ромеев, но и здешние порядки. Будь мы на севере, твое первенство было бы несомненно, храбрый Сигурд. Но здесь мой сын справится лучше. Я бы и сам пошел, но мое лицо известно слишком многим.
— И что же теперь делать мне? — спросил Сигурд.
— Можешь лечь спать. Или вернуться к девкам, — любезно ответил Духарев.
— Девки кажутся мне соблазнительнее постели, — заметил Владимир.
— Еще бы! — воскликнул Сигурд. — Я тоже выбираю девок!
И, хохоча, двинулся к выходу.
Владимир недовольно поглядел ему вслед.
— Золото прибери, — велел он Духареву. — И пошли кого-нибудь к гриди — сказать, что я заночую здесь. Пусть Путята с Претичем не тревожатся.
Подумал немного и добавил:
— А она очень красивая, моя Анна. Ты согласен?
— Ее мать была прекраснейшей женщиной этой страны, — сказал Духарев. — И коварнейшей.
— Сильные женщины рожают сильных сыновей, — заявил Владимир. — Немного коварства моей жене не повредит.
Но это были просто слова. Духарев видел: красота порфирогениты очаровала Владимира. А это значит, никакое золото не заменит ему Анну.
Глава восьмая. «Именем василевса!..»
Сын вернулся на европейский берег уже в темноте. Духарев встречал его на берегу. С десятью гриднями. На всякий случай.
Обошлось. Юркая лодочка с двумя гребцами и двумя пассажирами прилегла к причалу в том самом месте, откуда ушла. Богуслав легко вспрыгнул на пирс. Его «отмычка» для прохода мимо заблокировавшего пролив мятежного флота — толстенький коротышка, отпрыск одной из младших ветвей могучего рода Фок, — взошел на берег уже не так ловко, взятый под мышки здоровенными гребцами.
Вид у благородного ромея был взъерошенный. Нервная это работа — с мятежниками якшаться. Тем более все родичи Варды — на подозрении. Попадешь в лапы знакомца, логофета дрома, вмиг что-нибудь нелишнее отрежут. А тут целая бронная рать на пирсе встречает. Слабому духом впору о запасных портках подумать.
Так что буркнул ромей-«коммуникатор» что-то невразумительное и канул во тьме.
Богуславу подвели коня.
— Будешь? — спросил Духарев, протягивая кожаную флягу с вином.
— Не откажусь.
— Как прошло?
— Богато! — Белые зубы Богуслава сверкнули во тьме. — Пируют. Главный за столом — слепец Никифор. Но командует войском патрикий Калокир Дельфин. Войско крепкое, место хорошее, но порядка не много. Расслабились. Родича своего приняли хорошо. Меня — осторожно. Я назвался этериотом. Открылся только Никифору и Калокиру. Они меня обнадежили. Злата сулили — до пятидесяти кентинариев. Мол, Варда Фока золота на Востоке набрал — из седельных сумок сыплется. Варда сейчас от Хрисополя — в семи днях пути. Приедет — и будет нам счастье! — Богуслав засмеялся. — А Калокир этот привет тебе, батя, передавал. Сказал: вы с его отцом — добрые знакомцы.[45] Жаль, по лагерю побродить меня не пустили. Хотя главное я увидел. И ложь посеял. Теперь они нас не ждут. Вернее, ждут, но только по возвращении Варды. И не биться, а торговаться. А что князь?
— Блудодействует, — усмехнулся Духарев. — Но мы туда не поедем. В старом доме переночуем. Он ближе. Да и воняет там меньше.
— Это у Золотого Рога не воняет? — изумился Богуслав.
— Я сказал «меньше». Попробуй-ка найди место в Константинополе, где воздух чист, и я тебе полную гость солидов отсыплю.
— Да запросто! В императорском дворце… Хотя нет, там тоже воняет. По-другому только…
Проснулся Духарев от грохота. Кто-то нагло ломился в двери.
— Именем василевса! Открывай!
Духарев только и успел, что вскочить с ложа, как в спальню вломилось сразу десятка полтора этериотов.
— Ты — спафарий Сергий? Пойдешь с нами!
— Да ну? — ухмыльнулся Духарев. — Уверен?
— Не пойдешь добром, силой принудим! — прорычал на скверном ромейском бородатый здоровяк позади офицера, обнажая меч.
— А пупок не развяжется?
— Что?
— Нудилка, говорю, не оторвется?
— Железо спрячь! — Богуслав, раздвинув этериотов, перехватил руку бородача и, невзирая на сопротивление, заставил вернуть меч в ножны.
В спальне стало совсем тесно. Подоспели гридни. Правда, без брони. Зато — с оружием.
Однако командир группы императорских гвардейцев не испугался и даже не смутился. За ним была власть посильней десятка клинков.
— Автократор Василий желает видеть тебя, спафарий. И, думаю, тебе следует поторопиться, потому что Богопочитаемый не любит ждать.
«Неужели узнали, что Славка плавал к мятежникам?» — обеспокоился Духарев.
Может, стоило предупредить хотя бы логофета дрома?
Но внешне беспокойство Сергея никак не проявилось.
— Мне лестно, — сказал Духарев с иронией, — что Благочестивый и Богопочитаемый так заботится о моей безопасности, что прислал этерию. Но ты точно знаешь, что Божественный желает видеть меня именно в исподнем?
— Можешь одеться, — милостиво дозволил этериот.
Длинные коридоры, пустые, пыльные, безлюдные… В темных нишах — тени… Стук подошв по каменным плитам… И наконец — двери в «обрамлении» безмолвных грозных императорских гвардейцев.
— Стой, — негромко скомандовал командир этериотов. Шепнул одному из стражей. Звякнул колокольчик. Будто из ниоткуда, бесшумно, возник евнух.
— Следуй за мной, светлейший муж.
Двери отворились. Евнух плюхнулся на пол, сноровисто вполз в помещение.
Сергей уподобляться червю не стал. Вошел, остановился, огляделся… И лишь после этого неторопливо опустился на колено. Всё же перед ним был император Византии. Надо уважить.
В личном кабинете кесарь Василий Второй выглядел куда скромнее, чем на официальном приеме. Одежда из темного пурпура, несколько ниток жемчуга, ни тиары, ни роскошных ожерелий, на пальцах — лишь пара перстней.
Кроме императора в кабинете находилось еще семеро. Два этериота-северянина с каменно-неподвижными лицами и пятеро чиновников. Духарев знал троих: логофета дрома, логофета стратиотиков и друнгария флота.
— Кто ты, человек? — глухим, невыразительным голосом произнес император. — Спафарий Сергий? Или — варвар из свиты архонта русов?
Духарев перевел взгляд с жемчужных нитей на груди василевса на его густо заросшее бородой лицо. Светло-голубые глаза императора были холодны, как мрамор под коленом Сергея.
— Если ты спафарий, — не дожидаясь ответа, проговорил император, — то почему не привествуешь меня как должно? А если ты — варвар, то почему ты здесь?
— Прошу милости величайшего, — произнес Духарев негромко. — Знаю, что спафарию надлежит пасть к ногам Августа, но боюсь, что не смог бы после этого подняться. Годы и раны…
— Я задал вопрос, — тем же невыразительным голосом сказал Василий.
— Я — тот, кто более потребен Божественному, — уклонился от прямого ответа Духарев.
Похоже, во дворце не знают о плавании Богуслава на азиатский берег. Это хорошо. Впрочем, кесарь может отправить Сергея за Кромку и без всякого повода. Он довольно жесток, император Василий Второй.
Но не дурак. Что Духарева насторожило, так это отсутствие холощеного тезки императора — паракимомена Василия. Неужели кесарь решил избавиться от всевластного евнуха?
Император молчал. Теребил заросший черной щетиной подбородок. Думал… Наконец изрек:
— Почему твой варвар-архонт бездействует? Я повелел ему напасть на бунтовщиков! Что же он медлит?
— Он варвар, Божественный, — почтительно проговорил Духарев. — Ему неведома дипломатия. Он желает, чтобы то, что обещали ему послы, было подтверждено и закреплено договором так же, как это делалось ранее.
— Он по-прежнему хочет мою сестру-кесаревну? Я бы предпочел дать ему золото. Два кентинария он уже получил. Я готов добавить еще тридцать.
— Боюсь, что золота будет недостаточно, — вздохнул Духарев.
— Сорок кентинариев.
— Мне ведомо, Божественный, что великий князь Владимир по пути сюда встречался с человеком Варды Фоки.
— Кто это допустил? — глуховатый голос императора теперь походил на рычание.
— Сие мне неведомо. Я был здесь, в столице. Владимир сам сказал мне об этом. И о том, что узурпатор готов заплатить столько же, сколько даст богопомазанный император лишь за то, чтобы Владимир вместе со своими воинами вернулся домой. Позволит ли мне Божественный высказать собственное мнение?
— Говори.
— Империя вот уже сотни лет покупает варваров. И платит им дань. И страдает от их набегов. Сейчас великий князь Владимир — сильнейший из варварских вождей. Дружбы с ним ищут и поклонники Мухаммеда, и император Оттон, и посланцы Ватикана. Все предлагают золото. Все готовы породниться с Владимиром. Но он отказал всем и пришел сюда. С немалым войском. И ждет подтверждения обещаний.
Все предлагают золото. Все готовы породниться с Владимиром. Но он отказал всем и пришел сюда. С немалым войском. И ждет подтверждения обещаний.
— Он их получит, — буркнул император. — Когда покажет, на что он способен.
— Я так ему и передам, — сказал Духарев. — Но, думаю, он не предпримет ничего. Великий князь простодушен, но не глуп. Он понимает: чем сильнее войско бунтовщиков, тем дороже его помощь. Хотя я всё же попробую его уговорить…
— Сделай это, светлейший, и я возвышу тебя!
Духарев покачал головой.
— Не ради такой награды я тружусь, — сказал он.
— Чего же ты хочешь?
— Чтобы Владимир принял Крещение. Он и весь народ его. Я уже немолод, Божественный. Мне есть что оставить детям, но нечего сказать Богу, когда придет мое время. Пусть русы примут учение Христово, и душа моя успокоится.
«Интересно, поверит ли император в мою искренность?» — подумал Духарев.
Должен поверить. Тем более что Сергей говорил чистую правду.
Василий расхохотался. Громко, безудержно, сотрясаясь всем телом.
Духарев замер. Такой реакции он точно не ожидал.
Отсмеявшись и переведя дух, император махнул рукой:
— Иди, светлейший. Сделай, что я сказал, — и я сам стану воспреемником архонта Владимира.
Прежде чем Духарев, сопровождаемый всё теми же этериотами, добрался до выхода, его догнал логофет дрома.
— Ты дурак, спафарий! — пропыхтел он, с трудом переводя дух. — Ты мог бы стать магистром, спасителем империи!
— Обойдусь, — проворчал Духарев. — Один магистр и спаситель империи уже стоит лагерем на азиатском берегу Босфора. Так что я предпочту остаться простым меченосцем.
— Ты был на волосок от того, чтобы остаться без головы. Или языка. Да и я с тобой заодно!
— Однако наши головы — при нас. И языки — тоже.
— Так используй свой язык, чтобы уговорить архонта русов напасть на мятежников! Или пожалеешь, что не умер этой ночью!
Духарев остановился и развернулся так резко, что евнух налетел на него и мячиком отскочил назад.
— Ты мне угрожаешь, логофет?
— Упаси Бог! — К чести евнуха, он совсем не испугался нависшего над ним Духарева. Хотя наиболее вероятной причиной бесстрашия логофета был панический страх угодить под императорскую раздачу. — Мы с тобой — в одной хеландии! Так что пойдем ко дну вместе!
— Кстати, о хеландиях, — сказал Сергей. — Позаботься о том, чтобы их было достаточно, если я всё-таки уговорю Владимира ввязаться в драку.
Глава девятая. Битва при Хрисополе
Транспортные суда подогнали вовремя.
«Принимал» их Духарев. Он же и занялся погрузкой.
Сам Сергей на ту сторону не собирался и большую часть своей дружины, три большие сотни, отдал сыну. В дополнение к четырем сотням, что поручил Богуславу великий князь.
В полной темноте (луна как раз спряталась за тучки) шеститысячное войско русов загружалось на хеландии. Вместе с лошадьми и амуницией, но без обычных припасов. Завтракать предполагалось за счет противника.
Войско Владимира было заранее поделено на три части:
ударную латную конницу, которой под личным водительством великого князя командовали воеводы Претич и Путята;
конницу легкую, состоявшую из хузар, возглавляемых Йонахом, сыном Машега, и разноплеменных степняков, предводительствуемых собственными ханами, над которыми был поставлен воевода Варяжко;
пешее войско, состоявщее, главным образом, из скандинавов. Этими рулил ярл Сигурд.
Еще имелся полутысячный авангардный полк, задачей которого был целевой удар по вражескому штабу.
Полк был отдан под начало Богуславу, который лучше всех ориентировался на местности.
Самой опасной частью операции было десантирование на азиатском берегу. Флот мятежников мог запросто уничтожить пересекающую Босфор армию.
Обошлось. Боевые корабли мятежников «отдыхали» у пирсов.
Сначала на берег высадилась «пехота». Скандинавы Сигурда. Высадились, рассредоточились, заняли «плацдарм», выставили дозоры…
Выгрузка остального войска заняла почти час. Свести по сходням, в полной темноте, несколько тысяч коней — задача серьезная. Впрочем, и кони были — серьезные. Послушные, обученные, боевые. Да и воины тоже элитные. Никакого ополчения. Исключительно профи.
По самым оптимистическим прикидкам, шеститысячной армии Владимира противостояло не менее пятнадцати тысяч мятежных ромеев. Эти тоже были не лыком шиты, а каленым железом. Прошли суровую школу азиатских войн. Многие и со своими братьями-ромеями успели порубиться во время Склирова мятежа. Часть — на стороне бунтовщика, часть — на стороне «законного правительства». Словом, даже пехота знала толк в сече. А уж три тысячи конницы, из которых почти треть — латные катафракты-стратиоты, могли создать русам очень серьезные проблемы. Немногочисленные Святославовы ветераны, присутствовавшие в армии Владимира, весьма уважительно отзывались о боевых качествах ромейских катафрактов.
Вдобавок стоял передовой отряд войска Варды не в чистом поле, а внутри хорошо укрепленного лагеря на Хрисопольском холме.
То есть предполагалось, что мятежное войско укрылось от нападения в лагере. На самом же деле всё было не совсем так…
Высадка закончилась. Шеститысячное войско русов встало на азиатском берегу в ожидании…
Но Владимир не торопился. Понимал: бросить воев на сильного, укрепленного противника — гибель. Даже если русы сумеют победить, от крепкой дружины мало что останется. Надо полагать, именно этого и добиваются коварные ромеи. Их обычная повадка: подкупом или обманом заставить своих недругов сцепиться меж собой, а потом добить проигравшего. Или, в лучшем случае, попросту отказаться от прежних обязательств. То, что обещано сильному союзнику, совсем не обязательно отдавать слабому. Пусть радуется, что остался жив. Ромеи любят покупать чужую кровь. Обращать имперское золото в мертвых воев. Удобный обмен, ведь золото потом вернется обратно, а вои — нет.
Вот почему Владимир сейчас здесь, на ромейской земле. Сам. Чтоб любому было понятно: великий князь киевский не торгует кровью своих воинов. За золото, которое будет взято здесь, на земле империи, будет заплачено не кровью руси, а добрым русским железом.[46]
Вывод: атаковать сходу нельзя. Сначала надо понять, как добиться цели с наименьшими потерями. Или вообще отказаться от прямой атаки, если за нее придется заплатить слишком дорого.
— Претич, Путята! — кликнул Владимир своих главных воевод, а когда они оказались рядом, распорядился: — Гриди — вздеть брони и приготовиться. И — тихо! Сигурд! Ты, ярл, позаботься, чтобы о нас не проведал ни один ромей. Они не должны найти нас раньше, чем их найдут наши стрелы.
Норманский ярл кивнул. Зачистить территорию и проследить, чтобы поблизости от войска не было лишних глаз, — несложная задача для викингов, чьей излюбленной формой нападения является внезапная атака.
— Ждите, — велел воеводам великий князь. — Богуслав! Ты побывал здесь прошлой ночью. Дай и мне оглядеться. Хочу понять, с какой стороны удобнее кушать кабанчика.
Во время своего вчерашнего визита Богуслав успел увидеть не так уж много, да и то, главным образом, внутри укрепленного лагеря.
Но особого знания местности и не потребовалось. Владимир, Богуслав и сопровождавший их большой десяток ближних княжьих гридней нашли подходящий холм к западу от укрепления мятежников, спешились, взобрались на лысую макушку и весь вражеский стан оказался — как на ладони.
Место мятежники выбрали грамотно. На Хрисопольском холме было возведено весьма серьезное (учитывая затраченное на строительство время) укрепление, господствующее над окрестностями и способное выдержать атаку не то что шести тысяч Владимира, но и втрое большей армии. Крепкий военный лагерь, с добротной оградой и четырьмя охраняемыми воротами. С наскока, без осадных машин, даже без лестниц, такой не возьмешь.
Однако далеко не всё войско мятежников укрылось за стенами. Судя по количеству огней, самое меньшее, тысяч пять ромеев расположилось снаружи. Расположилось вольготно и безбоязненно, будто охотники на знакомом лугу после удачного полеванья.
Множество костров, разведенных где заблагорассудится. Там же — множество людей, явно бездоспешных. Может — расслабившиеся от сознания собственной силы воины. Но скорее всего — прибившийся к войску сброд: торгаши, девки и бродяги… С такого расстояния не разберешь. Но и без того понятно: дисциплина в этом полевом стане — не на высоте.
— Свободно стоят, — пробормотал Владимир. — Не боятся.
— А кого им бояться? — сказал Богуслав. — Император Василий — по ту сторону пролива за константинопольскими стенами прячется, а этот берег — целиком ихний. На дорогах заставы — вот и вся охрана.
— Гляди-ка, — отметил Владимир. — А ворота с закатной стороны — нараспашку. Возы какие-то принимают. И еще по дороге катят… Эх, хороши дороги у ромеев, — не без зависти, проговорил великий князь. — По таким дорогам не ходить — летать можно.
— Вот мы и полетим, — усмехнулся Богуслав. — Порушим им праздник.
— Думаешь, они там празднуют? И что же?
— Победу, — хмыкнул Богуслав. — Кабы не мы — конец пришел бы василевсу Василию. Войско у мятежников крепкое, сами они — люди умудренные. А наш император чем «прославился»? Тем, что булгарами бит был беспощадно и удирал от них, как заяц, бросив войско, обоз и даже собственный шатер со всем содержимым. Да его вои здешние и в грош не ценят. Многие небось еще под рукой Иоанна Цимисхия воевали. Помнят, как падали пред ним булгарские города. А ведь там и наши были, русы отца твоего.
— Цимисхий — великий был воитель, — согласился Владимир. — Удачливому воеводе и дружина добрая. И Варда Фока, слыхал я, воевода добрый. Но пока ворог жив — победу праздновать рановато. Как думаешь, Серегеич: хорошую добычу на этом лагере возьмем?
— Давай, княже, сначала лагерь возьмем. Сам же сказал только что: сначала ворога разбить, а потом будем победу праздновать.
— Тогда так, — решил Владимир. — Главный табун у них с восхода пасется. Его Понятке поручу и степнякам его. А к восходным воротом Сигурдовы нурманы подберутся скрытно. Если не возьмут, то наружу уж точно никого не выпустят и башни деревянные подожгут — это дело нехитрое. К тому же часть воев, что в лагере остались, они точно на себя подманят…
— А мы с восхода прямо по дороге и ударим! — подхватил Богуслав. — Ворота закрыть они точно не успеют. Пока сообразят, пока возы уберут…
— Не мы, а ты! — перебил воеводу Владимир. — Возьмешь свои семь сотен, хузар Йонаховых и налетишь. Захватишь ворота, а если внутрь прорвешься, совсем хорошо. Чаю, за стенами вряд ли ромеи в бронях тебя ждать будут. А как выбегут навстречу в одних рубахах, тут-то хузары их стрелами и побьют. Войдешь тогда в лагерь, как рогатина в сало.
— Вряд ли — в рубахах, — усомнился Богуслав. — Это совсем уж дураками надо быть, чтобы хоть сотни две в готовности не держать.
— Вряд ли — в рубахах, — усомнился Богуслав. — Это совсем уж дураками надо быть, чтобы хоть сотни две в готовности не держать. Вчера я тоже среди ночи приехал, а вокруг главного шатра збройных ромеев было немало.
— Ты, главное, ворота удержи, — попросил Владимир. — Одной своей силой тебе со всем ромейским воинством биться не придется. Подмогнем. Но сначала мы по открытому стану пройдемся. Стопчем этих, беспечных, чтоб потом в спину не ударили. А ты — не торопись. Как рог мой услышишь, отсчитай сто ударов сердца — и начинай. А тем временем их Понятко с восхода попугает и коней отобьет, да нурманы Сигурдовы поднапрут. Возьмем ромеев в кулак — раздавим, как яичко куриное. А теперь — уходим.
Ночь коротка, а нам еще победить надо и кулеш на завтрак сварить!
Великий князь махнул гриди, и русы двинулись к лошадям.
* * *- Хорошая дорога, — похвалил Йонах. — Только узковата.
— Да уж, не Дикое Поле, — согласился Богуслав. — Так что ты часть своих на тот склон определи. С него и ворота — как на блюде, и через огорожу навесом стрелы метать можно.
— Годная мысль, — согласился Йонах. — Бить-то вверх придется, но со ста шагов — ничего.
Йонах кликнул двух сотников, и двести хузар, спешившись и оставив коней внизу, полезли на склон.
Формально хузарский вождь Йонах не подчинялся Богуславу. Он и годами старше, и воев при нем — больше. Но какие счеты — между родичами? Тем более, если совет — дельный.
Прошло еще какое-то время, и издалека донесся лихой посвист, пронзительный визг печенегов, а потом еще более пронзительные вопли тех, кого степняки застали врасплох.
Понятковы степные ханы закрутили карусель.
Богуславу было нетрудно представить, что сейчас происходит на восточном краю беспечного стана.
Градом сыплются стрелы, падают наземь, а то и прямо в костры едва проснувшиеся бездоспешные ромеи. Лучшие пытаются дать отпор: мечут стрелы, пращные шары в мельтешащие тени…
Но это — поначалу. Народ у мятежников — опытный. Так что можно не сомневаться: командиры уже строят похватавших щиты и оружие бойцов, собирают в плотный строй, которому урон от стрельбы — несравненно меньший.
Затем старшие вспомнят, что у них тоже есть конница. Кинутся к табунам…
А тех уже и нет! Только слышен топот угоняемых степняками коней, а навстречу ромеям — стрелы, стрелы…
Перекрывая прочие звуки, мощно взревел легко узнаваемый русами рог великого князя.
Богуслав начал счет…
Как дальше развиваются события в ромейском стане, он тоже легко мог представить.
Задрожала земля под ногами ромейской пехоты от тысяч копыт берущей разбег тяжелой конницы. Ромеям эта страшная дрожь наверняка знакома. И то, что вокруг — ночная тьма, храбрости пешцам не прибавляет. Однако если народ опытный, то с места не сойдут и строй не порушат. Упрутся пятками копий в землю, сомкнут щиты… Главное при конном ударе — выстоять. Не поддаться, не побежать, подставляя под клинки всадников беззащитные затылки. Принять железо в железо, остановить сокрушающий разбег — и всё. Латная конница сильна разгоном, накатом… Остановятся, увязнут, и спешить всадников — дело нехитрое. Ноги коням подрубить, а то и самим всадникам жилы подрезать. Пешцу в тесноте снизу удобнее бить, чем конному — с седла. А если пешцов в разы больше…
Но сейчас ромеев атакуют не ромейские же катафракты, а русы. Поэтому прежде копий на строй мятежников обрушиваются стрелы.
Это и против загодя построенных шеренг хорошо, а уж когда в суматохе, в беспорядке, на еще не сбитый, а кое-как собранный строй…
Богуслав слушал знакомые звуки боя и будто воочию видел происходящее.
Как привстают на стременах княжьи гридни, кидая стрелы в суматошно перестраивающихся ромеев. Как выносит, выбивает из единого строя оперенная смерть замерших в ожидании щитоносцев…
Богуслав не дождался страшного звука, с которым сшибаются воинства. Его счет кончился раньше.
Сдернут с пояса рог. Низким ревом уходит в звездное небо любый сердцу сигнал: «Гридь! Бей!»
Хороша ромейская дорога.
Но скачка Богуславовых сотен начинается не по ней. Гридь скачет по обочинам, мимо возов, на которых окоченели от ужаса ромейские смерды, — к приглашающе распахнутым воротам, где ярко горят факелы и оружные вои слепо вглядываются в ночь и напряженно прислушиваются к тому, что происходит на севере и на востоке от укрепления. Они еще не поняли, не уяснили, что стальная смерть добралась-таки и до них.
Ох и любо же лететь сквозь ночь на злом боевом жеребце, слыша, как грохочут позади верные сотни, видя краем глаза, как сверкают слева и справа наконечники копий…
Богуславова гридь стрел не метала. Зачем, если рядом — хузары?
Миг — и дозорные мятежники на привратных башнях стали мертвыми мятежниками.
Миг — и попадали наземь в створе ворот выскочившие навстречу опасности ромеи.
Миг — и повалились, прошитые стрелами, сторожа, попытавшиеся убрать из створа тяжелый воз, мешавший закрыть ворота.
Несколько стрел попало в упряжных быков, и разъяренные животные рванулись внутрь крепости, мимо шарахнувшихся в стороны ромеев.
Теперь ворота можно было закрыть. Можно — но поздно.
Должно быть, командир привратной стражи тоже это понял. Закричал, засвистел, и выстроилась поперек дороги тройная линия щитоносцев.
Малую кровавую дань с них тут же взяли летевшие навесом хузарские стрелы, но строй устоял. И решительно принял в копья таранный удар конных русов.
Выстоять против разогнавшейся конной гриди пехота мятежников не могла, но сдержать сумела. Сплотившийся, колено к колену, строй русов не вынес щитоносцев с ходу. Пришлось продавливать массой, с грохотом, лязгом, яростными криками. Ноги пехотинцев скользили по облитым кровью камням, бились и ржали раненые кони. В мелькании факелов, красных отблесках огня на боевом железе, в вони, боли и страхе погибала под ударами копий, стрел и мечей мятежная пехота. Но дело свое исполнила. Приняла на себя главный удар и поглотила разбег гридней. Так что две конные волны, русская и, подоспевшая, ромейская, сошлись друг с другом едва ли не шагом.
Латная ромейская конница — лучшая и в Азии, и в Европе. В броне с ног до головы, поножи, перчатки и наручи с металлическими бляхами, поверх панциря — плащ, заметно смягчающий рубящий удар, большой щит, войлочно-металлическая защита для лошадей… Также выучка, выездка… Словом, страшный противник. Если в открытом поле, да с разгону — две сотни катафрактов стоят тысячи других латников.
Сейчас разгона не получилось. Однако те, с кем столкнулись передовые гридни Богуславова воинства, были уже готовы к бою: оружны, доспешны. Успели.
Железко увязло в толстой воловьей коже, и Богуслав выпустил копье из рук. Однако и длинное копье катафракта его не задело. Чиркнуло по щиту, почти не отклонившись, и прободило доспех отставшего на корпус дружинника.
В следующий миг Богуслава и катафракта бросило друг на друга, сдавив ноги конскими боками. Ромею было легче — поножь помогла. Богуслав в азарте боли не ощутил. Рванул из ножен саблю, хлестнул наотмашь. Клинок легко снес край щита, плащ, но по панцирю лишь бессильно скрежетнул. Мгновение — и кони руса, ромея разошлись, Богуслав увидел стремительно увеличивающийся стальной наконечник, целящий прямо в глаз… Еле успел припасть к конской холке, прирываясь щитом… Очень правильно. Ромей тоже сместил удар вниз — древко прошло меж ушами Богуславова жеребца, но, подбитое железной щитной оковкой, вновь прыгнуло вверх, на пол-ладони выше Богуславова шлема.
Зато сабля Серегеича свое нашла. Полоснула снизу, вдоль ноги ромея — и тут поножь уже не спасла.
…Удар меча с грохотом обрушился на щит, неприятно отдавшись в руке. Богуслав не успел увидеть ударившего. Толчея боя унесла его еще на два лошадиных корпуса вперед — на нового противника. Но сойтись они не успели. Ромей вдруг запрокинулся назад — черенок стрелы вырос в глазной прорези.
— Пер-рун! — взревел Богуслав и обрушил саблю на тыльник другого ромея. Вроде просек… Но результат увидеть не успел. Ромейское копье зацепило прикрывший левый бок щит. Деревянная основа хрустнула, щит вырвало (не выпустил бы — остался без руки), и тут же прилетел удар мечом. К счастью — касательный, не вскрывший панциря…
Богуслав ответить не смог. Но один из гридней принял ворога на копье, да так мощно, что и без разгона пробил и бронь, и поддоспешник…
Гридень выпустил увязшее копье, выхватил меч и послал коня меж двух ромейских, один из которых только что потерял всадника, а другой вдруг вскинулся на дыбы, лупанул копытом по ощерившейся морде гриднева жеребца… И получил в шею предназначенный Богуславу копейный тычок…
Эх, не к таким конным схваткам привык сын воеводы Серегея. К степному простору привык, к стремительной скачке, к мгновенной сшибке… А тут — толчея, как в пешей рукопашной, когда вокруг тесно от своих и чужих, и засапожник, бывает, опаснее длинного меча…
Впрочем, и врагам было так же неудобно. Копье, главная сила катафрактов, без таранного разгона броню берет плохо.
Тут Богуславов жеребец окончательно увяз. Ни вперед, ни назад. Вокруг — злобные вражьи кони… Один — без седока, на двух других — побитые, до третьего — не дотянуться… Хотя…
Духарев вбросил саблю в ножны, вытянул из чехла лук, одновременно, шуйцей, сбрасывая крышку колчана…
Звонко щелкнула тетива — и ромей опрокинулся, получив с пяти шагов стрелу пониже подбородка.
Богуслав привстал на стременах, рванул тетиву за ухо — и еще один враг схлопотал граненый наконечник в кольчужную завесу шлема…
И тут же сам Богуслав схлопотал стрелу в грудь. Аккурат в зерцало. Доспех выдержал. На стременах Богуслав тоже устоял, но четвертый выстрел ушел в небо…
Впрочем, это было уже неважно. Гридь продавила пробку из неполной сотни (численность выяснилась позже) катафрактов и ворвалась в лагерь.
Богуслав вернул лук в налуч, вырвал у катафракта, поймавшего шеей стрелу, ромейский щит (больше и тяжелее привычного, но лучше, чем никакого), дунул в рог («За мной!»), выхватил саблю и послал коня по прямой меж палатками туда, где прошлой ночью пировал с вождями мятежников…
Чтобы опять нарваться на катафрактов. И на сей раз увязнуть окончательно.
Схватившиеся русы и ромеи опрокинули здоровенную палатку и дрались уже на ней. Рядом что-то горело, наполняя воздух дерущим горло чадом. Богуслав слышал, как что-то хрустело и трещало под копытами жеребца, но смотреть вниз было некогда. Он бился сразу на обе стороны, с двумя ромеями, один из которых орудовал короткой булавой, а второй норовил треснуть щитом, потому что иного оружия у мятежника уже не осталось. Но убил ромеев не Богуслав. Одному разрубил тыльник прорвавшийся к воеводе гридень, а второго, с булавой, отправила к праотцам прошившая кольчужную сетку и ударившая в горло стрела.
Богуслав оглянулся и увидел шагах в тридцати вскочившего ногами на седло хузарина, уже наложившего на тетиву новую стрелу…
Тут, едва ли не прямо из-под копыт Богуславова коня, взметнулось пламя — и воеводе понадобились все его силы, чтобы удержать жеребца в повиновении.
К счастью, огонь дальше не пошел — пожрал сваленную палатку и унялся. Зато испуганные пламенем лошади катафрактов раздались в стороны, и Богуславу удалось вырваться из тесноты.
Зато испуганные пламенем лошади катафрактов раздались в стороны, и Богуславу удалось вырваться из тесноты.
Вперед, вперед! Сопровождаемый неполной сотней прорвавшихся гридней, воевода поскакал по просторной, сажени три в ширину, улице, больше не встречая организованного сопротивления, и вскоре оказался в самом сердце лагеря — перед здоровенным шатром, где прошлой ночью его угощали предводители мятежников.
Здесь было жарко. Было, потому что сейчас на поле боя остались только трупы. Ромеев и нурманов. Нурманы, впрочем, наличествовали и в живом виде. Бойцы Сигурда занимались любимым делом — грабежом.
Богуслав заступил конем дорогу одному из скандинавов, и тот охотно сообщил, что тысячи две ромеев прорвались через заслон и ушли через восточные ворота.
— А что делать? — философски завершил нурман. — Их много, а мы — одни.
И начал стаскивать панцирь с мертвого катафракта.
Нет, мятежники не ушли. Не получилось. Коса напоролась даже не на камень. На скалу. С предсказуемым результатом.
Главная заслуга в этой блестящей победе, безусловно, принадлежала Владимиру.
Именно его гридь, сокрушив многократно превосходящего врага, разметав линии пехоты, заставила мятежников обратиться в бегство. Разбегавшихся преследовала, била и секла легкая конница, вдесятеро уступавшая числом, но, чтобы это понять, ромеям надо было хотя бы оглянуться.
Однако паническое бегство — не отступление в боевом порядке. Тут каждый — сам за себя. Знай перебирай ногами, втягивая голову в плечи, слыша за спиной нарастающий конский топот и молясь: «Не меня, Господи! Только не меня!..»
Мятежников погубила собственная беспечность и внезапность ночного нападения. Не то чтобы ночная война была ромеям в новинку. Дядя главного мятежника, император Никифор Фока, активно внедрял в практику этот самый прием. Он вообще был реформатор, василевс Никифор, император-полководец, коварно убитый своим «наследником», тоже великим полководцем Иоанном Цимисхием. Но одно дело, когда ты сам атакуешь растерявшегося врага, а другое — когда просыпаешься от грохота битвы и воплей своих гибнущих солдат… И понятия не имеешь, что происходит.
Паника — страшная штука. За стенами лагеря ромеи могли бы хоть месяц обороняться против всего императорского войска. Даже без тех бойцов, что ночевали снаружи, воинство Никифора и Калокира запросто удержало бы свой укрепленный лагерь. Достаточно было отстоять ворота.
Но оба военачальника мятежников почему-то не подумали об обороне. Видно, крепкие стены лагеря показались им ловушкой и оба в первую очередь думали не о битве, а о собственном спасении. Может, в этом была виновата слепота Никифора Фоки, а у Калокира недостало харизмы, чтобы взять ситуацию под контроль?
Так или иначе, но оба командира бросились наутек почти одновременно.
Один — через западные ворота… Где и напоролся на гридь Богуслава, другой, со значительно большей боевой силой, — через восточные.
Прорваться через дружинников Богуслава Никифору Фоке не удалось.
Его телохранителей разбросали и побили, а сам Никифор Фока был взят в плен даже не гриднем — безусым отроком, на которого конь вынес слепца.
Патрикий Калокир, задержавшийся чуть дольше и сумевший собрать достаточно мощный кулак из катафрактов и лучшей пехоты, прорвал заслон нурманов, вырвался на оперативный простор… Чтобы оказаться на пути удирающих от Владимира своих собственных бойцов.
Калокир всё равно сумел прорваться, правда потеряв при этом три четверти конницы и всю пехоту, но тут удача окончательно изменила патрикию, направив аккурат на степняков Варяжки.
Остановить латную конницу печенегам было не по зубам, но придержать — запросто.
Пока мятежники соображали, кто перед ними, время было упущено.
Во фланг Калокиру ударила тысяча Претича.
Во фланг Калокиру ударила тысяча Претича.
И битва закончилась. Зажатый превосходящими силами русов патрикий сообразил, что поражение неизбежно, и сдался на милость победителя.
Как выяснилось позже — зря.
Ранним утром на азиатский берег Босфора переправился Автократор Василий Второй с полутора тысячами конницы и двумя с половиной тысячами этериотов. Пожинать плоды победы.
Василий отлично выспался и сейчас сиял здоровьем и радостью.
Владимир тоже выглядел неплохо, хотя, в отличие от повелителя ромеев, провел ночь не в личных покоях, а в трудах ратных.
Автократор Византии и архонт русов уединились (если можно так назвать встречу, где присутствовало не менее пятидесяти доверенных людей с той и с другой стороны) и впервые пообщались по-человечески.
Василий искренне поздравил Владимира с победой. И главное, подтвердил все условия договора, включая и женитьбу на своей сестре Анне. Он также объявил, что намерен лично приобщить вождя русов к христианским таинствам и сделать это немедленно по возвращении в Константинополь.
После этой короткой, но содержательной речи император Византии одарил всех присутствующих грозным взглядом: надеюсь, никто не станет возражать?
Никто не рискнул.
Владимир был вполне удовлетворен, потому что полагал, что получил желаемое — багрянородную невесту. Что же до крещения, то присоединить еще одного бога к общему списку он и ранее был готов.
Возражения были у Патриарха: поспешное крещение дикого варвара было грубым нарушением процедуры. Сначала следовало подготовить дикаря, разъяснить смысл будущего Таинства, наставить и направить на Путь Истинный…
У Патриарха было два пути: либо подчиниться решению Автократора, либо попытаться настаивать на своем… что вполне могло закончиться «назначением» нового, более покладистого главы Восточно-Римской церкви. Первый путь показался ему более правильным.
Само собой, все отличившиеся получили награды. Богуславу, предотвратившему бегство Никифора Фоки, достались шитый золотой и серебряной канителью плащ и драгоценная чаша с гравировкой на темы Святого Писания… полная до краев номисмами новой чеканки. Номисмы эти были чуток полегче, чем монеты предшественников императора Никифора Фоки, но в данном случае это не имело значения — их и в чашу поместилось больше.
Плененные мятежники тоже были «достойно вознаграждены».
Слепого Никифора заковали в кандалы, патрикия Калокира Дельфина посадили на кол, сложив у ног головы его офицеров: друнгариев, комитов, кентархов… Впрочем, надетый на кол патрикий вряд ли мог адекватно воспринимать происходящее, так как безостановочно кричал от нестерпимой боли.
«Лучше бы ему пасть в бою», — подумал Богуслав.
Жестокость Василия по отношению к сдавшемуся врагу была сыну воеводы Серегея отвратительна.
Зато император пощадил жителей Хрисополя.
И тех воинов мятежных тагм[47], которые присягнули ему на верность.
Присягнули все, кто не сумел удрать. Уж слишком неприятна была альтернатива.
Глава десятая
Константинополь. Святая София
На сей раз великий князь Владимир въезжал в Константинополь не сомнительным союзником-варваром, а триумфатором. С вооруженной свитой из двухсот гридней, с императорскими глашатаями, которые то и дело вопили по-ромейски: вот едет, дескать, грозный архонт русов, полководец Богопочитаемого Василия Второго, Автократора, победителя Фоки.
Причем ни слова вранья. Разве не является император источником всех побед своих военачальников? Разве не был некий Фока пленен, закован и препровожден в темницу? А то, что это не Варда, а всего лишь его слепой родич Никифор, — это мелочи.
Владимир направлялся на ипподром, где в честь недавней победы император объявил открытие внеочередного праздника.
Чернь, само собой, ликовала. Хлеба и зрелищ! Вот ее главные желания.
Хлеба и зрелищ! Вот ее главные желания. Зрелища обещаны, цены на хлеб упали вдвое. Великого князя приветствовали пылко и искренне.
На площади Августеон Владимир придержал коня.
Духарев, ехавший рядом, вопросительно взглянул на великого князя.
— Дом твоего бога, — Владимир задумчиво взирал на главный храм империи. — Скажи, это настоящее золото — на его кровле?
Храм Святой Софии был возведен в типичной для Византии манере — крестом. Главный купол, венчавший основательое, широко раскинувшееся храмовое строение, сиял драгоценнейшим из металлов.
— Думаю, да, — ответил Сергей.
— Любят ромеи своего бога, — заявил Владимир. — Ничего для него не жалеют. Видно, он и впрямь силен.
— Не хочешь войти внутрь?
Сказать по правде, внешний вид Святой Софии Духарева никогда не приводил в восторг. Снаружи храм казался громоздким, тяжеловесным…
Тем сильнее был контраст, когда ты оказывался внутри.
— Что ж, войдем, — согласился Владимир и движением колен направил коня к ступеням храма.
Народу у Святой Софии было немного. Почти все константинопольские бездельники сосредоточились на противоположной стороне площади — у ипподрома.
Князь спешился, жестом велел гриди оставаться снаружи и взбежал по лестнице, проигнорировав потянувшихся к нему попрошаек.
Духарев поднялся далеко не так проворно, по пути бросив побирушкам горсть медяшек, припасенную именно на такой случай, сдернул с головы шлем…
Когда Духарев оказался в притворе, Владимир уже вошел в центральный корабль[48] храма.
Вошел и замер.
Создатели Святой Софии были величайшими зодчими. Верно, творили по Божьему Замыслу. Ничем иным невозможно было объяснить это чудо: потрясающий, грандиозный купол, парящий на огромной высоте. Создавалось полное ощущение, что многочисленные колонны, поднимавшиеся вверх двумя ярусами, не поддерживают наполненный светом купол, а удерживают его, не давая взлететь. Ощущение это еще более усиливалось великолепными арками, наводящими на мысль о вздуваемых ветром парусах.
Каждый раз, входя в этот храм, Духарев испытывал чудесное воодушевление. Словно он вступал не внутрь здания, а наоборот, из мира очерченных пределов оказывался в ином, чистом, прозрачном, бесконечном. Казалось совершенно невероятным, что внутри пусть и немаленького храма таится такое воистину бесконечное пространство.
— Этот дом Бога совсем не похож на те, что строила моя бабка Ольга, — негромко проговорил Владимир. Он запрокинул голову, разглядывая будто парящий в небесной высоте… И пошатнулся.
Духарев едва успел поддержать его:
— Княже!
Мелькнула паническая мысль: «Отравили!»
— Воевода… — Голос великого князя был еле слышен, зато пальцы впились железной хваткой сомкнулись на предплечье Духарева. — Ты видишь это?
— Что? — не на шутку встревожился Сергей.
— Небеса…
Духарев вновь глянул на великолепный купол Святой Софии, пронизанный светом, проникавшим сквозь бесчисленные окна.
— Небо? — Сергею было трудно сосредоточиться на красоте собора. «Неужели яд? Но зачем? Ведь Варда еще не разбит?»
— Небеса! — Голос Владимира обрел твердость. — Ирий! Ты видишь его?
Духарев молчал, в замешательстве, не зная, что сказать…
Стальные клещи разжались, освободив руку Сергея.
— Мне показалось, — произнес Владимир едва слышно, продолжая глядеть вверх, — что я умер. И оказался в Ирии…
Духарев вздохнул с облегчением. Слава тебе, Господи! Всё хорошо! Это не яд. Это Святая София. И ничего удивительного.
И ничего удивительного. Если он сам, входя под своды храма, испытывает благоговение и восторг, то какой силы воздействие это чудо христианского зодчества оказывает на неподготовленного человека?
— Ирий… — прошептал Владимир. — Он там, я его вижу… Но я жив. И стою на твердой земле… А Ирий, Небеса, куда человек может вознестись лишь после смерти, они здесь. Здесь! — Голос великого князя вновь обрел твердость. И заставил Духарева вздрогнуть, потому что в голосе этом звучала почти нестерпимая боль.
Сергей совсем растерялся. Он не понимал, что происходит. На глаза попался храмовый служка, тщедушное существо в монашеской рясе. Служка глядел на русов, выпучив глаза, и быстро-быстро крестился.
Владимир справился. Выпрямился, расстегнул подбородочный ремень, стянул с бритой головы подбитый войлоком шлем:
— Это и есть настоящий дом твоего бога? Христа?
— Это дом Бога Единого, — сказал Духарев, не вдумываясь в то, что говорит. — И Сына Его Иисуса, и Духа Святого…
— Ты видишь! — уверенно произнес Владимир. Его взгляд, острый взгляд степной хищной птицы, пронзал бесконечное пространство меж колонн, упираясь в темное золото иконостаса. — Ты знаешь! Ты говорил мне… Другие тоже… Я не верил! Помнишь, я сказал тебе, что мне душно в тех домах бога, что стояли в Киеве? Я говорил тебе: мне любы те боги, чьи стены — дубрава, а потолок — синее небо? Ты помнишь?
Духарев почувствовал, как качнулись вокруг него арочные проемы Святой Софии. Не Владимир говорил ему эти слова, а отец его, Святослав!
Привиделось: не сын стоит рядом с Сергеем, а отец. Величайший из людей, которых знал Духарев. Безвременно погибший Святослав Игоревич…
И опять качнулись великолепные колонны, обращаясь в подобие чудесных мраморных стволов, и показалось ему, что не купол над ним, а Царствие Небесное, и не лик Божий, грозный и всеведущий, глядит на него, а сам Господь…
Трудно сказать, сколько времени они стояли так…
Но когда Духарев очнулся, то обнаружил, что слезы бегут по его щекам, а вокруг собралась небольшая толпа византийцев и все они смотрят на них в глубоком изумлении. Но никто не решается потревожить.
Духарев поспешно перекрестился и тронул плечо Владимира:
— Княже…
Владимир резко стряхнул его руку, развернулся стремительно, будто — в бою, и скорым шагом вышел, нет — выскочил из храма.
Духарев выбежал за ним, слыша за спиной ропот…
И тут же, как и князь, оказался в окружении встревоженных гридней.
— Коня! — бросил Владимир.
— Княже! Что ты…
— Это твой бог! — резко произнес великий князь. — И он не принял меня! Он вошел вот сюда, — кулак Владимира с силой ударил в зерцало брони. — И отринул. Не принял! — воскликнул князь с гневной обидой. — Я ему — чужой! — Владимир заскрипел, нет, заскрежетал зубами, сжал кулаки, глянул на золотые купола, яростно, с вызовом. Властный, прямой, сросшийся с конем античный кентавр…
— Значит, так тому и быть! — рыкнул князь и точным движением вернул на голову шлем.
— Ты откажешься? Не примешь крещения? — дрогнувшим голосом проговорил Сергей.
Если Владимир сдаст назад, тем более после того, как император сам пожелал стать его крестным отцом, — то всё. Конец…
— Ты смеешься надо мной, воевода? — Владимир наклонился, движением колен удержав едва не взявшего в рысь коня. Заглянул Сергею в глаза, угадал, что тот говорит серьезно, и произнес почти шепотом: — Откажусь? После того, что я видел…
И тут же выпрямился, глянул на Духарева сверху, бросил:
— Только не говори, что не знал, что будет, когда привел меня сюда, ты… ведун!
И движением колен бросил коня вперед, вон из круга ничего не понимающих, но готовых выполнить любой приказ дружинников, и погнал жеребца к Триумфальной арке, сквозь поспешно расступившуюся толпу ромеев.
Однако на ипподром они все-таки пришли. Заняли почетную ложу, отведенную им по распоряжению императора. Великий князь Владимир, воеводы Претич и Путята, Сигурд, Богуслав, Духарев и еще двадцать воев из старшей гриди.
Выслушали приветственную речь императора, повторенную глашатаями, усиленную замечательной акустикой ипподрома. Пронаблюдали все номера шоу, включая и главный: состязания колесниц.
Победили «зеленые», на которых обычно и ставил Духарев. Но сейчас ему было не до ставок. Сергей пытался осмыслить то, что произошло в храме. С ним, и с князем. То, что, похоже, было кристалльно ясно для Владимира… И совершенно невнятно — для «ведуна» Духарева. Что-то, несомненно, произошло. Что-то, имеющее важнейшее значение для будущего и Сергея, и великого князя, и всей Руси…
Но как это понять, и главное, что теперь делать, Духарев уяснить так и не смог. И решил положиться на Бога. Владимир видит цель. И цель эта, безусловно, правильная. Значит, поступим как и подобает воеводе: постараемся поддержать своего князя во всем, что он делает. Главное — Крещение. Всё прочее: сомнения, непонятки — это уже от лукавого…
Глава одиннадцатая. Битва за империю
Азиатский берег Босфора, близ Абидоса
Злая весть о том, что случилось под Хрисополем, дошла до самовольно обувшегося в пурпурные сапоги лучшего полководца империи Варды Фоки через два дня после того, как великий князь Владимир посетил Святую Софию.
Сказать, что бывший доместик схол и магистр империи, а ныне самоназванный ее император разгневался, всё равно что назвать горный поток вешним ручьём.
Огромный, великанам подстать, Варда Фока впал в такую ярость, что только его армянские стражники-этериоты осмелились остаться с ним рядом.
Лучший воин Византии рычал и ревел, будто черногривый африканский лев.
Его можно было понять. Совсем недавно он, непобедимый полководец, принимал знаки покорности от имперских фем, зажав двуличного Василия в тисках своих армий, как лису в норе. И знал, что не позже осени изголодавшаяся чернь, подстрекаемая многочисленными союзниками Варды в столице, восстанет, и Варде останется лишь войти и воссесть на императорский трон, прихлопнув Василия, как обнаглевшего комара.
И единственным вопросом, который пришлось бы тогда решать новому василевсу: оставить ли рядом с собой соправителя Константина или вырвать ему глаза, как это сделали с братом Варды Львом, и выслать в самый дальний из монастырей империи.
Теперь же, после разгрома под Хрисополем, Варда не только лишился значительной части войска, но и подорвал свою репутацию непобедимого, а следовательно — богоизбранного полководца и властителя. Следовало ожидать, что многие отойдут от Варды, предпочтя со стороны наблюдать за схваткой и позже принять сторону победителя. А другие, не поддержавшие Василия лишь потому, что не были уверены в его способности победить Варду Фоку, теперь с готовностью встанут под знамя законного императора.
Значит, времени у Варды — в обрез. И первое, что он должен был сделать, — взять наконец упорно сопротивляющийся Абидос и установить полный контроль над Геллеспонтом[49]. Лев Мелиссин, которому Варда поручил взятие города, надежд не оправдывал. Не исключено, что тоже тянул время. Род Мелиссинов — могущественный и не слишком дружный с Василием. Но и с Вардой они — не более чем временные союзники. Стоит Варде дать слабину — и союзник станет врагом.
Опытнейший полководец Варда был почти уверен, что там, у Абидоса, всё и решится. Если город падет — вскоре падет и Василий. Наверняка враг Варды и сам это понимает. А не понимает — так объяснят. К сожалению, не все достойные военачальники — на стороне Варды. А это означает, что Василий, исполчив все доступные силы, в считаные дни должен переправиться через Геллеспонт и двинуть армию на помощь осажденным. Хорошо бы Варде опередить врага и не дать ему переправиться через пролив.
Если город падет — вскоре падет и Василий. Наверняка враг Варды и сам это понимает. А не понимает — так объяснят. К сожалению, не все достойные военачальники — на стороне Варды. А это означает, что Василий, исполчив все доступные силы, в считаные дни должен переправиться через Геллеспонт и двинуть армию на помощь осажденным. Хорошо бы Варде опередить врага и не дать ему переправиться через пролив. Но еще важнее — захватить Абидос. А уж побить Василия, никчемного полководца, Варда всегда сумеет. Ядро его войска — закаленные в боях ветераны. А лучшие из них — ивиры[50] и грузины[51]. Что может противопоставить им Василий? Столичные тагмы, фемных, кое-как обученных стратиотов?
Однако медлить тоже не стоило, посему самозваный претендент на императорскую должность немедленно скомандовал общий сбор и двинул свое войско к Геллеспонту.
Захватить армию Василия на переправе лидеру мятежников не удалось. Император, пусть и проигравший позорно войну в Болгарии, дураком отнюдь не был. Сборное войско, ядром которого без сомнения являлись русы и состоявшая большей частью из иноземцев императорская гвардия, начали переправу на третий день после победы под Хрисополем. И управились сравнительно быстро: за два дня. Прикрывали десантирующихся боевые дромоны с огненосными орудиями. Однако — не потребовалось. Флот Варды, как стоял под Абидосом, блокируя пролив, так там и остался.
К осажденному городу василевс Василий прибыл на день раньше, чем его мятежный полководец.
Заправлявший осадой Лев Мелиссин повел себя правильно: не отступил, но взять город больше не пытался. Занял глухую оборону.
Вопреки ожиданиям, Автократор Василий не ударил по его армии сходу, а приказал на приличном отдалении разбить лагерь, поставить царский шатер и занялся муштрой. То бишь взялся гонять воинство на предмет отработки совместных действий.
Воеводы русов, которым не терпелось вступить в драку, по этому поводу ворчали, но Владимир, поглядев на маневры императорской фаланги, действия императора одобрил. Слаженности у ромеев было не больше, чем у киевского ополчения. Впрочем, в отличие от ополчения, византийская кавалерия и пехота по большей части состояли из профессиональных воинов, которые могли «сыграться» намного быстрее ополченцев.
А по вечерам василевс приглашал к себе в шатер Владимира и Духарева (последнего — в качестве переводчика, хотя мог бы выбрать толмача и получше) и вел со своим будущим крестником душеспасительные беседы. В основном, о предназначении государя.
Прибывшее вскорости главное войско Варды тоже не полезло в драку с марша. Мятежный полководец взял паузу, чтобы отдышаться, сориентироваться и занять позицию повыгоднее. И занял.
— Государь, — вещал император ромеев, — подобен солнцу для подданных своих. Люди взирают на него и ждут от него милостей, но не им ты должен угождать, архонт, а Господу, который избрал тебя и даровал тебе право царствовать. Пусть случилось сие еще в те времена, когда не знал ты Истинной Веры, но Господь — знал. И уже уготовал тебе великую участь…
«Спасти шкуру Василия Второго», — мысленно комментировал императорский монолог Духарев.
Но Владимир внимал глуховатому голосу василевса вполне благосклонно. Кто стал бы спорить, услышав, что ты — избранный. Ведомый рукой Господа, считай, с самой колыбели.
— Он, Господь наш, поставил тебя, словно город — на горе, чтобы народ, населяющий твою землю, приносил тебе дань и полагался в беде на крепость твоих стен, — говорил Василий, время от времени осеняя себя крестом. — Но если хочешь ты, чтоб царство твое было вечно и несокрушимо, как Царствие Его, то лишь Господу должен ты молиться, и лишь Его Заповеди сохранять, и Ему прокладывать пути десницей крепкой.
И вновь Владимир кивал, принимая. И даже лицом светлел. Еще бы! Такие перспективы открывал перед ним византийский монарх:
— …И враги твои падут, и ненавистники твои будут лизать прах пред твоими ногами.
Еще бы! Такие перспективы открывал перед ним византийский монарх:
— …И враги твои падут, и ненавистники твои будут лизать прах пред твоими ногами. И тень твоя покроет подвластные земли, а корень твой будет крепок, и плоды его многочисленны. И станет твой род царствовать, и прославит тебя, славного и угодного Господу, в веках!
Духарев старательно переводил… И не верил Василию ни на грош. Слишком уж нравоучительным, преподавательским был тон императора.
Но Владимир был куда более благодарным слушателем, чем Духарев. Он — внимал. Да так одухотворенно, что Сергею казалось: великий князь видит дальше переводимых Духаревым слов…
На второй день после прибытия Варды Фоки Духарев и Владимир, как обычно, появились у императорского шатра, но стража их не пустила. Правда, со всей доступной вежливостью, дабы не оскорбить могучего союзника.
Задержка была недолгой. Из дверного полога выскользнул смуглый человечек, прячущий лицо под капюшоном плаща, а за пазухой — увесистый мешочек. Не с медью, надо полагать, а с чем-то более серьезным.
Один из гридней, сопровождавших Владимира, развлечения ради заступил ему дорогу, однако из царского шатра тут же появился разряженный евнух из числа императорских приближенных и злобно заорал по-ромейски, требуя человечка пропустить.
Гридень воплей не понял, но подвинулся.
— Иди, Симеон, — напутствовал евнух человечка. — Сделай, что обещал, и узнаешь щедрость Богопочитаемого. До конца жизни ни в чем не будешь испытывать нужды!
«О как! — подумал Духарев, провожая взглядом закутанную в серый плащ спину. — Если то, что он спрятал, — денежки, то это, надо полагать, аванс. И неслабый. Интересно, за какую услугу наш друг император готов отвалить такие деньжищи?»
Евнух же сменил грозное выражение на умильное, обернулся к Владимиру и сладеньким голоском попросил его и Духарева проследовать в шатер.
Но на сей раз душеспасительная беседа была короткой.
Василий наконец решил повоевать.
* * *Выдвинулись они в начале второй стражи. Не вся армия Василия — только лучшие части. От русов действовать должен был Богуслав. Основное войско Владимира решено было поберечь, и, к удивлению Духарева, предложил это сам Василий. Правда, узнав, в чем состоит план императора (план, скорее, психолога, чем военачальника), удивляться перестал.
Богуслав с семью неполными сотнями дружинников Владимира, действовавший в связке с Йонахом, был поставлен в авангарде.
Задача — скрытно подобраться к кораблям мятежников (а кораблей были — сотни), напасть на охрану и создать панику.
А затем отойти в сторону, предоставив дело пехоте.
По сведениям разведки, на берегу находилось не более трех тысяч «военных моряков» Варды, остальные спали прямо на кораблях. Дозорные имелись, само собой. И «караульные части» в полном боевом — тоже. Но мятежники расслабились. Бездействие противника снизило бдительность. Дисциплина тоже упала. И вообще, с приходом Варды его воинство, судя по разведывательной информации, почувствовало себя чересчур уверенно. Мол, теперь инициатива принадлежит им. Непобедимый Варда Фока сам решит, когда дать бой…
Еще вечером, в составе разведывательного дозора, Богуслав подобрался к кораблям мятежников поближе и убедился, что укрепления на берегу имеются. Но вполне преодолимые. Так, загородка. Скорее, чтоб свои не разбежались, чем для защиты от нападения.
Поразмыслив, Богуслав изменил традиционный расклад, предполагавший сначала — обстрел, потом атаку конницы. Его вариант — подобраться как можно ближе к лагерю (безлунная ночь — очень кстати), а затем налететь латной конницей и пройти вдоль берега (метров пятьсот — мятежники разместились вольготно), рубя всех, кто подвернется. Если задуманное удастся, они пройдут через весь лагерь, можно сказать, на одном дыхании.
— Передайте гриди, — сказал Богуслав сотникам: — Раненых подбирать, но — по возможности. Задержимся — окажемся в разворошенном осином гнезде.
Хотя, если всё пойдет как задумано, потерь быть не должно. Не успеют ромеи навалиться.
Так и сделали. Шагом, осторожненько, в полной темноте, но по хорошо разведанной дороге, ориентируясь исключительно по звукам, гридь Богуслава и хузары Йонаха вышли к цели. Хузары двинулись дальше, чтобы распределиться вдоль берега и после прохода русов закидать стрелами из темноты всполошившихся мятежников.
Богуслав остановился. Сотни — тоже. Даже почти в темноте никто не сбился, не смешал рядов. Выучка.
Рука привычно потянулась к рогу… И отдернулась. Ни к чему будить ромеев раньше времени. Поэтому Духарев просто послал коня вперед. Мягко, шагом, поскольку сотни тронутся не разом, по сигналу, а последовательно, десяток за десятком.
Ладно получилось. Богуславу не требовалось света, чтобы «видеть», как пришла в движение гридь. Слуха — достаточно. Теперь чуть быстрее — в рысь.
Передовая шеренга тоже ускорилась. Вся первая полусотня. Стремя в стремя. И вторая полусотня — на два корпуса позади. И дальше…
Только когда до врага осталось шагов пятьдесят, караульщики ромеев, услышавшие топот копыт, вскочили и уставились во тьму. Само собой не увидели ничего. Света факелов хватало на то, чтобы отодвинуть стену тьмы шагов на десять, но за пределами освещенного пространства мрак становился еще непрогляднее.
Ну, храни, Господи! Богуслав завыл по-волчьи и дал жеребцу свободу.
Десять быстрых ударов сердца, еще более быстрый посыл — и жеребец взмыл вверх, перелетая через оградку в три локтя высотой. И вместе с ним — еще пятьдесят боевых коней.
Караул смели вмиг. И помчались сквозь беспорядочный лагерь, коля и рубя, расходясь шире, чтобы дать возможность поработать и тем, кто позади.
Богуслав успел зарубить четверых, прежде чем лагерь закончился, и жеребец снова взмыл в воздух, перенося хозяина через низенькую оградку.
А в начале лагеря уже правили бал хузарские стрелы. Тоже недолго. Подоспевшие вовремя императорские пехотные тагмы выплеснулись на берег и довершили разгром. Но еще раньше пешие лучники Василия принялись забрасывать сгрудившиеся в проливе корабли огненными стрелами…
— Не подожгут, — уверенно заявил Йонах, на пару с Богуславом наблюдавший за работой имперских стрелков. — Стрел мало, кораблей — много. А главное — под кораблями много воды.
— Не думаю, что наши хотят их поджечь, — произнес Богуслав.
— А чего хотят?
— Отогнать от берега.
— Зачем?
— Увидишь, — загадочно ответил Богуслав. От отца он знал все подробности плана Автократора. Очень толкового плана, надо признать…
Громкий рычащий звук покрыл шум схватки. И тотчас над Геллеспонтом вспыхнул красный цветок.
И еще один. И еще…
— Дромоны, — сказал Богуслав. — Пока мы тут шумели, они скрытно подошли к вражьим кораблям. Да помилует Бог этих несчастных! Теперь им — не спастись…
Так и вышло. Спаслись немногие. Единицы. Флот мятежников, еще вечером накрепко заперший пролив, перестал существовать.
Еще один неприятный сюрприз для Варды Фоки. Вдвойне обидный, потому что ночные нападения ввел в практику его дядюшка император Никифор. Духарев читал его трактат «О военных хитростях»[52]. Толковая вещь.
Вообще, устройство византийской армии при Никифоре и Иоанне Цимисхии Духареву казалось весьма осмысленным. Опора на коренных ромеев — стратиотов, которые, как и русы-дружинники, начинали обучение с самого детства и не видели себя иначе как воинами. Ударная сила — катафракты.
Ударная сила — катафракты. Тяжелая конница, качественно превосходящая княжьих гридней просто потому, что у Киева не было таких возможностей и таких финансов, как у Византийской империи. Сравнительно небольшая армия профессионалов, которых императоры и полководцы всячески баловали и одаряли, в итоге оказалась куда эффективнее многочисленного ополчения. Что, на взгляд Духарева, у византийцев прихрамывало, так это пехота, которую использовали, главным образом, для инженерных работ, а в бою — для прикрытия отступления кавалерии. В случае необходимости.
Но в последние годы ситуация решительно поменялась. Мятежи порядком истощили человеческий ресурс империи, и супротивникам пришлось прибегнуть к помощи наемников. Ивиры у Варды, русы у Василия. То есть практика найма чужестранцев-воинов не была новой, но одно дело — гвардия, а совсем другое — ядро армии. Порочный путь, неминуемо ведущий к ослаблению и гибели государства. Впрочем, такое государство, как Восточно-Римская империя, умирать будет долго. Не один век. Так что и детям и внукам Духарева хватит. А для Киева новая политика, определенно, выгодна.
— Немало их, — сказал Богуслав.
Они с отцом расположились на возвышении, близ императорского шатра. Дружина Богуслава осталась в резерве, на охране лагеря. Отдыхала после ночной вылазки.
Духарев глянул на холмы, где обосновалось воинство мятежников.
— Могло быть и больше, — отозвался он. — За эти дни мы их порядком проредили.
Армия императоров — на этот раз вместе с Василием был и его брат Константин — расположилась на равнине. Собственно, пока императорскую династию один Константин и представлял. Восседал на коне в роскошных доспехах, сверкающий, как золотая шишка на троне василевсов. Старший брат — всё еще в шатре. Так с утра и не показывался.
Тысячи Владимира составляли правое крыло императорского войска. В центре — отборные отряды, ударная сила. Слева — фемные тагмы и легкая конница.
Равнина — хорошее место для катафрактов. Однако если Василий вздумает атаковать мятежников сам, то окажется в очень неудобном положении. Конница, которая атакует сверху, имеет явное преимущество над той, что нападает снизу.
По этой и еще нескольким причинам позиция Варды, безусловно, более выигрышная. Василий это понимал, и не исключено, что ночная атака, стоившая Варде его флота, была еще и провокацией.
Может Варда на такое повестись? Да легко. Ему ведь надо свой пошатнувшийся авторитет поддержать. Иначе решит народ, что Бог — на стороне Василия, и переметнется.
Раннее утро. Отличная погода. Солнышко неторопливо ползет вверх… Войско ждет. Оба войска ждут. Этак можно и час простоять, и — все десять. Жариться в доспехах на солнышке — удовольствие маленькое. А придется, если предводители не дадут приказ наступать. Этак можно до вечера простоять. А завтра — по новой.
Зная Василия, Духарев готов был поклясться, что первым он не начнет. Пока вообще в шатре отсиживается.
Так, а кто это у императорского шатра? Знакомая фигурка. Вчерашний человечек в плаще. Симеон. Только вот рожу теперь не прячет. Капюшон откинут, морда самоуверенная… Гляди-ка, этариоты его пропускают. Видно, крикнули из шатра. Нет, ну как он держится, этот Симеон. Словно магистр, никак не меньше. В царский шатер не вошел — вступил. Прямо как к себе домой…
Со стороны вражеского войска донесся шум, и Духарев перевел взгляд.
Отлично! Зашевелились мятежники. Варда Фока решил не ждать, когда Василий нападет на его стратегически выгодную позицию. Мятежное воинство покинуло холмы и двинулось на равнину. Двинулось вполне слаженно, разве что левый фланг чуть-чуть приотстал.
Знамя Варды Фоки виднелось в центре. Справа Духарев разглядел значок Склира. Надо полагать, это и есть Склировы ветераны. Сам-то Склир — в тюрьме, а люди его, получается, на стороне его тюремщика.
Сам-то Склир — в тюрьме, а люди его, получается, на стороне его тюремщика. Духарев прищурился. А это кто? Не иначе как знаменитые ивиры…
Что ж, план императора Василия удался: выманить Варду с подготовленной позиции, спровоцировать на атаку. И не дать ему, действительно замечательному полководцу, использовать свой талант. Никаких уловок и хитростей, маневров, засад и умелого использования рельефа местности.
Сила на силу.
Но было кое-что еще…
Смуглый человечек, по-хозяйски ввалившийся в императорский шатер, не давал Духареву покоя. Что еще выродил по-византийски коварный ум Василия? Хочется верить: гадость эта не адресована Владимиру. Но проследить — надо. Вдруг императору взбредет в голову избавиться от союзника, когда в нем исчезнет нужда? Так ли уж нужна Византии крещеная Русь? Эх, не ошибиться бы!
Сергей отвел взгляд от наступающего войска Варды (им еще идти и идти) и посмотрел в сторону императорского шатра… Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Василий, в облачении катафракта, с помощью слуг, усаживается на коня. Рядом — конный знаменосец. И еще один — с большой иконой Богородицы в сверкающем золотом окладе.
Этериоты окружили василевса, и вся компания двинулась на позиции. Процесс пошел… Так, а кого это выволакивают за ноги из царского шатра? Ба! Старый знакомый, Симеон! То есть его труп. Да уж! Щедро его одарили, ничего не скажешь. Хотя что там ему евнух обещал? «До конца жизни ни в чем не будешь испытывать нужды?» Так ведь и не придраться. Не соврал, безъяичный.
Сошлись красиво! Катафракты Варды на катафрактов Василия.
Первые оказались покруче. Перестроились клином и прошли насквозь. Императорская конница тоже не особо пострадала (на земле — от силы с десяток тел) и с разбега накатилась на пехоту. Небось хотели к вражескому полководцу прорваться — Василий пообещал хорошую награду тому, что завалит лжеимператора.
Не срослось. Как накатилась — и откатилась. Ивиры встали крепко.
А вот кавалерии Варды удалось большее. Они взяли правее и вполне успешно ударили в левый фланг императорской армии. По пути их попыталась придержать легкая конница (выскочили, осыпали стрелами), но безуспешно. Катафрактам эти стрелы — как носорогу засапожник. Конные постреляли и быстренько спрятались за фемной пехотой… В которую и врезался клин катафрактов Варды. Судя по знамени, им предводительствовал кто-то из Фок. И предводительствовал неплохо, поскольку катафракты прорвали строй фемного воинства и, сменив вектор атаки, прорубались теперь к центру. А их успех на левом фланге успешно развивали трапезиты[53] мятежников.
Но дела Василия были не так уж плохи. Потому что на его стороне играли русы Владимира. И играли отлично!
Левый фланг армии Варды оказался в куда худшем состоянии, чем левый фланг Василия. Сначала над ним покуражилились конные стрелки, степняки и хузары, затем налетела тяжелая кавалерия и прошлась по шеренгам, как кабан — по огороду. Пропахала, перемешала… И зашла в тыл мятежникам. Жаль, что катафракты к этому времени уже отошли, иначе пришлось бы грузинам биться на два фронта.
Но центр мятежников тоже не стоял на месте. Рванул вперед, явно целя на штандарты Василия.
Две армии сошлись и перемешались. Позади мятежников бесчинствовал Владимир (Духарев видел его знамя), катафракты Василия вернулись и наседали сбоку. Но Варда плевать хотел на периферию. Его интересовал лично император Василий… Ага! Вон, кажется, и Константин вступил в бой. Двинул столичные тагмы навстречу прорвавшимся катафрактам Фоки. Остановил. Вроде бы…
Но Варда со своими ивирами уверенно продвигался вперед. Еще минут двадцать рубилова — и он доберется то императорских этериотов. И, насколько мог судить Духарев, этериотам придет хана. Маловато их. Не удержат позиции. Может, пора Богуславу поднимать своих?
— Есть мысль получше, — выслушав отца, сказал тот.
— Глянь-ка направо, где наши стоят!
«Точно!» — озарило Духарева. Нурманы Сигурда. Владимир оставил их прикрывать лагерь, но, если Василия убьют, битву можно считать проигранной. Вместе с лагерем.
Духарев стянул с пальца приметный перстенек с личной символикой. Кликнул одного из собственных гридней, велел:
— Отдашь Сигурду. Скажешь, я велел передать: спасай василевса, ярл!
А Варда — молодец! Чисто Наполеон. Выбрал главное направление и цель — добраться до Василия — и на нем сосредоточился. Это ж его персональная техника, любимый конек — личная атака на полководца-противника. Так он в свое время и Склира разбил…
А что Василий? Небось уже догадался, по чью душу ломит сквозь его стратиотов Варда Фока. Но — не бежит Автократор. Тоже, наверное, понимает: если даст деру, то битва проиграна. И другой — не будет. Даже не факт, что его в столицу пустят, узнав о разгроме. На хрена константинопольцам проигравший? Они того приветят, на чьей стороне Бог. Победителя то есть.
А дело уже до этериотов дошло. Рубились в каких-то пятистах шагах от Духарева.
Но в лагерь мятежники пока не совались. Может, пора уже выдвигаться?
Кидать в мясорубку собственную дружину Духареву очень не хотелось…
Ну наконец-то!
— Сигурд!
Восемь сотен скандинавов. Тяжелая пехота. Лучшая тяжелая пехота Европы. Однако сейчас они — в Азии. Пусть до Европы — рукой подать. Переплыть через Геллеспонт…
Но грузины тоже хороши! Рослые, все как на подбор. Доспехи — отличные. Выучка — еще лучше. Строй держат — залюбуешься.
— Добрые воины, — похвалил Сигурд, которому, в силу природного двухсотпроцентного зрения, картина боя была еще яснее, чем Духареву. — А сам что, воевода?
— Гридь спешивать не хочу, — ответил Сергей.
Сигурд кивнул. Признал довод, рявкнул команду — и нурманские сотни трусцой двинулись спасать императора, которого обложили уже с трех сторон — ивиры прорвались справа, рассчитывая взять Василия в кольцо.
Эх, хорош Варда Фока. У него на ключевом участке не меньше пяти тысяч элитных бойцов собралось. А вокруг Василия — от силы тысяча. От остальных Варда его отсек. Даже от брата Константина и его тагм…
Острый момент. И все всё видят — вон Владимир изо всех сил рвется к центру событий, но — медленно, катастрофически медленно, — и Константин тоже упирается, прёт к центру… И фемный стратег на левом фланге пытается собрать своих…
Нурманы выстроились «кабаном», перешли на бег… «Берегись, я иду!» — взревели сотни глоток.
Ивиры проворно перестроились, встречая нового противника…
Но удержать не сумели. Скандинавы — свежие, азартные, а грузины сколько уже мечами машут без передышки…
Меньше тысячи их, викингов, но — сбили атаку. Очистили фланг, заняли оборону, ощетинились копьями — стена, которую даже катафрактам без хорошего разбега не продавить.
И боевой дух мятежников чуток снизился…
— Гридь! — рявкнул Духарев, и Богуслав эхом повторил его клич. — К бою!
Их тоже немного — меньше тысячи. Но если ударить правильно и в нужный момент, можно переломить ход боя.
— Туда! — указал рукой Богуслав.
Духарев кивнул. Место, откуда мятежники выдавили стратиотов Константина, и впрямь самое подходящее.
— Я поведу!
Еще один кивок. Духарев лезть в самую сечу не собирался. Годы не те. Но уточнил:
— По моей команде.
Богуслав не хуже отца способен угадать нужный миг, но… Уж слишком ему хочется влезть в драку.
Но переломить ход боя им не довелось.
Но переломить ход боя им не довелось. Варда Фока успел раньше.
Глава двенадцатая. Битва за империю (продолжение)
Голосок у Варды Фоки был под стать росточку. Аки у тура в брачный период.
С таким любой сигнал можно передать без привлечения вспомогательных средств, вроде труб и рогов.
Богуслав завистливо ухмыльнулся. Поглядел на отца… Тот и бровью не повел. Однако команду атаковать придержал. Ждал реакции Василия Второго.
По мнению Богуслава, ждать было нечего. Варда Василия соплей перешибет. С чего бы ему, скорее выигрывавшему сражение, чем проигравшему, принимать вызов на единоборство от заведомого победителя?
…Каково же было удивление Богуслава, когда вокруг императора мощно загудели трубы, а потом горластый глашатай почти так же громко провозгласил:
— Богопомазанный Благочестивый василевс Василий Второй (и прочее, прочее…) принимает вызов мятежника Варды Фоки, да покарает его Господь!
Сражение остановилось не сразу. Но в конце концов остановилось.
Духарев отметил, что часть русов, переставших громить тылы армии Варды, рванула к лагерю мятежников. Сергей обратил внимание сына на это маленькое событие — и Богуслав тут же перестал поносить императора за опасную склонность к авантюрам. Чем бы ни закончилось единоборство, без добычи они не останутся.
Войска разделились. Неохотно, словно переплетенные тела любовников. И через некоторое время на щедро удобренное кровью пространство между двумя армиями выехал Варда Фока, могучий гигант в сверкающих доспехах, со здоровенным копьем…
— Что-то с ним не так, — пробормотал Богуслав. Прищурясь, он изучал командира мятежников.
— Почему так думаешь?
До Варды было слишком далеко, чтобы Сергей мог разглядеть его в подробностях. Хотя стрелой он, пожалуй, сумел бы узурпатора достать…
— Глянь, как он в седле держится. Может, подранили его? А если ранен, зачем тогда вызов бросал? Хотя такой, как Варда, даже раненый нашего Василия нанижет, как поросенка на вертел… — И, с нескрываемым уважением: — Ну и сильна вера у императора!
Василий Второй выехал навстречу опаснейшему противнику, держа в одной руке меч, а в другой — икону Богородицы.
Он что, собирается использовать икону как щит?
Однако, что бы там ни задумал Василий, Варду это не смутило. Лидер мятежников опустил копье и поскакал навстречу сопернику. Копье, которое он прежде держал вертикально, опустилось в боевое положение… И Духарев тоже заметил некую неправильность в действиях Варды. Слишком низко опустился смертоносный наконечник. Слишком низко припал к гриве коня Варда Фока…
А Василий вел себя так, будто он — на параде. Лошадь его двигалась мелкой рысью, меч в руке — опущен. Икона, напротив, поднята на максимальную высоту.
«Он же уверен, что враг до него не доберется!» — угадал Духарев.
И точно. Проскакав около сотни метров (полпути между двумя армиями), конь Варды вдруг перешел с галопа на рысь, а затем и вовсе остановился. А могучий Варда Фока сначала выронил копье, а затем и сам вывалился из седла. Да так и остался лежать, скрючившись, словно ему меч в живот воткнули.
Василий остановил коня, воздел икону еще выше (для этого ему пришлось привстать на стременах) и что-то закричал.
Духарев не разобрал, что именно, но тут же десятка два этериотов, возглавляемые соправителем Константином, сорвались с места и помчались к месту падения Варды Фоки.
Минута — и на глазах оцепеневшей от неожиданного исхода армии мятежников их полководец был изрублен на куски, а его отсеченная голова оказалась на острие копья Константина.
И всё.
Войска императора, возглавляемые Константином, с головой Варды на копье, дружно устремились на мятежников… Но те, лишившись полководца, сразу потеряли способность к сопротивлению.
Кто-то пытался убежать, но большинство попросту сложило оружие.[54]
Среди последних оказался и командовавший неудавшейся осадой Авидоса Лев Мелиссин. Василий, вопреки ожиданиям, его пощадил. Может, потому, что вместе с ним сдались и тысячи других мятежников.
Разгром был мощный. Но не окончательный. Изрядная часть разбитой армии сумела разбежаться. И далеко не все из тех, кто уцелел, навеки отринут мысль о покушении на законную власть.
Можно было не сомневаться, куда пойдут те, кто решится на сопротивление. Заключенный Вардой под стражу его союзник Склир жив и вряд ли может рассчитывать на снисхождение Василия.
А у русов — праздник. Дележ добычи, взятой на проигравших. Прилично получилось.
Но занимались этим воеводы. Сам великий князь в распределении благ не участвовал. Он готовился к Таинству.
А у Духарева из головы не выходил «щедро одаренный» Симеон. И странное недомогание, из-за которого был убит Варда. И это точно было не из-за раны. Окруженный верными ивирами претендент на императорский пурпур за всё время битвы не пропустил ни одного удара.
«Стоило бы уговорить Владимира питаться исключительно орехами и яйцами прямо из-под курицы», — подумал Сергей.
Только не уговорить. Князь, похоже, искренне верит в честность василевса.
А тому после сегодняшней победы больше нет нужды в русах. Теперь у императора есть и армия, и авторитет, и твердая увереность общества в том, что Бог — на стороне Василия. Да кто усомнится в этом после его «поединка» с Вардой?
Нет, многие усомнятся, конечно, однако будут помалкивать. Равно как и Духарев. Вряд ли это была последняя порция яда в арсенале византийских императоров.[55]
* * *Опасения оказались напрасными. Никто не пытался отравить Владимира. Напротив, вся византийская знать наперебой демонстрировала свое расположение и заносила подарочки будущему крестнику императора. День Крещения тоже был назначен. Христианское имя — выбрано. В честь своего порфирородного воспреемника Владимир принимал имя Василия.
Слегка омрачило общее ощущение праздника известие о том, что Склир выпущен соратниками из-под стражи, и вокруг него собираются остатки Вардовых мятежников. Но страха перед Склиром не было. Император велел отправить «оппозиционеру» забальзамированную голову Варды Фоки. Недвусмысленный такой намек.
А Владимир жил в столичном дворце и готовился к обряду. Вместе с ним — преданные Путята, Претич и еще дюжины две воев и старшей гриди. Претич поначалу от чести креститься в главном христианском соборе отказался, но, узнавши, что новокрещеным будут поднесены дорогие подарки лично от императора, передумал.
А вот Варяжко так и остался язычником.
Желающим из дружины тоже было предложено принять христианство. Но — «по месту жительства», то есть в храме при казармах загородного дворцового комплекса. Несмотря на обоюдную демострацию доверия между Владимиром и Василием, впускать в Константинополь многотысячную армию русов победоносный император по-прежнему опасался.
Распоряжаться оставшейся за пределами столичных стен армией было поручено Богуславу.
В дни перед Таинством Духарев большую часть времени проводил вместе с великим князем. И был впечатлен тем, как серьезно Владимир принимает будущее священнодейство.
Сергей уже привык к тому, что практически все крестившиеся воины-язычники, которых знал Духарев, воспринимали Крещение именно как язычники. То есть к общему списку божественных покровителей прибавлялся еще один. Защитников, а равно как и удачи, много не бывает. Ну и подарочки, естественно.
С Владимиром дело обстояло иначе. И дело тут было не в мистике. Вернее, не только в мистике. Нормальный вождь-язычник выбирал нового, сильного бога исключительно для себя. Дабы приумножить имущество и забороть врагов. Владимир же принимал Крещение не для того, чтобы забарывать.
Дабы приумножить имущество и забороть врагов. Владимир же принимал Крещение не для того, чтобы забарывать. Брата Ярополка он победил не под покровительством Христа, а как раз наоборот.
Владимиру мечталось не о новых победах, а о новом уровне.
О Государстве.
Отличный воин и победоносный полководец, он, тем не менее, не был завоевателем по натуре, как его отец Святослав.
Владимир — устроитель.
И это хорошо.
Но совсем замечательно будет, когда все они благополучно покинут империю и вернутся домой.
Духарев знал на собственном опыте (такое и захочешь — не забудешь!), что договор с Византией — не гарантия благополучного возвращения.
Впрочем, с ними будет порфирородная кесаревна Анна, так что вряд ли Василий рискнет натравить на русов кого-нибудь из степной шайки.
Глава тринадцатая, в которой выясняется, чем багрянородная принцесса отличается от прочих людей
— То есть как — позже? — воскликнул Духарев, выслушав новость. — Почему?
— Она — природная кесаревна, — пояснил Претич, который, собственно, и принес эту новость. — Это нам с тобой, чтоб в другую землю перебраться, довольно дружину поднять да добро в лодьи сложить. Да и то время потребуется немалое. А тут — сестра императора ромейского! У нее одного добра сколько! И всё надо сложить бережно, чтоб в дороге не попортилось. И челядников правильно подобрать. А еще день назначить хороший, богам… то есть Христу-Богу угодный. А проследить, чтоб по дороге чего не случилось? Вот ты, я слыхал, когда невесту Святославу Игоревичу вез, едва не потерял ее. А то всего лишь дочь князя угорского была.
— И что же, воевода, ты думаешь, что княжьей дружины не хватит — Анну от ворогов в пути оборонить? — поинтересовался Духарев. — Врагов василевса разбить — хватило. А на какого-нибудь хана печенежского — мало будет?
— На хана, может, и довольно, да только слыхал я: другой император, Оттон, обидеться может на князя нашего.
Имя императора Священной Римской империи немецкой нации Претич произнес на скандинавский манер — «Отта-кайсар».
— За Оттона кесаревну не отдали. А он ныне в большой силе. Это я от многих слышал. Он Харальда, конунга данов, побил, а Харальд — сильнейший из северных конунгов. Вдруг захочет Оттон у нашего князя невесту отнять?
Новости из Западной Европы были даже не второй, а третьей свежести. Но Сергей от высказанного варяжским воеводой предположения даже дар речи потерял.
Претич, восприняв молчание как согласие, продолжал развивать тему: мол, пусть императоры меж собой разные дипломатические споры порешают, а невеста без спешки в дорогу соберется. Глядишь, и приданое ее от этого возрастет. А великому князю с дружиной в Константинополе рассиживаться — недосуг. Домой пора. А то, пока гридь на земле ромейской за казенный императорский кошт подъедается, какой-нибудь ворог уже к вратам Киева спешит.
И опять Претич Святослава вспомнил. Эпизод с ордой хана Кайдумата, в котором, с подачи Сергеева сына Артёма, принял личное участие.
И резюме: оченна, однако, домой хочется!
Духарев поглядел на Претича: крепок воевода, могуч. Но уж и нитей седых в усах довольно, и морщин на лице. Да и живот выпирает, кольчугу оттягивая…
Всё понятно с ним. Не о невесте Владимира думает воевода, а о себе да о дружине своей. Путь домой далек. Добыча взята изрядная. Хорошо бы к осени довезти…
Нет, не с ним надо говорить. С Владимиром.
Но великий князь опасениям Духарева не внял. Изменился Владимир. Вопреки своему обыкновению он даже и не думал о том, как побыстрее новую жену в постель завалить. Планы строил: вернувшись, государство обустроить да народ свой к Христу привести. А об Анне говорил с уважением и нежностью.
Общались они лишь один раз, недолго и через переводчика, но Владимир был окончательно покорен. Не думал Духарев, что великий князь киевский способен на подобные чувства. Похоже, он считал свою невесту не женщиной, а ангелом.
Робкий намек Сергея на то, что не худо бы с будущей женой здесь, в Констанинополе, и обвенчаться, отверг. Желал, чтобы акт сей на его земле произошел. А то непонятно выйдет: будто не Владимир жену себе берет, а она — его.
Всё распланировал великий князь. С зодчими ромейскими договорился: будут в Киеве храм строить — по византийскому образцу. В нем и обвенчаются. Так по чести.
— А если с Анной до того времени что случится? — осторожно поинтересовался Духарев, не рискнув заявить в лоб, что Василий Второй может и передумать насчет выполнения главного обязательства.
— Быть того не может! — отверг великий князь сии подозрения. — Над Анной — Рука Божья. Обережет. Так что собирайся, воевода! Корабли для нас готовы. Через три дня уходим.
— Я бы остался, — возразил Духарев, понимая, что Владимира не переубедишь.
Договор подписали. Клятву на Кресте принесли. Значит, так тому и быть. Владимир, душой и разумом познавший Христа, даже и мысли допустить не мог, что от такой клятвы можно отступиться.
И еще он жаждал поскорее начать реформы.
И принести свет, обретенный под сводами Святой Софии, на отчую землю.
— Я бы остался…
— Оставайся, коли нужда есть, — разрешил Владимир. — Но долго не задерживайся. Знаю теперь, что у тебя и здесь богатства несметные, однако нужен ты мне. Ты рядом стоял, когда я Бога Истинного узрел. Значит, место твое — тоже со мной рядом. А что дом у тебя здесь богаче, чем в Киеве, так только скажи: и возведут тебе еще лучший! Пусть моря из его окон и не видно будет, но Днепр наш тоже не в болото впадает. И воздух куда как чище!
Духарев улыбнулся. Насчет воздуха великий князь в самую точку попал. И не только в физическом смысле.
— Не задержусь надолго, — пообещал он. — Слово!
Через три дня, как и планировалось, дружина русов с изрядной добычей погрузилась на ромейские корабли. Число ее уменьшилось почти на тысячу человек. Более семи сотен полегло в двух битвах. И еще человек триста, в основном нурманов Сигурда, остались в Константинополе. На службе у Василия Второго. По согласованию с Владимиром, само собой.
Но места на кораблях не пустовали. Взамен Владимир прихватил с собой чуть ли не тысячу ромеев. Главным образом — духовного чина. Но были и зодчие. А также прочие мастера, владеющие полезными профессиями.
На прощание великий князь обнял Сергея. Не по-княжьи, а крепко — как родича. И напомнил, что ждет его вскорости. Не позже серпня[56].
Духарев пообещал. Изначально он предполагал задержаться в Константинополе максимум еще на неделю. Исключительно для того, чтобы поглядеть, какие ветры подуют в ромейской столице после отплытия русов.
Но позавчера Духарева навестил придворный евнух и сообщил, что василевс не хочет, чтобы спафарий Сергий отплыл вместе с русами.
У Сергея тут же возникло острое желание покинуть Константинополь именно с русами. Хрен знает, чего ждать от человека, который одного врага сажает на кол, а другого, напротив, прощает и берет на службу… Что, впрочем, не гарантирует светлого будущего, потому что настроение императора может и перемениться, а вот смертная казнь — это уже необратимо.
Авантюрная жилка в характере Духарева была весьма развита. А на том месте, где у большинства людей находится чувство самосохранения, у Сергея за десятилетия воинской службы наросли не меньшие мозоли, чем на ладонях.
Конечно, он остался.
Глава четырнадцатая. О царских подарках
«Малый прием» — так это вроде бы называлось.
Тот же Тронный зал с рычащими львами, поющими птицами и императорским «насестом» с лифтовым механизмом.
Однако без обычной толпы придворных, забитых зрителями галерок и прочей имперской мишуры.
Хотя народу и сейчас присутствовало немало. Соправитель Константин, младший брат Василия Второго, четыре логофета, два магистра, архиепископ с парочкой присных, кое-кто из столичной знати, дворцовые евнухи, разряженные по-попугайски… В общем, если навскидку — человек тридцать. Не считая охраны.
Сергей вошел. Опустился на колено, обойдясь без церемониального ползания. К чему унижаться попусту? Если Василий намерен его наказать, то накажет несмотря на все эти черепашьи маневры. Если же Сергей императору всё еще нужен, то нарушением этикета можно пренебречь.
Духарев поклонился и застыл в ожидании под негодующим взглядом препозита священных покоев[57]. Однако, так же как и в прошлый раз, никто не приказал страже, чтобы разложили наглого спафария, как положено, крестиком на полу. Добрый знак.
Вопреки традиции львы не зарычали и трон императорский к потолку не вознесся.
Хотя какая традиция? Он что, посол германский или принц дамасский? Из-за какого-то спафария механизмы ценные гонять?
— Подойди, — велел император.
Нацелил на Духарева пронзительные голубые глазки, помолчал, поскреб заросший черным волосом подбородок…
— Много полезного ты сделал для государства, спафарий Сергий, — обычным своим невыразительным глуховатым баритоном изрек повелитель Византии. — Повеление мое исполнил хорошо, так что следовало бы тебя вознаградить…
Духарев насторожился. Частица «бы» ему не понравилась. Может, не стоило ему задерживаться в империи после отплытия Владимира? С другой стороны, не исполни он вежливое пожелание Автократора — и результат был бы непредсказуем. Всевластный монарх запросто мог бы конфисковать всё духаревское имущество. И лишить его многочисленных, задорого купленных привилегий.
А торговля с Византией в настоящее время составляет почти две трети всех доходов торгового дома «Духарев и семья».
— Я мог бы одарить тебя новым титулом, — продолжал император, — но не может магистр римский служить при дворе скифского архонта. Я хотел сделать тебя магнатом, но узнал, что ты и так владеешь немалым капиталом, обширными землями, вдобавок часть из них — с правом податного и судебного иммунитета…
Тут Духарев насторожился еще больше, зная привычку византийских владык пополнять казну за счет богатеньких подданных. По принципу: было бы желание, а повод — найдется.
Желание точно было. Казна имперская пуста, как закрома вдовы после нашествия мытарей. Неудачная война с Булгарией, война гражданская… Правда, кое-что Василию досталось «в наследство» от побитых мятежников, но золотишка всё равно не хватало. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на последнюю продукцию имперского монетного двора.
Василевс, похоже, заметил его беспокойство.
— Подойди ко мне ближе, светлейший муж, — велел он. И добавил уже совсем тихо: — Не бойся. Всё твое останется твоим.
И погромче:
— Зная твое богатство, я не стану награждать тебя деньгами и имуществом сверх того, чем уже наградил. Но оставить тебя без награды было бы несправедливо. Посему я дарую тебе привилегию… — Император выдержал паузу. — …Личную привилегию… Отныне ты… — еще одна пауза. — Получаешь право приветствовать Божественную императорскую власть так, как сделал это сегодня. Сиятельный, — движение пальца в направлении магистра приемов. — Позаботься о том, чтобы моя воля была зафиксирована. И еще я дарю тебе это… — Василий сделал знак уже логофету претория, и тот вложил в ладонь Духарева загодя приготовленный перстень с печаткой с рисунком, весьма похожим на тот, что ныне чеканили на золотых солидах: изображение Василия и его брата Константина, держащих Крест.
Именной, кстати. Вдоль краешка, тонкой искусной вязью: «Сергий, сын Иоанна, спафарий империи».
— Этот знак, — сказал император, — даст тебе беспрепятственный доступ во дворец и к моему паракимомену… — Имени василевс не назвал, что в очередной раз подтверждало слухи об опале незаконнорожденного сына императора Романа Лакапина. — А при необходимости… — василевс сделал очередную многозначительную паузу, — …и выше. Доволен ли ты наградой, спафарий Сергий?
— О да, Божественный! — Духарев поклонился и прижал к груди покоящийся в кулаке перстень, который, правда пока чисто теоретически, давал ему право доступа к дверям императорских покоев. А при необходимости — и за них.
Неслыханная честь для византийца, не входящего в состав родовой имперской знати, пусть даже и носившего титул спафария… Награда, не стоившая василевсу Василию и ломаного гроша.
Аудиенция окончена. Пятясь (права поворачиваться к василевсу спиной даровано не было), Духарев покинул Тронный зал. И самостоятельно (!) двинулся к выходу. Впрочем, исчезновению спутников-этериотов он уже не удивился. Уж с его-то нынешним «уровнем допуска» свободное перемещение по Большому Дворцу — сущие пустяки.
Тем не менее воспользоваться дарованной привилегией Сергей не поспешил.
Напротив, в кратчайшие сроки упаковал вещички, поднял на крыло, вернее, на палубы, дружину и оставил за кормой гостеприимные пристани Золотого Рога.
Перстень, естественно, увез с собой. Любой ромейский чин за пределами империи при виде этой вещички расстелется перед Духаревым, как прикроватный коврик. Так что — пригодится.
Часть третья. Честь и крепость
Глава первая. Честь княгини Рогнеды
Духарев оказался в Киеве всего лишь на пару недель позже, чем Владимир. Это потому, что великий князь возвращался не самой короткой, а самой продуманной дорогой. Не упустил возможности прогуляться по юго-восточным территориям: показать подданным свою крепкую и удачливую гридь. Пусть трусливые устрашатся, а храбрые — обзавидуются. И поучаствуют в конкурсе на место в княжьей дружине.
По дороге изрядная часть Владимирова войска разошлась. Ушли домой те из хузар, что не жили близ Киева. Ушли степняки.
К тому времени, как показались впереди киевские стены, войско победителей существенно уменьшилось, зато ушедшие понесли по всей земле Владимировой новости: о том, что поход был успешен не менее, чем во времена Олеговы. О том, что добычу взяли немалую. И о чудесах, что видели на земле ромеев. И еще о том, что принял сам великий князь и многие из его гриди Веру Христову.
Последнему радовались немногие. Но и огорчались не особо. Ждали: прибавится теперь к Перуну, Сварогу, Волоху и прочим еще и ромейский бог. Что ж в этом плохого?
Но Владимир был настроен серьезно.
Через три дня по возвращении, вдоволь попировав с походной и остававшейся в городе дружиной, великий князь собрал всех своих: бояр, воев, тиунов, гостей торговых, — всех, кого с дедовских времен принято было называть княжьей русью, и заявил им прямо: принятие новой веры — дело добровольное. Но тем, кто не примет Веру Христианскую, с ним, Владимиром, более не быть. Потому что намерен он, Владимир, привести землю свою и людей ее к великой славе и силе, что возможно лишь под покровительством Иисуса Христа. А кому с великим князем не по пути, тот может отправляться своей дорогой.
Бунта великий князь не боялся. Верил, что Бог — с ним. Да и земная сила — на его стороне. Большая часть гриди, что ходила с ним в Византию, — теперь христиане. Большая часть воевод — тоже. Но и не сказать что не было таких, кто — воспротивился. И так вышло, что новая вера едва не стоила Владимиру жизни…
* * *- Слыхала я: ты новую жену берешь? — спросила Рогнеда.
Большая часть воевод — тоже. Но и не сказать что не было таких, кто — воспротивился. И так вышло, что новая вера едва не стоила Владимиру жизни…
* * *- Слыхала я: ты новую жену берешь? — спросила Рогнеда.
— Завтра поговорим, — сонно пробормотал Владимир.
Великий князь лежал на спине, закрыв глаза. Рука покоилась на мягком теплом животе жены, обнаженном задравшейся исподницей. Тело Владимира пребывало в приятном утомлении, сознание медленно погружалось в дрему.
В Предславино, куда еще до похода была переселена Рогнеда с сыновьями, Владимир приехал засветло. Поужинал с гридью, детьми и женой, потом отправился в опочивальню. Разговоров не вел, сразу — на ложе. Да и о чем говорить? Владимир знал: любви меж ним и бывшей полоцкой княжной нет. Только радость телесная. Но что с того, если сыны добрые подрастают, а тело Рогнедино Владимиру по-прежнему лакомо.
Жаль будет Рогнеду прочь отсылать. Но придется. Не с ее норовом жить тайной полюбовницей.
Но сейчас думать об этом не хотелось. Вообще не хотелось думать.
Тяжелая рука, соскользнув с живота, упала на влажное полотно. Это Рогнеда извернулась, чтоб прильнуть к мужу.
— Берешь, значит, ромейку водимой женой? — шепнула княгиня, щекоча распущенными волосами шею князя.
— Ммм… — Могучая шуйца, обвитая синим обережным узором, сгребла женщину, подтянула ближе, но — так, без страсти, по привычке.
— Хороша хоть? — не унималась Рогнеда. — Лучше меня?
— Дивна ликом… — уже засыпая, проговорил Владимир.
И задышал ровно. Уснул. Не увидел, как исказилось лицо Рогнеды, полыхнули яростью глаза.
Выскользнув из-под шуйцы Владимира, дочь полоцкого князя соскочила на медвежий мех у ложа, обогнула его, бесшумно ступая.
Меч великого князя покоился справа от хозяина, в ладони от десницы. Даже в собственном тереме Владимир не оставлял походной привычки.
Рогнеда потянулась к мечу, но, ощутив, как липкое течет из лона по внутренней стороне бедра, сначала подтерлась тонкой льняной рубахой, а уж потом взялась за меч.
С мягким щелчком и тихим, лишь кошачьему уху доступным шелестом седая узорчатая сталь выпросталась из ножен. Проникавший в горницу лунный луч тотчас заиграл, засеребрился на драгоценном металле. Рогнеда залюбовалась: княгиня и дочь князя, она понимала красоту оружия. Залюбовалась и не заметила, как дрогнули ресницы мужа. Слух воина чуток, но избирателен. Даже во сне вычленит из прочих звуков: плеска воды, скрежета сверчка, уханья совы — еле-еле слышный скрип тетивы или такой вот невесомый шелест трущегося о внутренность ножен металла.
Рогнеда выпрямилась.
Законный, пусть взявший ее силой, но всё равно честный пред богами муж, отец ее сыновей, великий и удачливый князь лежал сейчас пред ней спящий. Такой же красивый, как и его меч… Но меч — не предаст, а Владимир — предал. Предал богов, что подарили ему и удачу, и киевский стол. Предал и жен своих, взятых по закону и по праву.
Рогнеде не было дела до остальных жен Владимира, но свою честь она помнила и чтила. И честь эта — не в том, что положено ей по роду и крови. Бесчестно ей, княжне полоцкой, быть сосланной из княжьих чертогов в дальнее сельцо, как это случилось с матерью ее мужа. А ведь сошлет наверняка.
Знала Рогнеда: у христианина только одна жена. Прочие — полюбовницы. Такое не для нее. По праву сидит Рогнеда выше всех женщин на княжьих пирах. И не позволит себя унизить. Лучше — сразу за Кромку. Но — не одной. Прежде уйдет туда он, убийца родичей, отец сыновей, муж, Владимир. И если правду говорят нурманы, то будет он, великий князь киевский, прислуживать там, за Кромкой, ей, Рогнеде. Своей убийце и мстительнице.
Ни на миг не усомнилась дочь полоцкого князя Роговольта в том, что должно сделать.
Ни на миг не усомнилась дочь полоцкого князя Роговольта в том, что должно сделать. Умрет Владимир — и не будет ни женитьбы на ромейской кесаревне, ни черных жрецов ромейского бога в княжьем тереме. И останутся тогда ее сыновья: Изяслав, Ярослав — старшими в роду. А что юны еще, так найдется кому защитить. Уж в этом Рогнеда не сомневалась.
Широка грудь у великого князя. Украшена узорами-оберегами… Не защитят. Не Перунов знак ныне на груди у князя. Не Сварогово колесо-солнце. Сияет золотой дареный ромейский крест с распятым на нем чужим богом. Этот — не убережет. Как может защитить тот, кто и себя не смог спасти?
Рогнеда взялась покрепче за рукоять, просторную, толстую, сделанную не под женскую руку, но всё равно — удобную. Взялась двумя руками: десницей — ближе к клинку, шуйцей — пониже, прихватив немного оголовье… Не спешила Рогнеда. Приятно ей было чувствовать свою власть над тем, кто еще недавно властвовал над нею. Пластал, мял, толок грубо и жадно, ненасытно… Будто чуя, что — в последний раз.
— Перун, Морена, вам дарю… — шепнула Рогнеда.
Взлетел клинок, мелькнув синим лунным отсветом, и тотчас упал, с шипением вспоров теплый душноватый воздух. Быстро, сильно, метко, будто и не женская рука бросила его вниз, а мощная воинская десница. Упал, просёк всё, что оказалось на пути. И увяз в деревянной раме ложа.
Только — зря. За долю мгновения, опередив собственную сталь, Владимир скатился с ложа и тут же вскочил на ноги, голый, безоружный, но — опасный и быстрый, как разъяренный медведь.
Рогнеда рванула меч на себя — со всей силой отчаяния — и освободила.
Блеснули белые зубы — Владимир не боялся ни Рогнеды, ни своего меча в ее руках. Как может женщина — пусть даже и с мечом — сражаться с воином?
Но Рогнеда — могла. Толкнувшись ногами, дочь полоцкого князя вспрыгнула на ложе, хлестнула справа-сверху, наискось. Видно, забыл Владимир, что за спиной у него — стена. И слева — тоже стена. Некуда отступать!
Владимир и не отступил. Прыгнул навстречу, под клинок. С обидной легкостью перехватил рукоять поверх Рогнединых пальцев, отнял меч и уронил в пол так, что клинок, пробив медвежью шкуру, неглубоко увяз в дубовом полу. Засмеялся Владимир, опрокинул Рогнеду на попорченное ложе, навзничь, впился пальцами-клещами в ноги, развел, задрал так, что, треснув, разошлась ткань исподницы, и взял Рогнеду еще раз: грубо, больно, алчно. Сложенная так, что колени придавили плечи, Рогнеда даже и не пыталась сопротивляться. Терпела, сжав зубы, пока Владимир не утолил похоть, а когда встал, осталась лежать, лишь ноги опустила и плотно сдвинула.
— Бог велит нам прощать, — произнес Владимир, выдергивая из пола меч и пряча в ножны. — И я бы тебя простил, кабы ты только меня убить пыталась. Но ты, женщина, посягнула на будущее земли моей, а этому нет прощения.
Владимир не объяснял — объявлял приговор. На жену он даже не глядел. Для него она уже была мертва.
Надеты сапоги. Затянут пояс. Ножны меча привычно коснулись левого бедра. Если бы Владимир готовился к битве, то у правого бедра был бы второй меч. И кольчуга на груди. Но здесь — дом. Здесь врагов нет… И не будет.
— Встань! — спокойно произнес великий князь. — Ты родила мне сыновей, и я окажу тебе милость: казню своей рукой.
До сего мгновения Рогнеда не боялась. Ни мужа, ни смерти. Знала: если убьет Владимира, то ей тоже — не жить. Но сейчас — испугалась. Это спокойное лицо, равнодушный голос…
Рогнеда, сильная и храбрая, ощутила себя голубкой в деревянной клетке. Сейчас повар сунет в клетку руку, свернет ей шею, ощиплет, зажарит и подаст к столу…
Ужас придал ей сил. Рогнеда закричала и, вскочив, как голубка, в ужасе, — на прутья клетки, — бросилась на Владимира.
И тот, просто от неожиданности, шагнул в сторону, пропуская Рогнеду мимо себя, к выходу их опочивальни. И она, не раздумывая, не соображая, бросилась туда, где было то, что ей действительно дорого.
В детскую. Не для того, чтобы спрятаться. Чтобы защитить. Бездумно, инстинктивно, как испуганная птица.
Отрок в дверях в изумлении поглядел вслед выскочившей княгине: исподняя рубаха разорвана, волосы распущены… Даже теремная девка в таком виде на люди не покажется, а тут — княгиня…
Владимир появился через несколько мгновений.
— Куда? — спросил негромко.
Отрок показал, и великий князь, сняв со стены свечу, двинулся в указанную сторону. Он редко бывал здесь, в Предславино. И терема здешнего почти не знал. Но не спешил. Рогнеда никуда не денется. А он, ее муж, вправе поступить с ней по собственному разумению. Хочет немного побегать — пускай. От мужниной кары у нее нет защиты.
Ну вот и всё. Владимир остановился перед дверью. Он не знал, что за ней. Зато отчетливо слышал прерывистое дыхание. Здесь.
Владимир извлек меч. Он сделает это быстро. Рогнеда даже ничего не почувствует.
Толкнув ногой дверь, Владимир (в правой — меч, в левой — свеча) шагнул внутрь. И сразу увидел Рогнеду. И еще кое-что, заставившее князя остановиться…
— Храбрец! — похвалил Владимир, глядя на мальчика сверху вниз. — А если я тебя сейчас убью?
— Убивай! — звонко выкрикнул Изяслав. — Но прежде — меня, а уж потом — маму!
— Значит, не боишься Морены?
— Не боюсь!
Но голосок все же дрогнул, что не осталось незамеченным.
Владимир присел на корточки, чтобы оказаться с сыном вровень.
— А знаешь, что бывает с сыном, который на отца руку поднял? — вкрадчиво спросил великий князь.
— Все равно маму убивать не дам! — набычась, ответил мальчик.
— А тебе, — Владимир глянул на Рогнеду поверх белобрысой головы Изяслава. — Не жаль сына?
— Ты его не тронешь! — ледяным голосом произнесла Рогнеда.
Она уже опомнилась, обуздала чувства, загнала поглубже их все. Кроме ненависти.
— Ты его не тронешь, — Рогнеда достаточно хорошо знала Владимира, чтобы не беспокоиться за жизнь сына. Конечно, Изяславу отца не остановить. Но пусть увидит. И быть может, сумеет сделать то, что не смогла она. Отомстить. — Хочешь меня убить — убивай. Пусть Изяслав знает, кто убил его мать!
Владимир встал. Изяслав тут же отшагнул на шаг назад. Приготовился…
Великий князь отметил, что стоит сын твердо и меч держит правильно. Хорош пестун у детского. Молодец!
Великий князь вновь перевел взгляд на Рогнеду. Глаза его сузились. Он мог убить ее быстрее, чем жалит оса. Два длинных шага — и правильно развернутый меч войдет меж ребер, как игла в воск. И разрежет коварное сердце.
Рогнеда глядела прямо в прищуренные, страшные глаза… Там, в черных зрачках, металось пламя факелов и брызгала кровь на погасший очаг полоцкого кремля. Но Рогнеда больше не боялась.
Бесконечное мгновение… И княжий меч с сухим щелчком вброшен в ножны.
— Роговолтово семя, — полузло-полуодобрительно бросил Владимир.
Разрешил:
— Живи пока!
И вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.
Из Рогнеды будто стержень вынули: упала на лавку и разрыдалась.
Изяслав подошел к матери, положил рядышком легкий детский меч, обнял ласково:
— Не плачь, мама, не плачь! Ничего он тебе не сделает. Он больше не сердится, я почувствовал. А хочешь, я дядю Устаха позову?
Рогнеда вскинулась, обняла мальчика, прижала к себе. Слезы ее вмиг высохли.
— Никого не зови, — прошептала она в пушистую макушку.
Слезы ее вмиг высохли.
— Никого не зови, — прошептала она в пушистую макушку. — Никому ничего не говори. Ты прав. Не тронет он нас. Это он в гневе был. Теперь подумает — и простит. Я ему в ноги упаду… И простит.
Сама не верила, что говорит. И правильно не верила.
Владимир не простил.
И еще: он не видел, что всё это время за ним, Рогнедой и Изяславом наблюдала еще одна пара детских глаз…
Глава вторая. Большой род боярина Серегея
— Стемид! Трувор! Вот радость! — Духарев, как молодой, сбежал навстречу братьям-варягам.
Обнялись.
— А мы тебе сына привезли, — сообщил, улыбаясь, Трувор.
— Добрым воем растет, — похвалил Стемид. — Храбрец. Нерпу с удара брал. И воев убил двоих, вестфольдцев. Стрелами.
— Вы что же, на нурманов ходили? — спросил Духарев. — Ты же, Трувор, вроде с Олавом Трюггвисоном в дружбе?
— Так и есть, — подтвердил Трувор. — Ходил к нему зимой. В силе теперь Трюггвисон. Потом поведаю, о том сказ долгий. А вестфольдцы эти — сами пришли. Чудь пощипать. А Стемид прознал. И поучил воров.
— Куда пришли, там и легли, — подтвердил белозерский князь. — Жаль, взяли на них мало. Сыну твоему на полгривны добра досталось.
— Тоже дело, — одобрил Сергей Иванович. — А где ж сам добытчик?
— Он — с князем уличским, — пояснил Стемид Большой.
— Мы сказали ему: негоже так. Прежде отца следует повидать, а уж потом — великого князя, — добавил Трувор. — Да Артём твой и слушать не стал. Отец, сказал, поймет. Не осерчает.
Тут он был прав. Сердиться на старшего сына Духарев не стал. Пусть формально Илья и считался его названым сыном, но именно Артём привел Илью, тогда еще носившего одно лишь языческое имя: Годун, в род.
Тем более день сегодня особенный: ранним утром приняли Святое Крещение более тысячи присягнувших Владимиру дружинников из тех, что не ходили с ним в Византию. Да еще с полсотни тех, что ходили, но отказались креститься в монастыре Святого Маманта[58], но — передумали.
Такой праздник — самое время представить князю подросшего Илью.
Стемид и Трувор к таинству не поспели. Может, и к лучшему. Духарев не был уверен, что братья вот так, с ходу, согласятся отречься от Перуна.
— Да что я вас на подворье держу! — вспомнил Духарев. — Пожалуйте в дом, гости дорогие! Выпьем, перекусим, поговорим! Чай, есть о чем — год уж как не виделись!
— Есть, есть, — согласился Стемид Большой. — Да и пивка выпить с дороги — не худо…
И словно по сговору, при входе его встретила Лучинка-Евпраксия. С большущим рогом.
Князь белозерский отпил половину, передал рог брату, обтер высиненные усы, похвалил:
— Доброе пиво! А ты кто, красавица?
— Жена Богуслава нашего, — вместо невестки ответил Духарев. — Евпраксия.
— Везуч Богуслав! — усмехнулся Стемид. — И ликом красна, и статью величава, и, — скосив взгляд на большущий живот, — даровита! Храни тебя ваш бог, Евраксия! Муж твой — брат мне, а ты, стало быть, сестра!
Наклонился и поцеловал Лучинку в губы. То же сделал и Трувор, сунув пустой рог холопке. Поцеловал, шепнул негромко: — Богуслав-то — счастлив?
— Да, — тихонько ответила Лучинка. — Матушка сказала: сын будет. Скоро уж.
— Сладислава знает, — уважительно произнес Трувор. — Сама-то боярыня — где?
— С дедкой Рёрехом.
Болеет старый.
Вернее было бы сказать: умирает. Лучинка знала это наверняка. Но — не сказала. Трувор и Стемид — Рёреху племянники внучатые. Близкая родня. Пусть покушают с дороги, а уж потом скорбную новость узнают.
Оказалось, однако, что — знают. Сам Рёрех за ними и послал. Сообщил — умирает. Хочет попрощаться. Потому и приехали братья вдвоем. Не к великому князю, как предполагал Сергей Иванович, не по делам торговым, а к нему, Рёреху.
— А я думал — у тебя с Мореной договор, — шутливо проговорил только что возвратившийся домой Духарев, застав своего наставника в постели. Не верилось ему, что Рёрех может заболеть. Ни разу не видел, чтоб его хворь брала. И впрямь казалось: бессмертен старый варяг.
— Не шути, — строго произнес Рёрех. — Хоть ты Морене не кланяешься, а она тебя знает. Часть твоя у нее по-прежнему в залоге.
— Бог оборонит, — ответил Духарев, испытав, впрочем, некоторое беспокойство. Знал, что дед пустых слов не говорит. — А ты давай поправляйся! — Добавил шутливо: — Хорош валяться! Нужен ты, дед, роду моему!
— И без меня справитесь, — серьезно ответил старый варяг. — Не встать мне, репка-сурепка. Кончилось мое время. Новое начинается. И тебе сие ведомо, не болтай зря. Новое. А я — от старого. Вот и ухожу. Ты рот закрой и посиди рядом. Молча.
— Верно ли, что он умирает? — спросил позже Сергей Иванович жену.
Сладислава кивнула. Печально.
— Может, Лучинка поможет?
Набравшаяся восточной лекарской мудрости невестка могла знать то, что неведомо Сладиславе.
— Нет, — покачала головой Слада. — Сам он решил — умирать. Стар он, Сережа, трудно ему.
Духарев знал, что не в старости дело. Вернее, не только в старости. Но — промолчал. Рёрех решил уйти. И не было такого, чтоб старый варяг решил — и не сделал.
Артём и Илья явились уже к самому концу пиршества, устроенного для гостей.
Илья за время, проведенное у князя Стемида, вытянулся, сравнявшись ростом с Артёмом, а в кости был и пошире. Чувствовалось: богатырем растет. А лицо, если не присматриваться, совсем детское. Кожа гладкая, волосы льняные, вьющиеся… Однако если в глаза заглянуть — нет, не ребенок. Отрок.
Отрок и есть. Зимой с князем белозерским за зверем морским ходил. На руме сидел как взрослый воин. Врагов убивал.
Хотя по варяжским меркам он взрослый и есть. В свои тринадцать уже всеми воинскими искусствами овладел и даже боевого коня успел выучить. Однако место ему освободили — в самом дальнем конце стола, где он и устроился тихонько, как и подобает младшему; завладел половиной запеченного на вертеле гуся и навострил уши, потому что разговор шел — интересный. Трувор, успевший по торговым (и не только) делам сходить в нурманские земли, рассказывал об Олаве-конунге. Вернул-таки Трюггвисон себе стол отца: добился того, что провозгласили конунгом на всенародном тинге в Трандхейме. И занялся Олав тем, что обещал. Крещением нурманов.
Глава третья. Крещение Норвегии
Олав Трюггвисон ждал. Только что он велел трубить в рог, созывая людей на домашний тинг.
К этому времени все его люди сошли с кораблей и теперь ждали в готовности. Немного нервничали.
Зато сам Олав-конунг, отслужив мессу, был уверен и спокоен. И как всегда красив. Не скажешь, что вчера, на большом пиру, который он задал знатным вождям и сильнейшим из бондов, Олав пил наравне со всеми. Да, знатный был пир. Не поскупился конунг ни на пиво, ни на угощение, так что, когда на звук рога стали понемногу собираться гости, вид у многих был не слишком бодрый.
Дождавшись, когда сойдутся все, Олав взял слово и сказал так:
— Хочу, чтобы вы вспомнили, что было на тинге во Фросте.
В тот день я потребовал от бондов, чтобы они крестились. А они в ответ потребовали, чтобы я принял участие в жертвоприношении богам, как это делал Хакон. Помнится, тогда я ответил, что пойду туда, где ваше главное капище, и посмотрю там ваш обычай. Тогда мы решим, какого обычая мы будем держаться, и достигнем между собой согласия.[59] И вот я здесь и готов выполнить обязательство.
Бонды и вожди, до сего момента с некоторой опаской поглядывавшие на хирдманов Олава (а было тех немало — тридцать кораблей взял с собой конунг), успокоились и одобрительно загомонили. Однако Олав поднял руку, требуя тишины. Он еще не закончил.
— Раз уж я должен принести вместе с вами жертву богам, то я хочу, чтобы это было самое большое жертвоприношение, какое только возможно.
И вновь народ одобрительно зашумел. Однако Олав опять поднял руку, показывая, что желает продолжать.
— Самое большое и самое щедрое жервоприношение намерен я совершить, чтобы запомнили его и боги, и люди. Вот почему я выбираю для него не быков, и не коней. Не трэлей и не злодеев. Самых знатных людей принесу я в жертву богам. Лучших из лучших. Орма Люгру из Медальхуса, Стюркара из Гимсара, Кара из Грютинга, Асбьёрна, Торберга из Эрнеса, Орма из Льоксы, Халльдора из Скердингсстедьи…
И по мере того, как Олав называл имена, люди его выхватывали названных из толпы и сгоняли в кучу, словно овец. Бонды роптали, но не смели противиться, потому что сегодня было их куда меньше, чем на тинге во Фросте. К тому же многие, обманутые гостеприимством и щедростью конунга, пришли на тинг безоружными.
Более дюжины имен назвал Олав-конунг, и все называнные были действительно знатнейшими из присутствующих.
— Думаю, этого будет довольно, — завершил свою речь Олав, — чтобы следующий год был урожайным, а во всех норвежских фюльках воцарились мир и спокойствие. Верно ли будет сделать так или мне следует принести в жертву еще кого-то, чтобы ваши кровожадные боги насытились?
Тут среди бондов поднялись жалобные крики и плач, а те, кого конунг выбрал для жертвоприношения, начали громко просить пощады и заявлять о том, что готовы отдаться на милость конунга, лишь бы сохранить жизнь.
Олав смилостивился. Согласился сохранить им жизнь, но с условием, что все бонды, которые пришли на пир, примут крещение, поклянутся, что будут держаться правильной веры и навсегда откажутся от кровавых жертв.
На том и порешили. Правда, не вполне доверяя тем, кто принял правую веру под угрозой смерти, конунг счел необходимым потребовать заложников: сыновей, братьев или иных близких родичей. И получил, что требовал, потому что мечи у его хирдманов были достаточно острыми, чтобы избежать ненужных споров…
* * *- Он очень храбр, Олав Трюггвисон, — отметил Трувор. — Не боится ни людей, ни богов, поражая и людей, и кумиров боевым железом.
— Так и есть, — подхватил Стемид Большой. — Кое-кто из тех, кто не пожелали принимать новую веру, попросил у меня убежища. Они многое рассказывали о его храбрости и удаче. Должно быть, ваш бог, Серегей, и впрямь сильнее других, потому что ничем иным, кроме удачи и храбрости, нельзя объяснить то, что удалось сделать сыну Трюггви.
* * *…Здесь, в Трандхейме, в Мэрии, где находилось главное языческое капище, Олаву повезло куда меньше, чем на том званом пиру. Здесь собрались все трандхеймские вожди, которые яро противились христианству. С ними пришли и многие могущественные бонды. Все — с оружием и со своими людьми.
Олав догадывался, что так будет, но он обещал, что приедет сюда, а слово конунга нерушимо.
Итак, конунг велел начать тинг и первым держал речь, в которой потребовал то же, что и во Фросте. Принятия правой веры.
И так же, как во Фросте, от имени вождей и бондов выступил Железный Скегги, могущественный бонд из Уппхауге, что в Ирьяре.
Скегги был самым ярым противником христианства, открыто возражал конунгу и потому пользовался у язычников немалой славой. Многие готовы были признать его своим вождем, если придется силой встать против Олава-конунга.
— Мы хотим, — сказал Трюггвисону Скегги, — чтобы ты, конунг, не ломал законов наших предков! Мы требуем, чтобы ты приносил жертвы, как это делал и твой отец, и твой предшественник Хакон, и все другие конунги до тебя. А если тебе это не по нраву, то можешь убираться прочь. А не то погоним тебя силой!
Тут все бонды подняли большой шум и закричали, что пусть будет так, как сказал Скегги.
Олав поглядел на разбушевавшийся тинг, потом — на своих людей, которых было явно недостаточно для усмирения народа, — и пожал плечами.
— Если вы все здесь едины в том, что старые обычаи нужно сохранить, то я готов пойти вам навстречу. Не знаю, буду ли я приносить жертвы сам, но в знак своих добрых намерений готов пойти с вами на капище и поглядеть, как это сделаете вы.
Такой ответ пришелся по душе тингу, ведь, несмотря на значительное численное преимущество, бондам не очень хотелось драться с хирдманами конунга.
Так, помирившись, обе стороны отправились на капище.
Туда, где стояли боги, войти могли лишь немногие. Сам конунг, несколько его людей, некоторые бонды и жрецы.
Большинство же хирдманов Олава осталось снаружи, перед дверьми капища. Там же остался и Железный Скегги с самыми ярыми приверженцами.
Войдя внутрь, Олав остановился перед статуей Тора, который, будучи в Трандхейме самым почитаемым из богов, не стоял, а сидел. Был сей бог грозен и обильно изукрашен златом и серебром.
Олав поглядел на него… И внезапно изо всех сил ударил идола позолоченным жезлом, знаком своей власти, который держал в правой руке.
Удар был так силен, что идол упал со своего престола.
И тотчас хирдманы Олава выхватили мечи и принялись опрокидывать и рубить остальных богов.
А у дверей капища люди конунга так же внезапно набросились на Железного Скегги и зарубили его вместе с теми, кто пытался Скегги защитить.
И, увидев то, с какой сноровкой и быстротой убивают воины конунга, остальные бонды не рискнули вмешаться, ведь они были бондами, а не хирдманами, и война не была их любимым делом.
Расправа Олава над богами сделала свое дело. После смерти Железного Скегги, который был предводителем тех, кто противился Олаву, не нашлось никого другого, кто рискнул бы поднять знамя против конунга. В тот день был крещен весь народ, который был на тинге. А чтобы легче было людям держаться христианства, Олав, по обыкновению, взял у бондов заложников. И послал людей поехать по всем фюлькам Трандхейма и крестить всех подряд, а кто не захочет — вразумлять и тоже крестить…
* * *- А что потом? — спросил подкованный в скандинавских обычаях Богуслав. Ведь даже конунг не может убивать людей безнаказанно. То есть убивать-то — запросто. Но верегельд заплатить обязан.
Правильно спросил. Обязан. И заплатил. Причем весьма интересно. Особенно — за Железного Скегги.
* * *- …Родичи Железного Скегги решили: обычной виры за него будет мало, — рассказывал Трувор.
Но рассказывал уже не в гостеприимном доме воеводы Серегея, а в большой трапезной княжьего кремля, куда все гости и родичи Духарева дружно отправились по зову Владимира.
Все, кроме Ильи-Годуна. Его позвал Рёрех, а для всего духаревского рода воля умирающего варяга была важнее княжьей.
Собрались в княжьем тереме и во дворе его многие достойные мужи. Все новокрещеные дружинники и люди Владимира, княжья русь. Старшие — в трапезной, младшие — во дворе, за богатыми столами. Пировали как всегда. Точнее, почти как всегда, поскольку не дарили прежним богам, не славили их, а если кто по старой привычке поминал старых богов, то тут же смущенно замолкал, одернутый соседями.
И не было мест для жрецов языческих, зато за высоким княжьим столом восседали оба ромейских епископа. Эти словенской речи не разумели, но кушали хорошо. От бояр да старшей гриди не отставали.
Были, впрочем, и некрещеные. Те же Стемид с Трувором. И другие. Князь черниговский, князь туровский и прочие. Пили, ели… присматривались.
«Неволить никого не стану, — сказал Владимир. — Но, кто друг мне, тот примет истинную Веру. А кто не примет… Того я не врагом назову, а слепцом…»
Епископы ромейские обижались. Хотели, чтоб великий князь твердость проявил. «Кто не со мной, тот против меня!»
Духарев, присутствовавший при разговоре, пояснял византийцам: обычай такой здесь. Даже простых дружинников неволить не принято. Коли не по нраву им старший, могут к другому отойти. И от того обычай такой, что великий князь с ними в бой идет, а они, если надо, за жизнь, за дело его своей кровью заплатят.
Ромеи кривились: варвары, дикари… Но сделать ничего не могли. Пока.
— Так что же за виру такую… необычную род Скегги с Олава спросил? — поинтересовался князь.
— А захотели они, чтоб Трюггвисон дочь его, Гудрун, в жены взял, — ответил Трувор.
— Без приданого? — уточнил Добрыня.
— Почему же? Скегги — богатый бонд. За Гудрун хорошее приданое давали. Женихов у нее хватало.
— Так и есть, — подтвердил Сигурд-ярл. — О Железном Скегги я от многих слыхал. Известный человек, хотя и из простых бондов.
— А собой эта Гудрун как, недурна? — спросил Владимир.
— Сам я не видел, — ответил Стемид. — Дурного о ней никто не говорил.
— Вот уж вира так вира! — воскликнул уже порядком набравшийся мёду с пивом воевода Путята. — Я б такую виру хоть каждый день платил!
Владимир глянул на него строго, но Путята продолжал ухмыляться. Он принял новую веру еще в Константинополе. Однако сделал это лишь из преданности Владимиру. Жить же продолжал, как и прежде. Старым обычаем. И дома непременно отделял перед трапезой малую толику Сварогу. И чурам. Богат ныне Путята. У него на всех хватит. И на старых богов, и на нового…
— …Олав спорить не стал, — продолжал повествование Стемид Большой. — Был он человеком свободным, поскольку вторая его жена, Гюда, умерла, а жениться на другой, вдове конунга свеев, у него не получилось. Расстроился сей брак. По вине старых богов, не иначе.
— Расскажи-ка сначала о вдове конунга, родич, — велел Владимир. — О дочери бонда позже послушаем.
— Как тебе угодно, княже, — согласился Стемид. — Все мы знаем, что люб племянник друга нашего Сигурда-ярла дочерям и вдовам конунгов. Так что, когда посватался он к Сигрид Гордой, вдове конунга свеев, та отнеслась к сватовству благосклонно. Заключили договор. И как свадебный дар послал ей Олав огромное золотое кольцо, которое снял с дверей капища в Хладире. И было то кольцо так велико и тяжело, что все восхищались им и хвалили щедрость Олава. Сигрид велела позвать двух кузнецов, чтобы оценить кольцо. Но те так долго взвешивали его и качали головами, что Сигрид забеспокоилась и спросила, что с подарком не так. Кузнецы сначала отнекивались, а потом всё же сказали, что кольцо слишком легкое для своего размера. Сигрид велела разломать кольцо — и внутри оказалась медь. И решила она, что Олав обманул ее, и сильно разгневалась. Однако Олав и сам не знал, что кольцо — с обманом. И никто об этом не слыхал. Должно быть, старые боги, у которых Олав отнял кольцо, подменили золото медью в отместку за обиду.
— И что же, из-за какого-то кольца свадьба расстроилась? — спросил черниговский князь Фарлаф, человек мудрый и понимавший, что объединение владений конунга Олава и свейских земель стоит подороже любого кольца.
— И что же, из-за какого-то кольца свадьба расстроилась? — спросил черниговский князь Фарлаф, человек мудрый и понимавший, что объединение владений конунга Олава и свейских земель стоит подороже любого кольца.
— Нет, — покачал головой Стемид. — Хотя допускаю, что кольцо это как-то подействовало на Сигрид и ее дальнейшие поступки. Следующей весной она и Олав встретились, и всё складывалось хорошо, но потом Олав заявил, что Сигрид должна креститься, а та заявила, что не собирается отказываться от веры своих родичей. «Впрочем, — добавила она, — ты, Олав-конунг, тоже можешь верить в тех богов, в которых пожелаешь».
Сигрид не зря прозвали Гордой.
Олава такие слова оскорбили и разгневали настолько, что он закричал на нее и заявил, что не станет жениться на язычнице. И даже ударил ее перчаткой, которую держал в руке. Тут люди Сигрид схватились за оружие и люди Олава — тоже, но до крови дело не дошло, потому что сила была на стороне Олава.
«Такой поступок, — пообещала ему Сигрид, — будет стоить тебе жизни!» И Олав уехал. Свадьба, ясное дело, не состоялась.
— Вот так, — завершил Стемид Большой, — старые боги не позволили Олаву стать конунгом свеев.
Многие на княжьем пиру задумались. И было о чем. Всем ясно, что в этой истории боги нурманов оказались сильнее Христа.
— А что же Гудрун, дочь Скегги? — вмешался Артём, угадав, что встревожило новокрещеную гридь. — Женился ли на ней Олав-конунг?
— Да, — кивнул Стемид Большой. — Но в первую же ночь, едва конунг заснул, она ударила его кинжалом.
— Почему ты молчал, Стемид? — воскликнул Сигурд. — Что с моим племянником? Он жив?
— Чтоб женщина убила такого, как Олав Трюггвисон? — Белозерский князь засмеялся. — Конечно, он жив. Олав проснулся, удержал руку Гудрун и отнял у нее кинжал. А потом вышел к своим людям, пировавшим в доме, и рассказал о том, что случилось.
— Что он сделал с ней? — быстро спросил Владимир, выказав неожиданное волнение. — Убил?
Стемид покачал головой:
— Велел ей забрать приданое, своих людей и убираться прочь.
— Простил, значит… — сказал кто-то.
— Можно сказать и так, — отозвался Стемид.
Тут снова вмешался Сигурд-ярл:
— Мой племянник не настолько глуп, чтобы мстить женщине! — заявил он. — Сделать так — значит признать, что ты испугался бабы с железом в руках! Вот смеху будет!
— К тому же, — негромко проговорил Добрыня, обращаясь к своему племяннику. — У Железного Скегги наверняка было немало родичей и сторонников. Зачем же Олаву, заплатившему виру и решившему дело миром, вновь ссориться с ними? Как верно сказал наш Сигурд-ярл: он не настолько глуп.
Добрыня не знал о том, что произошло ночью между Владимиром и Рогнедой. Великий князь не стал никому рассказывать о случившемся. Жить Рогнеде или не жить, он должен был решить сам. И он тоже не был настолько глуп, чтобы посчитать так вовремя рассказанную историю женитьбы Олава случайностью.
— Бог защитил Олава! — твердо произнес Владимир.
И никто ему не возразил.
* * *- …Наклонись ближе, Годун, — просипел Рёрех. — Многое хочу тебе рассказать прежде, чем уйду за Кромку. Многое… Только тебе. Никто из родичей твоих знать не должен, потому что силу эту принять лишь один может и выбран из всех ты…
Хрипло, невнятно говорил старый варяг. Илья слушал напряженно, запоминая каждое слово, впитывая памятью, не упуская ничего, потому что знал: повторения не будет.
— …У заветного дуба на заветной горе ляг на землю, Годун, и попроси ее. Слов не ищи. Земля, она сама слова подскажет. И сама всё верному даст, лишь бы место — правильное.
— А как его найти, правильное место? — спросил Илья.
— А найти его нельзя, — ответил умирающий варяг. — Оно само находит. И само дает. Ты, главное, почуй его. И возьми.
— А что даст-то, дедко Рёрех?
— А что надо, то и даст, — в горле старого свистело, будто кто-то на дудке наигрывал.
— А что мне надо? — спросил Илья. — Есть у меня всё. Разве вот слава… Да я ее и сам добуду.
— Дурень ты, — прохрипел Рёрех. — Не тебе надо. Ей. Наклонись-ко…
Вцепился жесткими пальцами в льняную макушку Ильи с неожиданной для умирающего силой, забормотал что-то… Колдовское, не иначе.
Илья не испугался. Знал: дедко Рёрех дурного не сделает.
Пальцы разжались. Дед, ослабев, лежал неподвижно. Дудочка посвистывала.
Илья подумал: заснул, ан нет. Единственный глаз умирающего вновь приоткрылся.
— …Там старые боги… — чуть слышно прохрипел Рёрех. — Мокошь… Земля… Тебе… Всё…
Илья подумал: «Бредит». Но все же спросил:
— Почему мне, дедко? Я Христу-Богу кланяюсь. Старые боги — не мои. Вот Перун разве…
— Перун… — повторил старый. — Перун еще послужит… Послужит… А тебе — дастся… Боги… Много… Разные… Земля — одна… Кровью поена… Щедра… Да не всякому… — И неожиданно твердо: — Тебе — даст. Запомни: заплутаешь в мире — на место мое иди. Я помогу.
— А где оно, место твое, дедко? — спросил Илья. — Где курган тебе насыплют?
— Дурной… — Ус Рёреха дернулся. Умирающий силился улыбнуться. — В костях горелых… Дурной… — И снова забормотал непонятное.
Илья наклонился низко — ухом к самым губам, чтобы не упустить ни слова… Уловил только два слова: «Халег Ингварсон»… Вроде бы.
И тут Рёрех заговорил внятно и твердо, будто новая сила в нем открылась:
— Место мое твой отец знает. Попроси — покажет. Скажешь, что я велел… Сила твоя — земля есть… Слава твоя — огнь вечный… вещный…
Глава четвертая. Крещение Руси
Три дня спустя
Конная гридь стеной стояла вокруг капища. Суровая, молчаливая, с опущенными книзу копьями.
Ниже, не смея подходить к воинам, от которых так и веяло угрозой, колыхалась многотысячная толпа. Неестественно тихая. И это притом, что, казалось, сам воздух звенел от напряжения.
А вот звонкие частые веселые удары топоров казались вполне уместными в этот ясный солнечный день. Самое время поработать!
Но только это не избу рубили или лодку. Хирдманы Сигурда, громко переговариваясь по-своему, пускали на щепу то, чему испокон кланялись жители этих мест. Не просто так поручил Владимир это дело именно нурманам. Что для них словенские идолы: Сварог, Стрибог, Мокошь…
Богуслав увидел, как текут слезы по щекам воеводы Путяты. Они никогда не были друзьями, скорей — наоборот. Однако сейчас ему до физической боли стало жалко полянского воеводу, принявшего христианство, но лишь из преданности своему князю.
Тронув коня, он оказался рядом, положил ладонь на стиснутый до белизны кулак.
Путята обернул к нему исказившееся лицо…
— Как же это… — с мукой пробормотал он. — Это ж боги наши… Отцов, дедов, пращуров… Как же их так? Как же дальше-то жить? Значит — ни праздников, ни радостей? Кто теперь благословит поля, женщин? Кто отгонит зло?
— Всё будет хорошо, Путята, — негромко произнес Богуслав.
— Это ж боги наши… Отцов, дедов, пращуров… Как же их так? Как же дальше-то жить? Значит — ни праздников, ни радостей? Кто теперь благословит поля, женщин? Кто отгонит зло?
— Всё будет хорошо, Путята, — негромко произнес Богуслав. — И земля родить будет, и праздники… Как же — без них?
Тут только Путята понял, с кем говорит, резко выдернул руку и отъехал в сторону. Жалость от природного христианина была ему сейчас — еще большая боль.
Нет, Путята не роптал. Ни на князя, ни на Добрыню, которого держал вместо отца. Он — не противился. Он принял Крест вместе со своим князем. Ну и что? Еще один бог, еще один амулет… Но смотреть, как губят родовых богов, — нестерпимо! Это как видеть, как горит твой дом отчий, слышать, как кричат, сгорая, близкие, родичи…
И ничего не сделать!
Хотелось развернуть коня, сбить, разметать нурманов, встать на защиту… И не один бы встал — многие поднялись бы! Все, в ком течет словенская кровь!
Нельзя. Княжье слово!
Путята не смотрел, но спиной слышал, чуял, как кричат казнимые боги. «За что? — кричат. — Мы же — ваши! Мы же вас хранили! Из века в век…»
Зачем?!
Три дня назад, на пиру, слушал Путята рассказ князя Стемида о том, как казнил нурманских богов нурман Олав, — и весело ему было. Кичливые, наглые нурманы. И боги у них такие же. Наглые, лживые, алчные. Такого нурманского бога топором, да еще нурманским топором — любо! А тут тем же нурманским топором…
Путята поглядел ввысь: всё так же пылает в поднебесье Сварогово Колесо. Не скатится вниз, не спалит огнем кощунов.
Не выдержав сияния, опустил Путята глаза на землю: хорошая земля, добрая, надежная, тучная… И не разверзлась, когда нурманский топор пробил грудь Мокоши. Не поглотила обидчика…
Путята оторвал взгляд от стоптанной травы, глянул на великого князя. Лица не увидел, только прямую спину и гордо поднятую голову. И по одной лишь посадке прочитал: нет у Владимира Святославовича сомнений.
Как он сказал сегодня им всем, дружине, гриди, воеводам: «Я знаю, что делаю, и всё, что делаю, — на благо руси!»
Путята любил своего князя. Владимир поднял его, возвел в воеводы, ценил, жаловал щедро, а требовал лишь одного: верить.
И Путята верил. В князя. И даже в Христа… немного. Но верить в то, что боги полянские, боги отцов, дедов, пращуров — должны сгинуть… В это Путята поверить никак не мог. Не вмещалась их боль в воеводином сердце.
— Вот что мучит меня, — наклонясь к Стемиду, проговорил Трувор. — Как же — отцы, деды наши? Мы крестимся, спасемся, а как же они? Неужто они теперь все — в аду огненном?
— Не знаю, брат, — прошептал в ответ Стемид Большой, князь белозерский. — Может, и в аду, а может, и еще где за Кромкой. Да ты не думай о том. Если они — в аду, так были там и прежде, и уж ничего поделать нельзя. Думаешь, они печалиться будут от того, что ты обретешь лучшую участь? Ты сам подумай: если б ты погиб, а дети твои спаслись — не радовался бы?
— Может, повременить с Крещением? — спросил Добрыня племянника. — Не нравится мне народ наш. Тихий очень. Не случилось бы беды.
— Нельзя, — одними губами, не поворачиваясь, проговорил Владимир. — Только что мы лишили их божьей защиты. Пусть то были лживые боги, неправильные, но они их берегли. И теперь один лишь Иисус может охранить их от зла. И от гнева этих… Прошлых. Нет! Будет — как я сказал. Не тревожься, дядя. Гридь верна мне. Даже те, кто не был с нами в Византии. Считай, что пришли мы на новую землю, дядя. И чтоб даже у самых слабых не возникло желания отступить, мы должны сжечь корабль, на котором пришли.
И чтоб даже у самых слабых не возникло желания отступить, мы должны сжечь корабль, на котором пришли. Верь мне, Добрыня, брат матери моей! Верь! Я — вижу!
Превращенные в груды щепы кумиры занялись бесцветным огнем. А тем временем лучшие гридни Владимира, все — варяги, обвязали веревками золотоусого Перуна и аккуратно, почти бережно опустили на траву.
— Перун Молниерукий, — шепнул, наклонясь, сотник варяжский Свардиг в большое деревянное ухо идола, — услышь меня: не тебя — глупое дерево увозим. Не гневайся…
И махнул рукой, чтоб тащили идола вниз по Боричеву взвозу — к Ручью, а затем, отталкивая шестами от берега, сопроводили к Днепру, где неспешно отгребали против течения две тридцатишестивесельные лодьи.
С лодий сбросили концы, оплели основание идола, гребцы сменили скамьи, и лодьи, будто птицы-лебеди, заскользили вниз, увлекая статую варяжского бога.
Тотчас цепочка пешей гриди побежала по полю, огибая, охватывая толпу…
Сотни священников, гордые и счастливые от того, что Бог даровал им участвовать в великом подвиге, с торжественным песнопением двинулись к реке.
— Пора и нам, — негромко сказал брату Стемид Большой, передал отроку пояс с оружием, шлем, наручи золотые, цепь, скинул сапоги, развязал гашник просторных штанов из красного шелка, стянул через голову рубаху и босиком, в одних лишь исподних штанах, неторопливо двинулся к воде, где множество ромейских священников кропили речной водой людские головы.
Трувор замешкался. Он смотрел на лодьи, что уходили вниз по течению, провожая Перуна, на толпу киевлян внизу, в реке. Ноги не шли. Отяжелели, будто не босиком на траве, а по колено — в осеннем болоте. Но Трувор — превозмог. Шагнул раз, другой… И полегчало. Сбежал вниз, в воду, растолкал смердов, прихватил за мокрую темную рубаху молодого кудрявого ромея, развернул к себе (лицо у ромея сразу сделалось по-детски испуганное, жалкое) и приказал по-словенски:
— Делай, что надо, жрец!
И ромей понял. Или угадал. Но вдруг преобразился. Такие лица Трувор видел многажды. У воинов, что предвкушают опасную, славную радость грядущей сечи…
И поразился Трувор.
Духарев глядел на великого князя, на его отрешенное лицо, и казалось Сергею Ивановичу, что видится ему то же, что и Владимиру.
А виделись Владимиру не толпы киевлян, сгоняемых к воде дружинниками, а лики Спасителя и святых в великолепном храме Святой Софии и будто невесомый купол ее, незримо осеняющий Русь…
* * *Поздним вечером посланец великого князя привез в Предславино повеление: Рогнеде надлежало, не медля, начать сборы и отбыть в вотчину ее рода, Полоцк. Младшие сыновья, Ярослав и Мстислав, отправлялись вместе с ней. Изяслав оставался в Киеве. Вместе с пестуном, бывшим воеводой убитого Владимиром полоцкого князя, Устахом.
* * *Илья задремал. Очнулся, лишь услышав снаружи, на подворье, шум. Родня возвратилась.
Рёрех тоже очнулся. Открыл слезящиеся глаза. Поглядел испытующе:
— Всё ли поведал тебе, Годун? — спросил он неожиданно твердым голосом.
Илья промолчал, но Рёрех и сам знал ответ.
— Коли так, зови всех. Умирать буду. Пришло мое время.
Старый варяг умер на закате. Когда темные от усталости, но светлые от Благодати священники надевали кресты на шеи последних из тысяч новокрещеных киевлян.
Умер среди своих, в окружении кровных и названных родичей. Варяг, княжич, вождь, калека, ведун… Не умер — ушел. И ушел — счастливым. Позже. На рассвете. В пламени. Как и положено варягу. С мечом в руке.
А еще через час, в малой баньке Духаревского подворья любимая и единственная жена младшего сына боярина-воеводы родила первенца. Мальчика.
Глава пятая. Княжеский дар
— Сельцо это Моровом зовется, — сообщил Добрыня.
— Отныне оно и всё, что на пять стрелищ выше и ниже по реке, земля вся окрестная, и бор, и поля окрестные, сколько уж сам поглядишь по камням межевым, но немало, — владение твое и рода твоего, — сказал Добрыня и усмехнулся: — Ну как? Любо?
Духарев молчал. Честно сказать, у него не было слов. Вместо обещанных ранее трех мелких деревенек под Берестовым, Владимир отдавал ему чудное место. Два километра берега реки, прилегающие к нему поля и луга, дубовый бор… И не какой-нибудь реки, а пойму Десны, важнейшего из притоков Днепра, там, где Десна извивается ужом, образуя многочисленные рукава и старицы, наверняка богатые рыбой, на границе земель киевских и черниговских, на торном пути, что связал Киев и Чернигов… Словом, на месте не только богатом и важном, но — стратегическом…
Шагах в ста ниже по течению, за излучиной, к берегу вышло стадо кабанов: несколько маток с выводками, полдюжины подсвинков… На людей стадо внимания не обратило.
Добрыня с удовольствием наблюдал за Духаревым. Нравился ему произведенный эффект.
Ну да, не ожидал Сергей Иванович подобной щедрости. Думал: выделят ему кусок земли где-нибудь в болотистых чащах. В самой середке слабозамиренных радимичских племен. А тут такой дар…
— Удел этот племянник мой повелел считать княжьим, — Добрыня точно решил добить Сергея Ивановича. — И именоваться ты будешь отныне князем Моровским. И ждет от тебя великий князь, что возведешь ты здесь, над Десной, городок крепкий, из которого и водный и сухой пути держать можно. Однако… — Добрыня сделал многозначительную паузу, — хоть и право у тебя на земле этой будет княжье, однако мыта брать с проплывающих-проезжающих ни ты, ни родичи твои не должны. Полагаю, князь, ты достаточно богат, чтобы без него обойтись? Верно?
«Ага, — сообразил Духарев. — А подарочек-то хоть и щедрый, но — с двойным дном».
Место — пограничное меж двумя княжествами. Когда-то за радимичами было. Теперь, после того как Волчий Хвост, воевода киевский, радимичей замирил, стала эта земля за киевским князем. Однако, поставь здесь Владимир крепость — Фарлаф черниговский не поймет. Решит: против него. Подозрителен черниговский князь. Старшинство Киева признает, но за свободу свою держится крепко и ревниво.
А контролировать дорогу, что идет вдоль Десны надо. Потому что леса здесь весьма дремучи, а народишко, несмотря на близость центров цивилизации, изрядно дик. И дабы не случались истории вроде той, в которую Духарев сам угодил зимой, нужна полноценная крепость с полноценным воинским гарнизоном. И он, Духарев, — идеальная кандидатура для реализации этой идеи, поскольку у него и средства есть, и воинский контингент для вразумления разбойничков. Ну и ладненько. Как-никак, подарили Сергею Ивановичу не кусок хрусталя, а здоровенный алмаз, который да, нуждается в огранке и соответствующей оправе. Но от этого не перестал быть великой драгоценностью.
— Не ожидал я… — произнес он совершенно искренне. — Щедро, Добрыня! Ой как щедро!
— Когда выезжали, думал небось, куда-нибудь на болота тебя приведу? — безошибочно угадал Добрыня. — Нет уж! Сидеть ты будешь именно здесь, от Киева поблизости. Чтобы, коль возникнет в тебе у племянника моего нужда, а возникнет она непременно, был ты не за тридевять земель, в болотах радимичских, а рядом. А теперь, князь-воевода, держи грамоту свою и поехали в сельцо. Оно теперь — твое. Так что и угощать ныне ты будешь! Я бы от молодого поросеночка не отказался…
Духарев намек понял:
— Равдаг! Пошли десяток. Пусть свинятины на обед возьмут.
— Бать, а мне можно? — попросил Илья.
— Можно.
Илья расцвел. И сразу попросил:
— Мне бы рогатину.
И сразу попросил:
— Мне бы рогатину.
— Рогатину? — Духарев поднял бровь. — На поросенка?
— Так там и матки есть! Бо-ольшие!
— Ты, сынок, уважение к отцу имей, — усмехнулся Духарев. — Не у всех такие волчьи зубы, как у тебя.
По правде говоря, для своего возраста у Духарева зубы были замечательные, но потакать младшему сыну он не собирался.
— Будет тебе поросенок! — пообещал Илья. — Три!
Раскрыл колчан и принялся отбирать охотничьи срезы. Тем же занялись и выбранные Равдагом дружинники. Может, кто из них и пожалел, что вместо молодецкой охоты грудь в грудь с матерым зверем будет скучноватый отстрел детенышей, но — помалкивали. Их отправляли не на развлечение, а на мясозаготовку.
— Лихой у тебя сынок растет, — заметил Добрыня, когда охотники отбыли, а бояре с остальными, вернувшись на дорогу, поехали к сельцу. — Добрым воем будет. Владимир мой, по просьбе князя уличского, сам его попробовал. Говорит: ловок и силен не по годам. А ведь не кровный он тебе — из смердов.
— И из смердов, случается, богатыри вырастают, — отозвался Духарев. — Артём его в род наш привел, потому что за храбрость выделил. А я уж постарался, чтоб пестуны у него были добрые. Зиму и весну он у Стемида Большого жил, а до того — в Тмуторокани у родича моего Машега. Да и братья поучаствовали: Артём с Богуславом. А главное — Рёрех. — Духарев вздохнул. Смерть старого варяга еще не стала прошлым. — Он ведь и меня учил, Добрыня. И даже Асмуда… Помнишь варяга Асмуда, Добрыня?
— Пестуна Святославова? Помню.
Тут Добрыня тоже вздохнул. Он тоже немолод. А дел впереди — много.
— Рёрех-варяг, — проговорил он задумчиво. — Не грусти о нем, Серегей. Такую жизнь боги не всякому дают…
— Это верно, — согласился Духарев. И не стал поправлять Добрыню: мол, не боги, а Бог. Потому что для Рёреха то были именно боги. Те, чьё время — кончилось.
* * *Илья потерялся. Меж столетних дубов. Почувствовал себя мелким и незначительным, как мышонок посреди избы. Давно с ним такого не было. Пожалуй, с того времени, как взял в руки собственный, детский еще, меч.
Теперь у Ильи был настоящий боевой клинок, годный под взрослую руку, под его руку. Но тут, под сенью резных листьев, двигались многосаженные тени и говорили на том языке, что существовал еще до рождения пращуров.
Конь Ильи, названный Голубем за быстроту и сивую масть, остановился, копнул копытом старую листву…
Илья замер. Теплый, душный, грибной, неподвижный воздух глушил звуки. Даже птах не слышно…
«…У заветного дуба на заветной горе ляг на землю, Годун, и попроси ее. Слов не ищи. Земля, она сама слова подскажет. И сама всё верному даст, лишь бы место — правильное.
«А как его найти, правильное место?» — спросил тогда Илья.
«А найти его нельзя, — ответил умирающий варяг. — Оно само находит…»»
Илья опомнился, уже лежа на земле, впившись пальцами в мягкую подушку листвы. Поднял глаза и увидел гриб. Небольшой крепкий боровик с улитой на шляпке. А дальше — кровавую лужицу.
Илья встал.
Голубь беспокойно фыркнул в ухо.
Илья ласково коснулся жеребца. Уже понял, откуда кровь. С притороченного к седлу кабанчика накапала.
Зашуршала листва. Конь тихонько заржал: «Я тебя предупреждал, хозяин, а ты и не понял…»
— Хорош у тебя жеребчик!
Меж дубов стояли двое.
Беловолосый дед, видом сварг или волох, но с незнакомым золотым оберегом на груди, да еще таких размеров оберегом, что любой из знакомых Илье нурманов при виде его слюной бы захлебнулся.
А с дедом — зверовидный косматый смерд, такой большой, что даже брату Богуславу не пришлось бы глядеть на него сверху вниз. На голове у косматого располагалась медвежья башка со слепыми глазами и оголенными в смертном оскале зубищами. Такие же зубищи, вперемешку с «живыми» и «мертвыми» оберегами, частично прикрытые нечесаной бородищей, возлежали на бочкообразной груди нестриженого великана.
«А вот оружие у лесовика — не очень», — отметил Илья. Тесак за поясом да топорик, изрядных, правда, подстать хозяйской руке, размеров.
— Кто жеребчика-то учил, княжич? — насмешливо спросил косматый. — Пестун?
Голос у него был подходящий: гулкий, низкий, а выговор похож на древлянский, но не древлянский, мягче.
«Я не княжич», — хотел было возразить Илья, но вспомнил, что недавно сказал отцу Добрыня, и возражать не стал.
Не поворачивая головы, он знал, что его обступили со всех сторон. Не менее дюжины. И, судя по скрипу тетивы, самое меньшее — четыре лука. Нехорошо. Луки, ясное дело, не боевые, а охотничьи. Боевой никто зазря, даже вполсилы, натягивать не станет. Но легкую кольчужку Ильи с тридцати шагов и из охотничьего лука пробить можно, если стрела правильная и правильно попасть… Ну так это еще попасть надо…
Сам Илья, может, с лучниками потягался бы, да Голубь рядом. На нем брони нет. Погубят жеребца. Сами-то бить в коня не станут — дорогой, но, как начнут Илью целить, непременно попадут в Голубя. Да и не станет жеребец смирно стоять: решит, что хозяин в опасности, — сам нападет.
Отослать бы его, но не приучен к такому боевой жеребец. Лежать может, в траве прячась, хозяина защищать, врага чуять… А вот убегать по хозяйскому приказу — нет.
Лишь представил Илья, как стрела бьет в шею Голубя, — и сердце захолонуло.
Еще изнутри поднимался стыд. Он, воин, лежал на земле, ничего не видя, не слыша подобравшихся смердов…
Хотя есть ли его вина в оплошке? Дивное случилось…
— Ты кто? — негромко, но веско спросил Илья, обращаясь не к косматому, а к седому.
— А тебя, юнак, мамка с папкой вежеству, знать, не научили! — встрял косматый. — Не то знал бы, что на чужой земле господину ее вопросы задавать дурно. Невежде и шкурка железная не поможет. Сыму!
Илья невольно усмехнулся.
«Сойдись мы с тобой, смерд, один на один, я бы тебе показал, как «шкурки» снимают».
Поймал взгляд седого: цепкий, острый… Вспомнил Рёреха, и усмешка сбежала с лица. И потому, что деда жаль, и еще от того, что новую опасность заподозрил. Если старый — ведун, худо может выйти. Хотел молитву прочитать, но на глаза вдруг попала кровавая лужица кабаньей крови, и само собой как-то совсем другие слова пришли. Сначала — в голове будто кто-то, голосом Рёреха усопшего, проскрипел: «…Земля, кровью поена…»
А потом в памяти сам собой всплыл рассказ вятича Бобреца, взятого отцом в рядные холопы по торговому делу.
«…В прежние времена как было, — рассказывал Бобрец. — Коли два рода земли поделить не могли, то, чтоб лишней крови не лилось, выставляли каждый по богатырю. Чей победит, тех и земля. Оттуда и обычай у нас пошел — длани крепить…»
Что такое «крепленая длань», Илья на себе испытал, когда к вятичам в плен угодил в те времена, когда его еще по-детски Гошкой звали…
И сразу понял Илья, что вспомнилось не просто так. И сразу слова нужные нашлись.
— Твоя земля, значит? — проговорил Илья звонко, с вызовом глядя на седовласого. — А твоя ли? Докажи!
Косматый засопел сердито:
— Доказать? — хмыкнул он.
— Тебе, что ли? Да…
И умолк, остановленный прикосновением руки седовласого.
— Мне! — твердо сказал Илья. — По обычаю.
Медленно, чтоб не подумали лучники, что напасть хочет, Илья взялся за вонский пояс, расстегнул, снял вместе со всем, что на нем было, повесил аккуратно на седло.
Так же неторопливо стянул кольчугу, поддоспешник, глянул на косматого, спросил:
— Что стоишь, борец? Иль забыл обычай?
Косматый поглядел на деда. Похоже, растерялся великан… А может, не было у здешних такого обычая, как у вятичей? Вот это было бы некстати…
Но одно Илья знал точно: не станут люди здешние бить стрелами того, кто оружие отложил. Не печенеги, чай. И лишней крови не прольют, если угрозы не видят…
— Ну что? — спросил Илья надменно. — Встанешь за землю свою сам или кого другого выставишь? Покрепче?
Седовласый чуть заметно кивнул, и косматый оживился:
— А ты, однако, нахальный юнец! Я ж тебя задавлю!
Стянул с головы медвежью башку и сунул появившемуся из-за деревьев родичу.
Одиннадцать их вышло из-за дубовых стволов. Шестеро — с луками, остальные — с рогатинами да топорами. Без броней, хотя это понятно: откуда бронь у смерда? Но — не пахари. Лесовики. Оружие держат умело. Сноровисто. Опасно. Одно хорошо: есть и у здешних обычай, схожий с вятицким. Теперь дело за малым: лешего этого оземь приложить.
— Стой, — шепнул Илья коню, легонько потрепав холку. — Не обидят нас. Не получится.
Косматый тем временем стянул через голову шитую красной нитью рубаху, обнажив широченную волосатую грудь и тяжкие плечи с татуированными узорами охранных знаков…
Илья тоже скинул свою, положил к прочей одежде. Встряхнул руками, покрутил головой, подышал правильно, чтоб кровь быстрее побежала и сила внутри проснулась…
Косматый уставился на литой золотой крест на груди Ильи.
— Это что? — показал пальцем.
— Знак Бога моего, — ответил Илья.
Пожалуй, стоит и сапоги снять. Листва мягкая. Верховые сапоги с каблуками тут — нелучшая обувка. В правом сапоге, правда, ножик спрятан, но в дело его пускать всё равно нельзя.
— Слыхал я, — неожиданно сказал седовласый, — в Киеве теперь только ему, на древе повешенному, кланяться велено, а наших, настоящих богов, князь киевский огню предал. Верно ли?
— Долго ж до вас слухи идут, — заметил Илья. — С тех пор уж одиннадцать раз солнце взойти успело. И дождик угольки от колод трухлявых дважды размыл. А ты их жалеешь, что ли? Иль мертвое дерево так сильно любишь? Я вот живое предпочитаю! — И, действуя опять по наитию, шагнул к ближайшему дубу, прижался к коре щекой, погладил, как только что — коня. — Живое на земле встает, а мертвое — в землю уходит.
Не свои это были слова — Рёрихом в предсмертии произнесены. Но — к месту.
— Диво дивное, — сказал седовласый. — Юнак гололицый, а говорит будто ведает.
Непонятно: то ли с насмешкой сказал, то ли — всерьез.
Илья в ответ улыбнулся, показав ровные зубы. Не без усилия отлип от дуба, встряхнул кистями, подпрыгнул разок, другой…
— Ты, — сказал он косматому лесовику, — раздавить меня хотел. А сам в землю врос, аки дуб. Ждешь, когда желуди в волосах народятся?
— Счас ты у меня по-другому запищишь! — пообещал космач. И, не медля, попер на Илью, косолапо, вытянув ручищи. Чисто медведь…
«Нет, не надо обижать медведя, — подумал Илья. — Медведь, он так по-глупому никогда не полезет. Мог бы догадаться, что, раз отрок — при мече в доспехах, значит, непрост».
— Медведь, он так по-глупому никогда не полезет. Мог бы догадаться, что, раз отрок — при мече в доспехах, значит, непрост».
Однако глупым оказался не косматый дядя, а сам Илья.
Только он примерился как бы половчее перехватить косматого великана и сбить с ног, а еще лучше — обойти и врезать локтем по затылку, как могучий лесовик с неожиданным проворством махнул вперед, выбросил ручищу, сцапал Илью за шею (ну точно медведь — лапой когтистой) и рванул к себе, опасно наклонив голову, чтоб приложить Илью лицом о твердую кость надо лбом.
И вышло бы, не успей Илья углом выставить локоть, которой пришелся косматому точно в нос.
От неожиданности лесовик разжал пальцы. Илья тут же влепил ему пяткой по стопе (лесовик, похоже, и не заметил — может, зря Илья сапоги снял?), ухватил за толстый, корявый, как древесный корень, большой палец шуйцы и дернул что есть мочи, выворачивая наружу и вверх, как учили сызмала. Движение было привычное, ведь еще недавно Илья был мальцом в три локтя ростом, а бороться ему приходилось с рослыми, вошедшими в силу соперниками, которые были настолько же больше детского, насколько лесовик-великан — больше отрока Ильи.
Косматый, даже не хрюкнувший, получивши локтем в носяру, взвыл, дернулся, силясь освободить палец… Да так неудачно, что и вовсе вывернул из сустава.
Тут уж лесовик совсем рассвирепел, махнул правой лапой, пытаясь ухватить за волосы (Илья еле уклонился, но палец всё равно не выпустил), оступился, схлопотал ребром стопы пониже коленного сгиба, просел на левую ногу, уже падая после резкого, всем весом и силой рывка Ильи, попытался снова схватить отрока, но не достал и повалился на спину.
Тут уж и Илья не сплоховал: поставил ногу лесовику на бороду. Вернее, прямо на горло. И палец злосчастный, вывернутый под немыслимым углом, тоже не выпустил. Упрямый космач схватил Илью за ногу, но Илья добавил на нее весу, да так, что лесовик захрипел и произнес четко:
— Отпусти. Моя сила взяла.
И убрал ногу, когда косматый разжал пальцы.
Великан поднялся. Глянул свирепо, сверху вниз…
«Может, зря я ему горло не разбил? — забеспокоился Илья. — Вдруг тут до смерти положено биться?»
И на всякий случай приготовился увернуться, если лесовик попытается его схватить…
Не попытался. Прокосолапил к седовласому, который, не глядя — смотрел он на Илью, — взял великанову лапищу, дернул разок (косматый охнул), вправляя вывернутый палец…
Илья расслабился. Похоже, миновала опасность. Расслабился, мигнул…
И обнаружил, что вокруг никого нет. Ни седого, ни косматого, ни остальных. Будто морок пропал.
— Господи Иисусе Христе… — пробормотал Илья.
Все-таки отвел глаза, колдун языческий! Или и впрямь морок?
Нет, не морок. Вон следы остались, листва разворошенная…
Глаза отвел, но не тронул. Мести родичей испугался? Или обычай почтил?
А если обычай, то, выходит, по старинному праву он, Илья, теперь хозяин земли этой?
* * *- Не надо было его трогать, — проворчал Ярош, баюкая поврежденную руку. — Видать, боги его на место священное привели. Видели ж, как кланялся им. Зачем, Сновид?
Жрец помолчал, перебирая узловатыми пальцами обереги, вплетенные в седые космы, потом изрек:
— Еще кровь принес.
— Кровь-то — случаем, — возразил Ярош. — С дичины накапало.
Жрец поглядел на него, как на ребенка.
— Случайно на вещую поляну приехал, случайно земле кланялся, случайно кровь ей дарил?
— Я — что? — смутился Ярош. — Я богов не слышу. Что скажешь, то и делаю. Что ты, Сновид, скажешь, — уточнил он. — Мне то непонятно, почему его, чужака, повешенному богу кланяющегося, наши боги приняли? Почему он, юнак, щенок, коему зим пятнадцать, не более, меня низверг, а, Сновид?
— Не пятнадцать, четырнадцать… будет, — сказал жрец.
— И не щенок он, а вой киевский, что крови живой, человечьей попробовал. И не таи зла. Пожалел он тебя.
— Он? Меня? — вскинулся Ярош. — Да кабы ты меня не отозвал, я б его… — и осекся под строгим взглядом жреца.
— На ногу свою глянь, — сказал тот.
Ярош поглядел. Распухла нога. Даже в обувку не влезла. Ну и что?
— Поболит — пройдет, — буркнул Ярош. — Кости целы, сам же сказал.
— А приложил бы он тебя так по горлу, было бы цело? — спросил жрец. И, не дождавшись ответа, продолжил: — Пожалел. А мог бы и убить. И земля б твою кровь приняла. Я б на его месте так и сделал.
— Значит, надо было Вячка послушать и убить, пока он мордой в землю лежал, — заявил Ярош.
Жрец опять поглядел на него как на несмышленыша.
— Сильный ты вождь, Ярош, а думать так и не научился, — сказал он укоризненно. — Так подумай: позвал ты в дом гостя. Тот пришел по чести, подарок тебе принес… А сын твой или внук его исподтишка взял да и зарезал. Что тогда?
— Смерти предам ослушника! — не раздумывая, ответил Ярош. — А как же иначе?
— Вот потому я и не разрешил Вячке, дурню, стрелять, — сказал жрец. — Сам же сказал: земля его позвала, дар крови от него приняла… А тут Вячко, как тот внучок…
— Не могла его, чужака, земля принять, — буркнул Ярош. — Наша это земля. И боги наши…
— Была наша, а теперь — его, — напомнил Сновид. — Он тебя побил, и по старинному праву земля эта теперь роду его принадлежит.
— Наша земля?! Христианину?! — взвился Ярош. — Ты в том виноват, Сновид! Зачем велел мне с ним биться?
— Потому и велел, что знать хотел, — загадочно ответил жрец. И Ярош ответом не удовлетворился.
— Что знать? О чем?
— Посыл от лехитов к нам приезжал, помнишь?
— Помню. Так он не только к нам приезжал — ко всем родам корня нашего.
— А чего хотел, помнишь?
— Да ясно чего — чтоб мы от Киева отложились. Оружие доброе дать обещал… И что? Дней пять старшие тогда судили-рядили, как быть, думали даже князя выбрать… Да так ничего и не решили. Один лишь Соловей с лехитами в дружбу вошел.
— Соловей — изверг, — строго произнес Сновид. — Ему лишь бы мошну набить. А старшие о родовичах думают. Потому что помнят, как нас воевода киевский побил, да как бежали от него без оглядки. Вот и боятся теперь.
— Неужели тоже боишься, Сновид? — с сомнением проговорил Ярош.
— Я не боюсь, я слушаю.
— Старейшин, что ли? — с еще большим сомнением произнес Ярош. — А по-моему, так это они тебя слушают. Да только ты молчал.
— Молчал, потому что не знал, как для рода нашего лучше. А теперь — знаю. И ты мне помог.
— Это как же?
— А так, что побил тебя отрок киевский. На вещей земле. И ясно мне всё стало.
— Значит, не будем против Киева подниматься?
Сновид покачал головой.
— Ну тогда я домой пойду, — сказал Ярош, но, прежде чем уйти вновь спросил: — И всё же не понимаю я, Сновид: как же земля наша чужака позвала и приняла? Как такое быть может? Как такое боги наши: Ярила, Похвист, Лада, — как они такое дозволили?
— А они, может, и не дозволяли, да что с того? Земля, Ярош, она древней богов и сильней. И боги наши сами на ней живут, потому что с пращурами нашими на землю эту пришли.
И боги наши сами на ней живут, потому что с пращурами нашими на землю эту пришли. А до того тут другие боги жили — и другие племена им кланялись.
— Получается, теперь на земле нашей Христос будет жить? — огорчился Ярош. — А как же мы тогда?
— Я — от старых богов, — спокойно и уверенно произнес жрец. — Сила моя — от них. И силы этой на мой век хватит. А ты — молодой. Тебе о будущем думать надо, детей поднимать. Может, и тебе придется оберег с висящим на древе надеть и от богов наших, родовых, отречься.
— Никогда! — отрезал Ярош. — Лучше я сам себе жилы вскрою, чем от веры пращуров отрекусь!
— Иди домой, Ярош, — сказал Сновид. — Иди да поторопись. Не то опять гостей кто-то по неразумию обидеть захочет. И тогда тебе и жилы отворять не придется. Другие отворят…
Глава шестая. Княжеский дар (продолжение)
Старшие расположились в доме старосты. Или вождя — Духарев не очень понимал статус местного лидера. Дружина — снаружи. На горке под сенью двух грубо вытесанных идолищ.
«На дрова», — решил их судьбу Духарев.
Но от немедленных действий воздержался. Куда торопиться?
Главное селение его новых подданных выглядело так себе. Возделанных земель минимум — лес подступал к самому краю поселка. С одной стороны. А с другой — пойменные луга. Весной тут небось уже не материк, а остров. Хотя место красивое. Вид с берега — глаз радуется. В том числе и глаз воина — просматривается все просто замечательно.
А избёнки — никакие. Халупы. Судя по их размеру и количеству, народу сотни две проживает. И ограда вокруг селения — чистая формальность. Не от врагов, а от зверья дикого. Или чтоб дети и свиньи не разбегались. У Сергея Ивановича, которому были более привычны степные укрепленные городки с двойным частоколом и дозорными башнями, от вида этого кривого тына тут же проклюнулось беспокойство. На подсознательном уровне, потому что умом он понимал: не набежит никто на эту кургузую деревеньку. А если и набежит, то лес — рядышком. Люди удерут, скот какой ни на есть тоже угонят, а остальное и спасать не надо. Взять на деревеньке — нечего. Горшки глиняные да солома в амбарах…
Однако первое, жалкое, впечатление прошло, когда Духарев, вслед за Добрыней, вошел в дом.
Внутри изба смотрелась куда основательней, чем снаружи. И — небедно. Шкуры на стенах, посуда не только глиняная, но и медная. И оружие имелось: два охотничьих лука без тетив, копья-рогатины. Даже боевая секира наличествовала.
В доме суетились бабы. Сдвигали лавки, накрывали на стол, переливали мед из корчаги в кувшины…
Мужиков — ни одного. Только малолетние пацанчики.
— Люди где? — спросил Добрыня, опростав поднесенную чашу.
— В лесу промышляют, боярин, — ответила дебелая тетка лет под пятьдесят. Надо полагать, главная по избе.
— Что так? — недовольно проворчал Добрыня. — Велел же, чтоб ждали.
— Так и ждем, — спокойно ответила тетка. — Дичинка свежая будет на угощение, рыбка…
— Пойдем-ка на воздух, воевода, — сказал Духарев Добрыне. — Хочу еще разок оглядеться.
— Наглядишься еще, — отозвался Добрыня. — Все твое же.
Но из избы вышел.
А в селище как раз заезжали посланные за поросятами. С добычей, естественно.
— Илья где? — опередив Духарева, спросил Равдаг.
— За свинкой погнался, — ответил один из воев, Фроди, старший сын киевского нурмана Хриси, взятый в отроки год назад, белокурый и синеглазый красавец, обещавший вскоре выйти в отменные вои.
— А вы — что же?
— А мы — нет, — ухмыльнулся Фроди. — Чаю: со свинкой-то он и один управится. Вот, кабы девка, тогда б я в охотку пособил!
Фроси хорохорился. Но — имел право. Они с Ильей с недавнего времени друзья — не разлей вода. После того как Илья нахального нурманчика малость поучил уважению, как следует изваляв в пыли.
Равдаг вопросительно взглянул на Духарева: может, послать кого? Но Сергей Иванович отрицательно покачал головой.
— Что скажешь? — спросил Добрыня. — Годное место для города?
— Леса на частокол хватит, — ответил Духарев. — Людей маловато.
— Найдешь?
— Найду. Тут, чай, не Дикое Поле. Мирных смердов посажу на землю. Здешних тоже не обижу. Вот там пристань поставлю… — Сергей Иванович задумался: — …Нет, лучше дно углублю. А на том холме, где идол торчит, церковь поставлю.
— Не боишься, что местные за бога своего обидятся? — спросил Добрыня.
Сергей Иванович усмехнулся.
— Да пусть бы и обижались. Но не будут. Это не их божок. Так, для гостей проезжих.
— Почему так думаешь? — заинтересовался Добрыня.
— А ты поезжай да посмотри, что ему принесли. Всё старое да ненужное. А их боги — лесные. В лесу и спрятаны. Но я их найду. Попозже. Когда укреплюсь немного.
— А сумеешь? — усомнился полянин Добрыня. — Лесовики свое прятать умеют. И ведают о том лишь немногие.
— Вот немногие покажут, — пообещал Духарев. — Уж я того, ведающего, как-нибудь признаю.
Добрыня, отвернувшись, украдкой перекрестился.
Сергея Ивановича это позабавило. В отличие от многих, Добрыня принял Христа истово, но от старых суеверий не избавился. У Духарева же, несмотря на его давнее христианское вероисповедание, была репутация ведуна. А ведунов, колдунов и прочих им подобных епископ византийский клеймил в каждой проповеди. И, напрочь забыв о христианской кротости, призывал бить бесовских отродий беспощадно… И тем еще более усугублял суеверный страх паствы.
Духарев не стал объяснять дяде великого князя, что для распознавания местных жрецов никакого ведовства не требуется. Одежка, лик и специфический набор «украшений» выдают их так же легко, как борода, ряса и нагрудный крест — христианского священника. А если кому-то из языческих пастырей вдруг взбредет в голову замаскироваться (что маловероятно), то его все равно выдаст особая речь и еще вернее — отношение к нему местных язычников.
Добрыня не рискнул уточнять, каким именно образом Духарев намерен получить от жрецов нужную информацию. Другое спросил:
— А что с капищем сделаешь? Сожжешь? — спросил он.
Духарев покачал головой.
— А смысл? Одно сожгу — два новых построят. Деревьев в лесу хватит. А то и вовсе сбегут, а мне люди нужны. Я им силу покажу. Свою и Бога нашего. Церковь построю, священника поставлю такого, что по-нашему говорит и опыт обращения имеет. Есть у меня такой на примете. И покрестятся мои смерды сами, без крови и принуждения.
— Считаешь, Владимир неправ был, когда народ киевский силой к Христу пригнал? — Добрыня недобро прищурился.
— То Киев, а то лесовики, — ответил Сергей Иванович. — Сильного не гнут, его ломают. А мелкого да слабого ломать не надо. Маленькому человеку что требуется? Чтоб не обижали его, чтоб сытно было и спокойно. Смерд — он как муравей. Ты ему приманку покажи сладкую, он сам к тебе придет. И тропу проложит. И другие смерды по той тропе побегут. А вот, если не муравей мне попадется, а волк, тогда другое дело. Волка — только силой.
Ты ему приманку покажи сладкую, он сам к тебе придет. И тропу проложит. И другие смерды по той тропе побегут. А вот, если не муравей мне попадется, а волк, тогда другое дело. Волка — только силой. Слабому он глотку вырвет, а к сильному на брюхе приползет.
— А если не приползет?
— Шкуру сниму и на пол брошу. Другим волкам в назидание. Пойдем, Добрыня, перекусим да горло промочим. Чай, готова ушица…
Сначала ели свое, в дорогу взятое. Потом — уху, что сварили новые подданные Духарева. Затем — молочных поросят, добытых гриднями… И всё обильно запивали согласно вкусам: Духарев и Равдаг — пивом. Добрыня и старший над его гридью — местным медом.
Кушали неторопливо, с разговорами степенными, уважительными.
Снаружи было веселее. Там уже мерились силой дружинники Сергея Ивановича и Добрыни. Мерились по-дружески, поскольку все всех знали, а многие и в одном строю когда-то стояли. Но духаревские были — круче. Поскольку набирал их Сергей Иванович именно по этому принципу. В отличие от Добрыни, которому, помимо воинской доблести, важна была и личная преданность. В десятниках у него в личной дружине только поляне ходили. Редко когда — кривич или сиверянин. Да и то если служил Добрыне еще с тех времен, когда они с племянником в Новгороде сидели. Впрочем, общему делу такое отношение не мешало, потому что личная дружина у Добрыни невелика. А в старшей гриди его племянника полян было немного. Меньше, чем хузар. Ядром Владимировой дружины были, как и у его отца, варяги и скандинавы. Природные воины.
В избу вошел Илья. Поклонился. Сначала отцу, потом Добрыне. Духарев указал ему место — слева от себя. И вернулся к прерванному разговору. Расспрашивать названого сына нужным не счел. Если что важное — сам скажет.
Но Илья предпочел есть, а не говорить. Проголодался.
Допили местный мед и привезенное с собой пиво. Добрыня заметно осоловел. Годами он был моложе Духарева, но крепостью на спиртное Сергею Ивановичу уступал. Само собой, и размер имеет значение: Духарев раза в полтора крупнее.
— Приляг, — предложил ему Сергей Иванович, но Добрыня мотнул головой.
— Я лучше — на воздух.
Вышел — и буквально через минуту снаружи раздались голоса. Причем один — точно чужой. Сердитый.
«Это кто ж такой храбрый — с дядькой великого князя спорить?» — заинтересовался Духарев.
И тоже подался во двор.
А во дворе ругались.
Точнее, ругался здоровенный незнакомый мужик саженного роста. А Добрыня глядел сонно. И вид у него был такой, будто размышляет: то ли еще послушать, то ли пора мигнуть гридням, чтоб поставили крикуна в надлежащую позу да и всыпали как следует. Мужик же (явно из смердов) то ли не понимал, с кем говорит, то ли чуял на своей стороне правду, то ли просто оборзел не по чину. Впрочем, он тоже был не один. Чуть в стороне кучковалось еще с полсотни смердов. Причем не пустых — при оружии.
Это что ж выходит? Бунт?
Духарев усилием воли скинул с сознания вызванную пивом и сытостью леность и прислушался к разговору.
Так и есть! Мужик чувствовал себя в своем праве. Кричал, что по последнему уложению обещана им от Киева полная автономия и, следовательно, не надо им никаких дополнительных князей, кроме самого главного.
А Добрыня на это отвечал, что великий князь потому и великий, что сам решает, каким уложениям быть, а каким — уйти в забвение.
Мужик шумно возражал. И начиналось сызнова.
Тем временем терпение Добрыни уже подходило к концу, и Духарев решил вмешаться. Тем более что легко опознал в мужике местного лидера. Если такого удастся привлечь на свою сторону, то с остальными будет проще.
— Погоди, боярин, — попросил он. — Это мой теперь человек. Я с ним и поговорю.
Мужик уставился на Сергея Ивановича.
Злобно. И тут же возразил:
— Чего это я твой?
Шмяк!
Один из духаревских отроков поддел мужика древком. Да так ловко, что тот вмиг бухнулся на колени. Попытка встать не удалась, потому что другой отрок ухватил мужика за нечесаные патлы, а третий сунул кинжал под бородищу.
Техника была отработана.
— К воеводе следует обращаться «мой господин» или «отец-воевода», — рявкнули строптивцу в оба уха.
«Группа поддержки» выразила протест. Недовольным бормотанием.
Добрыня взирал на процесс вразумления с явным удовольствием.
«Сверху солнышко печет, а внизу вода течет…» — пришла Духареву на ум строчка.
Всё так и есть. Солнышко. В рубахе — хорошо (бронь Сергей Иванович еще в избе снял), дружинникам в доспехах — труднее. Хотя дело привычное. Но искупаться небось всем хочется. Окунуться с головой в прохладную Десну…
«Может, мост через нее построить?» — подумал Духарев.
Нет, не получится. Это сейчас вода стоит низко, а в половодье точно снесет. Разве что из Византии мастеров заказать… Ладно, на первое время паромом обойдемся.
Опа! А мужик-то — не сдался.
Постоял на коленках чуток, а потом ловко хапнул отрока за руку с кинжалом, убрал лезвие от горла и встал. Несмотря на повисшего на волосах второго отрока.
Шмяк!
Опять — под колени. И опять мужик — в прежней позиции. Только на сей раз приложился оземь куда больнее.
И снова встал. Да как! Двух отроков раскидал в стороны, а копье перехватил, вырвал и направил на Духарева.
Сергей Иванович помрачнел. Не испугался, нет. Даже в своем приличном возрасте, в одной рубахе и без оружия, он этого медведя в два движения мордой в землю сунет. Но — отроки… Расслабились, засранцы! Недооценили смерда. И вместо демонстрации абсолютного превосходства воинов над мужиками получилось наоборот. Вот и «группа поддержки прав аборигенов» пришла в нехорошее движение. Почуяли слабину. Теперь придется преподать урок… Блин! Как бы еще так сделать, чтоб без крови обойтись. Вот уже Равдаг справа от Духарева нарисовался. Рука на мече. На усатой роже — радостно-кровожадная ухмылочка. Стоит Сергею Ивановичу дать знак — и отделит голову строптивца от туловища. С удовольствием. Какой-то вшивый смерд смеет угрожать железом его воеводе! Да он бы уже наглецу башку срубил, кабы не полагал, что Духарев сам желает получить удовольствие.
…И тут мужик сдал назад.
В прямом смысле. Отшагнул и копье опустил. И точно не потому, что испугался.
На заросшей бородищей физиономии не страх, а изумление.
Духарев чуть повернул голову (контролируя все же мужика боковым зрением) и обнаружил слева Илью со свиной лопаткой в руке. Зрелище куда менее грозное, чем изготовившийся убивать Равдаг.
— О! — воскликнул Илья, глядя на мужика. — А ты как здесь?
Вышло немного невнятно, поскольку рот Ильи был полон свинины, но ситуация враз перестала быть критической.
Геройский мужик напрочь потерял боевой задор, да и местные смерды тоже как-то… смешались.
— Ты копье лучше отдай, — посоветовал Илья, мгновенно оценив обстановку, принадлежность оружия и хищную позу Равдага. — Осерчает батюшка — на это копье тебя и насадит.
— Этот… воевода — твой отец? — Мужик совсем растерялся, похоже. Вот только Духарев пока не понимал — с чего бы?
Но не вмешивался, поскольку события развивались в нужном русле.
— А то! — с гордостью подтвердил Илья.
И тут мужик Духарева действительно удивил.
Молча сунул копье оплошавшему отроку. И опустился на одно колено.
Духарев усмехнулся краем рта: вспомнил, как сам точно так же приветствовал императора Византии.
— Ты его знаешь? — спросил Сергей Иванович у Ильи по-ромейски.
— Немного, — тоже по-ромейски ответил Илья. Выговор у него был провинциальный, херсонский. Это ему ромей-учитель в Тмуторокани произношение подпортил. — В лесу недавно… встретились. Ты не обижай его, отец. Он — варвар, но — человек чести. Я ему верю.
— Потом подробнее расскажешь, — решил Духарев. И, по-словенски, смерду: — Поднимись! Зовут как?
— Ярош.
— Лехит? — насторожился Духарев.
— Нет, — мужик мотнул кудлатой башкой. — Здешний я. Староста. Вождь.
О как! Вождь, значит. А вождь у здешних — это командир над вооруженными мужчинами. Военный лидер. В крайнем случае, охотничий. Мирными делами у свободных смердов старики заправляют. Старейшины.
Духарев еще раз, внимательнее, оглядел собеседника. Здоровый, бычара. И ловкий. Но — не воин. Когда копьем Духареву грозил, держал неправильно. Будто на медведя шел. А что это у него с ногой? Вон как распухла. Конь копытом приложил или бревном придавило? Но виду не подает. Даже не хромает. Крепок.
— О чем вы спорили, Добрыня? — уже по-нурмански спросил Духарев.
— Этот… бонд утверждал, что по договору с Киевом его земля платит малую дань и более ничего. Так что никаких чужих князей, а тем более — чужих богов им не надобно.
— А был такой договор?
Добрыня хмыкнул.
— Может? и был. До той поры, пока они свой собачий хвост кверху не задрали. А потом быстро-быстро от другого Хвоста бегали. От Волчьего[60]. И с тех пор никаких уложений с ними не было. Ты скажи мне лучше: что это он на сына твоего как на волоха глядит? С чего бы?
— Это я и сам пока не знаю, — ответил Духарев. И, перейдя на словенский: — Нравится тебе это, вождь Ярош, или нет, но отныне земля эта — моя и рода моего. Стало быть, я — князь твой. Не по нраву — уходи. Неволить не буду. Что с собой унесешь — всё твое. Но я тебе не советую. Под моей рукой жить — хорошо. Особенно людям храбрым и неглупым. Таким, как ты.
Лесть попала в цель. Ярош даже чуток приосанился. И покосился на своих: слышали, как «большой человек» обо мне отозвался?
— И за гостеприимство благодарю, — степенно произнес Духарев. — Это ведь твой дом, верно?
— Мой, — кивнул Ярош.
— Ну так давай, староста, сядем да поговорим, как мужи. Ты меня медом угостишь, я тебя — пивом.
И вновь удивился Духарев, потому что, прежде чем согласиться войти в свою собственную избу, Ярош вопросительно поглядел на Илью и дождался его одобрительного кивка.
Посидели, выпили, покушали. Вернее, покушал Ярош, остальные уже насытились.
Теперь, после того как новоиспеченный князь моровский и его новообразованный данник и староста посидели за одним столом, отношения меж ними наладились. И можно было поговорить о деле.
— Просьба к тебе, Ярош, — сказал Сергей Иванович. — Люди мне нужны. Такие, что работы не боятся и с топором умелы. Город я буду здесь ставить. И хочу, чтоб серебро, которым я мастерам платить буду, не чужим ушло, а вам, людям моим, досталось. Найдутся у тебя такие?
— Найти можно, — солидно ответил моровский староста. — А много ль заплатишь?
— Да уж не обижу, — обещал Духарев. — На сапоги с бисером тебе точно хватит… Когда нога заживет.
Смерд покосился на поврежденную ногу, потом — на ухмыляющегося Илью…
Что же такое меж ними произошло?
История, рассказанная приемным сыном, впечатлила Духарева. Правда, он так и не понял, что именно случилось с Ильей в той дубовой роще, но поскольку все закончилось хорошо, то и ладно.
Правда, он так и не понял, что именно случилось с Ильей в той дубовой роще, но поскольку все закончилось хорошо, то и ладно. Очень ладно. Теперь, выходит, Духарев владеет здешней землёй не только по официальному праву, но и по местному обычаю. Что это, если не знак Судьбы?
— Умру, — сказал он Илье, — Моров с окрестностями твоим станет. Вотчиной.
— Ага, — сказал Илья. — А можно я тогда здесь до Зажинок[61] останусь?
— Живи, — разрешил Духарев.
Самое время парню пожить самостоятельно. Основной воинский курс он уже прошел. С лучшими учителями. Теперь самое время попробовать вкус свободы.
— Кого с тобой оставить? — спросил Духарев, заранее зная ответ. Фроди, естественно.
Что ж быть посему. Пусть волчата поохотятся самостоятельно. Клыки уже достаточно отросли.
Так полагал Духарев, и вот пришло время выяснить, не ошибся ли воевода? Князь-воевода…
Глава седьмая
Киев. Терем великого князя.
Новые времена
На подворье киевского кремля было шумно. Но шум был другим, не тем, что раньше, когда отроки и детские гремели орудием, обучаясь умению выжить в сече. Такой шум бывал обычно на рынке в базарный день. И многолюдьем княжий двор ныне тоже не уступал рынку. Большая часть толпившегося народа — посторонние. Тоже как на рынке. Сразу видно, что наступили новые времена. Там, где прежде тренировались отроки, теперь суетились ромейские монахи: болтали по-своему — большая часть разумела по-словенски не лучше, чем Духарев — по-угрски. Сколько ни старался Сергей Иванович заманить в Киев словенских священников, всё равно везде кишели ромейские попы.
По всему подворью, еще более усугубляя сходство с рынком, кучковались разноплеменные гости… Ага, а это местные. Киевские смерды теснились у амбара, где княжьи люди раздавали какое-то добро. Зерно вроде бы…
Духарев покачал головой. Раньше за Владимиром склонности к благотворительности не замечалось.
Христианская вера и христианская мораль прочно обосновались на Горе. Это неплохо. Хуже другое: всё это происходило там, где раньше отрабатывала боевые навыки дружина.
Не то чтобы на подворье совсем не было гриди. С десяток отроков контролировали порядок на раздаче. Еще десяток гридней пасли кучку мрачных касогов, а напротив еще один десяток — группу киевских граждан, возглавляемых дородным, краснорожим купцом. Купца Духарев знал, но так… шапочно. Потому на низкий, едва мохнатая шапка не свалилась, поклон киевлянина ответил небрежным кивком.
В палатах великого князя было не менее шумно, чем снаружи.
Родная речь мешалась с ромейской. Всё — на повышенных тонах. Хотя нет, голос повышал, главным образом, ромейский епископ, а великий князь отвечал спокойно. Сквозь обступившую споривших толпу Духареву княжих слов было не разобрать.
Поэтому он хлопнул по плечу подвернувшегося гридня и потребовал разъяснений.
Гридень охотно проинформировал.
Вчера вечером, в распивочной на Подоле, некий касог с пограничья спьяну повздорил с сыном уважаемого киевского купца. Того самого, что попался Духареву на глаза во дворе. Кто начал драку, сказать трудно, но участников было человек двадцать. А результат — полдюжины побитых с обеих сторон и… зарезанный купеческий сын.
Убил его один из касогов, когда покойничек, в то время еще живой и чрезмерно шустрый, с ножом наскочил на брата убийцы.
Подоспевшие княжьи люди пресекли драку, повязали всех участников и, поскольку имелся труп, арестовали драчунов — до выяснения.
В связи с принадлежностью участников к уважаемым социальным группам, судил лично великий князь. И рассудил по Правде. Взял со всех участников штраф в казну. Многочисленные травмы, без существенных увечий, пошли взаимозачетом. А убийце пришлось выплатить головное в пять гривен (всё же убитый взялся за нож первым) и еще две гривны — родне убитого.
А убийце пришлось выплатить головное в пять гривен (всё же убитый взялся за нож первым) и еще две гривны — родне убитого.
На взгляд Духарева, всё было справедливо. Но были и другие мнения. Например, у отца убиенного. И… у священника, который в свое время крестил, а ныне окормлял обширное купцово семейство. Священник пожаловался епископу, а тот, как мог воочию наблюдать Духарев, явился к великому князю за справедливостью.
Справедливость, в понимании епископа, выглядела сурово. За убийство христианина убийца-язычник должен был ответить собственной жизнью.
Великий князь, естественно, не согласился. Дескать, всё сделано по закону.
Епископ заявил, что закон, который разрешает убийце оплачивать кровь деньгами, — и не закон вовсе, а богомерзский языческий обычай, а правильные христианские законы существуют исключительно в империи, и по этим законам с уголовника не головное следует брать, а собственной головы лишить.
Владимиру обвинение в богомерзком язычестве не понравилось. Однако он смирил гнев и с евангельской кротостью поинтересовался: а как насчет христианского прощения?
Опять-таки: «Мне отмщение и аз воздам…»
А вот это, разъяснил епископ, не его, князя, забота. Прощение — это дело Господа. Ну в крайнем случае, его, епископа. А князево дело — карать нарушителей закона. Мол, Богу — Богово (то есть прощение), а кесарю — кесарево. То есть — башку с плеч негодяю.
При этом епископ так разошелся, что толмач за ним уже не поспевал, а знаний великого князя в области ромейского языка было явно недостаточно для оценки полемических способностей епископа.
Но он продолжал слушать. Благожелательно.
А вот Духареву речь епископа не понравилась категорически. Вмешательство Церкви в государственные дела он допускал и одобрял. В некоторых случаях. Более того, он был вполне согласен с тем, что платить деньгами за кровь — негоже. Однако казнить касога лишь потому, что тот оказался проворнее купеческого сына, — тоже неправильно. Если с этой точки зрения подходить, то он, Духарев, уже давно остался бы без головы.
Ага! А вот и Добрыня!
— Что он орет? — спросил воевода, останавливаясь около Духарева.
— Учит великого князя, как надо править, — резюмировал Сергей Иванович развернутую речь епископа.
— Может, выгнать его? — предложил Добрыня. Но тут же сам себе и ответил: — Нельзя. Владимир не даст. Странный он стал, — пожаловался главный киевский воевода Духареву. — Давеча трех татей отпустить велел, которые чумаков ограбили и убили. Мол, праздник нынче. Воскресенье. А Господь велел прощать.
— Так просто взял и отпустил татей? — подивился Духарев.
— Почти. Велел покаяться в содеянном, потом их покрестили, выдали подарки, и ушли злодеи восвояси. И епископ ромейский, не этот, другой, князя похвалил. Мол, при Крещении все прошлые грехи прощаются. — Тут Добрыня почему-то усмехнулся.
— Так-таки и ушли? — уточнил Духарев. — И как далеко?
— Не очень. Я людей послал татей новокрещеных повязать и свезти к родне тех чумаков. Пусть и пред ними покаются. Но всё одно — плохо. Слишком добр стал племянник мой. Ласков, щедр… Видал небось во дворе зерно прошлогоднее раздают? Он велел. Бог, мол, наказал помогать бедным. — Добрыня вздохнул. — Нельзя так. Погубит он и себя, и нас и княжество потеряет. Христу, чай, с печенегами встречаться не доводилось. И древлян-вятичей-радимичей примучивать — тоже. Они ж не поймут, что милосердие это. Решат: ослабел великий князь или разумом тронулся. Поговори с ним, Серегей! Может, тебя послушается?
Владимиру надоело глядеть на ораторствующего епископа, и он знаком велел тому замолчать.
Но епископ либо не понял, либо вошел в раж…
Тут вмешался маячивший за спиной князя Габдулла.
Подскочил к епискому, скорчил страшную рожу…
Ромей испугался. Переменился в лице, заткнулся, перекрестился…
Бохмичи захохотал. Злой он, Габдулла. Не убить, так хоть напугать. А дай ему волю, много бы крови пролилось…
Владимир прикрикнул на телохранителя, и тот вернулся на место.
— Я выслушал тебя, владыка, — сказал великий князь. — Спасибо, что вразумил. А теперь ступай.
— Ты казнишь убийцу?
Владимир покачал головой.
— Что ж я за князь, если от собственных слов отказываться буду? Но о словах твоих подумаю.
Епископ открыл было рот, чтобы спорить, но вспомнил, что он не только священник, но и дипломат, скорчил благостную рожу, поблагодарил князя за внимание и удалился, мимоходом благосклонно осенив крестом Духарева, которого, подданного империи, естественно, считал безусловным союзником.
Духарев поклонился епископу…
Ничего. Придет время, появятся у руси свои священники…
— Ты Христову Веру давно принял, — сказал Духареву Владимир. — Потому сердцем чувствуешь, когда прощать, а когда наказывать. А в моей душе старые боги глубокие корни пустили. Сразу всё и не выкорчуешь. Приходится умом сердцу подсказывать. Напоминать себе, что есть Заповеди Христовы. А епископов ромейских не поймешь: то за милосердие ратуют, то, как сегодня, крови жаждут. В Писании просто всё: прощай ради Бога, помогай страждущим — и хорошо. А тут… — Великий князь махнул рукой, звякнув тяжелыми золотыми кольцами-наручами, и потянулся к кубку. Пить, однако, не стал — протянул Духареву: — Попробуй. Хорошо ли ромейское, что нынче мне от василевса Василия пришло.
Сергей Иванович понюхал, пригубил. Замечательное вино. И яда тоже не чувствуется.
— Отменное, — похвалил он. И вернул кубок Владимиру.
Но Владимир пить не стал.
— Зарок дал, — сообщил он. — До воскресенья — ни вина, ни меда, ни пива.
— Ну коли так… — Сергей Иванович вновь взял кубок и сделал еще глоток. — А епископа, княже, слушать слушай, но слова его разделяй, потому что Бог-то у нас и у ромеев один, а вот законы — разные. И не все имперские законы для нас хороши.
Владимир задумчиво поглядел на Духарева…
— Умен ты, воевода, — похвалил он. — Придется мне научиться различать, когда священники наши Божье Слово несут, а когда — свое собственное.
— …Или василевса константинопольского! — подхватил Духарев.
— Ты о воприемнике моем худого не говори! — враз посуровел Владимир. — Он — брат мне!
— А я и не говорю, — покачал головой Сергей Иванович. — Что плохого в том, что государь о благе державы своей заботится? Наоборот, хорошо. Только у кесаря византийского — своя держава, а у тебя — своя. И что для ромеев благо, для русов может оказаться ущербом. Но в одном ты, княже, неправ. — И пояснил: — Когда назвал священников ромейских — нашими. Люди они — Божьи, бесспорно. Но как они могут быть нашими, если даже языка словенского не разумеют? Тебе, княже, легче — у тебя толмачи есть, да и то они не всегда верные слова находят. А простому люду как Слово Божие понять, если учат ему на чужом языке? А потому свои священники нам надобны. Или хотя бы булгарские, у которых речь с нашей схожа.
— Разумно, — согласился Владимир. — За этим ко мне пришел? Вот и позаботься. Моим именем.
— Позабочусь, — обещал Духарев. — Но пришел к тебе не за этим.
— Но пришел к тебе не за этим.
Он откинул полу бархатного, шитого серебром плаща, отцепил от пояса и положил на стол глухо звякнувший кошель.
— Это что? — спросил Владимир.
— Золото, — сказал Духарев. — Одарил ты меня, княже, щедро. А что за подарок без отдарка? Не по обычаю.
— Забери, — строго произнес великий князь. — Это не ты, это я отдарился. Ты, воевода, мне больше, чем землю, ты мне Истину подарил. За такой подарок мне и отдариться нечем. Так что не ты, а я у тебя в долгу.
Очень проникновенно сказал. У Духарева даже слезы на глазах выступили.
Но кошеля он не взял.
— Знаю я, — сказал Сергей Иванович, — хочешь ты Храм Божий строить.
— Так и есть, — подтвердил Владимир.
— Прошу тебя: пусть это золото будет моей лептой в строительство. Не откажи, княже, прими!
— И хотел бы отказать, — улыбнулся Владимир, — да не вправе. Кто я таков, чтобы к святому делу не допускать? Присядь, князь-воевода. О многом хочу с тобой поговорить…
Поговорили. Хорошо поговорили.
Из княжьих покоев вышел Духарев с легким сердцем и головой, полной важных мыслей, чувствуя себя не старцем с сединой в усах, разменявшим седьмой десяток, а зрелым, сильным мужем, которому еще многое суждено свершить на этой земле. Счастливым и воодушевленным…
Но недолгим было счастье Сергея Ивановича Духарева.
Пришла беда — отворяй ворота…
Глава восьмая. Беда
Земля моровская
Косуля вылетела из леса и стремглав понеслась по дороге. Молодая, глупая. Теперь ей не уйти. А вот в лесу — могла бы. Стрела Фроди ранила ее неопасно. Так, шкуру порвала.
Голубь вырвался вперед, без труда опередив жеребца Фроди. Расстояние между ним и удирающей косулей быстро сокращалось. Илья мог бы запросто свалить добычу стрелой, но не хотел. Хотелось взять косулю живой…
И вдруг Илья увидел такое, что безжалостно осадил коня.
Косуля — глупая, глупая, а тут же воспользовалась — метнулась вбок, проломилась сквозь кусты и камыши и ушла через старицу.
Илья о ней уже забыл. Спешился и разглядывал черные влажные пятна на пыльном тракте. Кровь…
Подоспел Фроди.
— Упустил! Раззява! — сразу закричал он.
Илья не обратил внимания на сердитый вопль. Фроди — на два года старше, хвастлив, охоч до девок и по-нурмански тщеславен… Но старшинство Ильи признает безусловно. И не потому, что тот — сын князь-воеводы, а потому, что Илья может вздуть Фроди, а Фроди Илью — нет.
— Поехали за ней! — потребовал Фроди. — Скоро уже свалится. Знатно я ее достал. Вон сколько крови натекло!
— Это не ее кровь, — сказал Илья, распрямляясь и махом запрыгивая в седло.
— Не ее? А чья?
Илья глянул на озадаченную физиономию отрока. Хмыкнул.
— Узнаем, — сказал он и послал жеребца вдоль свежего колесного следа.
Он не торопился, потому Фроди тут же догнал и поехал рядом.
— Злодеи? — азартно спросил он.
Возбуждение его было понятно. Если разбойнички обидели купца, то это вдвойне хорошо. Можно и воров поучить, и добычу поднять: взятое на меч принадлежало тому, кто взял, независимо от того, кто был ранее хозяином добра.
* * *- Возы! — озвучил очевидное Фроди.
— А ты чего ждал? Кнорра? — Илья изучал местность. Очень внимательно. И не ограбленные возы с брошенными в них мертвецами, а кусты вокруг, кроны деревьев. Прислушивался к птицам, которые, если их понимать, непременно сообщат, если поблизости есть люди.
Фроди спешился.
Наклонился, изучая следы, но хорошо заметны были только следы колес. Что тоже говорило кое о чем. Например, о том, что обуты разбойники были не в верховые сапоги, а в мягкие поршни. Хотя нет, вот здесь и каблучки пропечатались.
— Еще девка была, — сообщил Фроди. — Ее с собой увели… Верней, увезли. На коня, видать, уложили.
Отпечатки копыт распряженных лошадей были глубокие. На животных перегрузили добро с возов. Не всё. Например, четыре бочонка с медом — оставили. И то: зачем в лесу мед?
Илья, сбросив маскировавшие возы ветки, разглядывал покойников. Четверо. Купчик не из самых богатых и трое приказчиков. Все четверо лицом схожи. Родичи, надо полагать. Были родичами.
Побили их внезапно. Стрелами-срезами. Шагов с тридцати. Били метко. Насмерть. Убитых увезли в лес, там раздели, вырезали стрелы, распрягли лошадей, погрузили добро. Ну и девку с собой прихватили, не стали добивать. Допустили только одну ошибку. Одному из убитых срез вошел в левый бок, пробив сердце и легкое. Упал он лицом вниз, и большая часть его крови вылилась на дно воза. А воз — не лодья. Протекает. Вот через щель на дорогу и накапало то, что привело сюда Илью и Фроди.
— Их убили не позже полудня, — сказал Фроди. — Звери не объели, даже мух еще немного.
— Кровь не засохла, трава примятая не встала, — продолжал Илья. — Далеко уйти не могли. Догоним?
— А то! — азартно отозвался Фроди.
— Тогда на конь!
Судя по следам, разбойники гнали упряжных коней рысью, а сами бежали рядом. Было злодеев где-то с десяток, но численное превосходство отроков не смущало. Они полагали себя воинами, а воинам ли бояться разбойников?
Злодеи из здешних. Это понятно по тому, как выбирали дорогу. Отрокам всего лишь дважды пришлось спешиться и вести коней через чащу в поводу. Отроки настигали: «яблоки» лошадиного навоза были совсем свежими, когда след вывел к небольшой, коням по бабки, речушке.
Илья не удивился, не обнаружив следа на противоположном берегу.
Разбойники двинулись вверх по течению. То ли узнали о погоне, то ли — на всякий случай.
Что вверх — это несомненно. Вода была чуть взмучена, и муть эту несло сверху. Злодеи уже совсем близко: не больше чем в трех-четырех стрелищах.
Фроди тоже это сообразил и, воодушевившись, пустил коня скорой рысью, опережая Илью. Тот хотел окликнуть товарища, но передумал. Если враг близко — услышит.
А Фроди не боялся никого. Он чувствовал себя охотником, загнавшим зверя…
И не успел вовремя сообразить, что сам превратился в дичь.
Пущенная в лицо стрела его не убила, потому что ударила в нижний край шлема. Голова Фроди мотнулась от удара, он, не раздумывая, метнул копье в заросли, туда, где прятался стрелок. Вопль подтвердил попадание. Фроди цапнул меч…
И еще одна стрела — широкий, с два пальца, срез вспорол ему бедро, перерезав жилу. Кровь хлынула потоком, но Фроди еще успел выхватить меч и бросить коня на второго стрелка… Не достал. С дерева, на спину ему, прыгнул третий разбойник и еще в прыжке всадил юному нурману в шею длинный нож…
То, как убивали товарища, Илья не видел. Он отстал шагов на тридцать и заметил, лишь как попали во Фроди стрелы.
Будь Илья опытнее или будь у него время подумать, не стал бы безоглядно бросаться на помощь другу. По уму — следовало бы укрыться и ждать, когда злодеи покажут себя… Илья ошибся. Но все же успел сообразить, что против многих стрелков с копьем и мечом не особо повоюешь. Выхватил из налуча собственный лук с натянутой уже тетивой и послал Голубя не по тропе, а по руслу реки — чтоб между ним и разбойниками было хоть какое-то расстояние…
Да только на противоположном берегу тоже укрылись тати.
Короткий свист — и стрела ударила в спину, чуть повыше седла.
Короткий свист — и стрела ударила в спину, чуть повыше седла. Граненый узкий наконечник пробил боевой пояс и угодил в позвоночник. Илья не ощутил боли. Просто вдруг перестал ощущать всё, что ниже боевого пояса. Жеребец, не чувствуя привычного хвата хозяйских колен, тут же перешел на шаг.
Из зарослей выскочил тать и замахнулся копьем.
Илья отбил копье древком лука, при это едва не свалившись — пришлось схватиться левой рукой за седло, чтобы удержаться. Боковым зрением он увидел, как бегут к нему еще двое, понял: не отбиться и крикнул Голубю в ухо:
— Махом!
Жеребец прыгнул, с места взяв в галоп. Илья опять едва не вылетел из седла, выронил лук, упал на шею Голубя, вцепился правой рукой в гриву. Над ним просвистело брошенное копье. Хороший был бросок. Воинский. Полетели вдогонку несколько стрел. Одна чиркнула по броне, другая — по крупу Голубя, еще прибавив жеребцу прыти.
— Соловей! — истошно завопил кто-то. — Бей! Уйдет!
Илья услыхал за спиной тонкий переливчатый свист. Такой звук издает особая, поющая, стрела. Илья сам умел делать такие… Выстрел был хорош. Шагов на сто пятьдесят, в уходящего всадника и прямо в цель. К счастью — не в ту. Не в согнутую спину Ильи, а на палец ниже — в заднюю луку седла.
Второго выстрела не было. Речушка вильнула, несущийся по руслу жеребец взял вправо и скрылся за поворотом…
Боль пришла, когда Илья уже подъезжал к воротам Морова. Да такая, словно Илье в спину вонзили раскаленный добела нож.
И всё-таки Илья сумел не свалиться. Ничего не видя и не слыша от жуткой боли, он не разжал вцепившихся в гриву пальцев.
Их разжали другие, а затем Ярош осторожно вынул Илью из седла, перенес в дом и положил на лавку так, чтобы не потревожить торчавшую из поясницы стрелу…
Глава девятая. Моров. Беда (продолжение)
— Всё хорошо, воин, всё хорошо. Выпей вот это…
Губ Ильи коснулся край чаши. Он глотнул… Не понимая, что делает. Он вообще мало что понимал. Мир состоял из боли и забытья. Илью учили, что воин должен не обращать внимания на боль. Воин должен смеяться в лицо тому, кто режет его тело, выпускает кишки, прижигает каленым железом… Илья очень старался, но — не получалось. Боль была сильнее…
— Очень крепкий мальчик, — негромко сказала Сладислава. — Он терпит уже второй день. И еще не сошел с ума.
— Его учили терпеть боль, — заметил Духарев.
— Не такую и не так долго.
Сергей Иванович кивнул, соглашаясь. Уж он-то, побывавший на пороге смерти, понимал толк в боли.
Стрела угодила в позвонок. Что тут скажешь? Бедный парень! Лучше бы ему умереть…
— Он забудется, и я выну стрелу, — сказала Сладислава.
— Может быть, мне это сделать? — осторожно предложила Лучинка. — Я знаю, как обращаться с такими ранами, матушка.
Сладислава некоторое время глядела на невестку, обдумывала… Потом кивнула, соглашаясь.
Властная и амбициозная женщина, сейчас она в первую очередь была лекаркой. И думала лишь о том, как будет лучше раненому. Лучинка-Евпраксия, учившаяся медицине у арабов, намного превосходила Сладиславу знаниями. Правда, сама Слада настолько же превосходила ее опытом.
Сейчас принять решение ей помогло и то, что горячечное дыхание Ильи стало ровнее. Лекарство подействовало. А готовила его Лучинка. Причем — в большой спешке…
Весть о том, что Илья ранен, в дом Духарева пришла вчера вечером. Принес ее сам Ярош, который, не переставая, греб всю дорогу от Морова до Киева.
Духарев хотел ехать немедленно, но Сладислава отговорила. Если Илья доживет до утра, то он дотянет и до полудня. Хотя, не стала она обнадеживать мужа, рана скорее всего смертельна.
Ярош показал, куда вошла стрела. Лучшее, что может ожидать человека с перебитым позвоночником, это прожить остаток жизни калекой.
Так что тронулись утром. Духарев со Сладиславой и Богуслав с женой. Сопровождала их большая сотня духаревских дружинников. Ехали три-о-конь, так быстро, насколько это возможно.
Лучинка дремала в седле. Большую часть ночи она варила зелья, которые могли понадобиться, если Илья еще жив. Стоили эти зелья больше, чем годовой доход такого села, как Моров, но денег уж точно никто не считал. Илья — член семьи. И семья сделает для него всё.
Им повезло: Илья был еще жив. Хотя Духарев не мог избавиться от мысли, что смерть была бы лучшим выходом для парня…
Кузнечными клещами, очень аккуратно, Богуслав перекусил последнее кольчужное кольцо и убрал стальной лоскут, уступив место матери. Теперь в дело пошли ножницы…
А Духарев тем временем слушал доклад Развая. Тот, с полусотней гридней, сразу по прибытии, отправился по следу Ильи, добрался до речушки, без проблем, поднявшись вверх по руслу, отыскал место, где произошло несчастье… Но нашел там лишь ободранный до исподнего труп Фроди. Злодеи ушли вверх по течению. Развай послал два десятка воев за ними, но на успех не надеялся. Разбойники, судя по всему, знали здешние места, а гридни — нет. Будь след «горячим», другое дело. Но прошло уже больше суток…
Сладислава прорезала толстый набивной подкольчужник (кожаной поддевки по летнему времени Илья не надел), наружную рубаху, льняное исподнее и уступила место Лучинке.
Место, куда вошла стрела, заметно воспалилось. Но не так сильно, как можно было ожидать. Бронебойный наконечник, узкий и тонкий в острие, если не отравлен, оставляет сравнительно чистую рану.
Лучинка и Сладислава переглянулись.
— Что? — нетерпеливо спросил Богуслав.
— Неглубоко вошло, — сказала Сладислава. — Может, и обойдется… Держите его!
Лучинка быстрым, резким движением выдернула стрелу. Из маленькой ранки тут же потекла кровь. Лекарки не стали ее останавливать, по очереди взяли на пальцы, понюхали…
— Может, и обойдется, — повторила Сладислава. — Может, и не пробило до стержня…
Лучинка капнула на рану немного черной, скверно пахнущей жидкостью из стеклянного флакона. Мгновение — и тело Ильи сотрясла судорога, потом еще одна.
— Крепче держите! — властно скомандовала Лучинка.
Спустя некоторое время судороги прекратились.
— А теперь будем его раздевать, — распорядилась Сладислава. — Осторожно!
Спустя некоторое время Илья был наконец избавлен от доспехов и одежды и уложен на чистую льняную простыню. Лучинка еще раз обработала рану, вставила в нее медную трубочку — чтоб рана не закрылась раньше времени.
— Что теперь? — спросил Духарев.
— Он не умрет, — ответила жена. — Но поправится ли — не знаю. Всё в руке Божьей. Может, и обойдется. Надежда есть…
* * *Не обошлось. Да, Илья выжил и уже через две недели смог самостоятельно садиться. И боль уменьшилась настолько, что нужда в маковом отваре отпала. Но встать на ноги Илья так и не смог. Ни через две недели, ни через два месяца. Ни Сладислава, ни Лучинка, ни даже приглашенный Духаревым втайне от жены волох-врачеватель ничем помочь не смогли. Видно, разбойничья стрела всё-таки повредила что-то важное в хребте Ильи, потому что ног своих он больше не чувствовал.
А злодеев так и не нашли. Будь эта земля чужой, Духарев бы велел дружинникам взять в оборот местных. Узнать, где их тайное капище стоит (дело решаемое, если подключить к дознанию специалистов), нагрянуть внезапно да и прижать жрецов как следует. Не может такого быть, чтобы местные (а они точно местные, раз так хорошо в здешних лесах ориентируются) тати ни разу сюда не заглянули.
В их профессии с высшими силами надо ладить. Разговорить жрецов, оставить засаду…
Но вести себя на собственной земле как в древлянских лесах Духареву не хотелось. Строить взаимоотношения с подданными на голом страхе неправильно. Сначала надо попробовать договориться миром.
— Выйдите, — велел Духарев гридням, которые привели и усадили на лавку моровского вожака.
— Знаешь, кто я? — спросил Сергей Иванович, буравя мужика взглядом.
— Князь-воевода киевский Серегей, — староста удивился вопросу.
— Не киевский, а моровский, — поправил Духарев. — А еще я умею видеть правду. Слыхал об этом иль нет?
Ярош пожал плечами. Не успел, значит, справки о своем новом господине навести. А жаль. Знай он репутацию Духарева, было бы проще.
— Кто напал на моего сына?
Еще одно движение могутных плеч. Мол, откуда мне знать?
— А может, кто-то решил с ним сквитаться? За то, что было в дубраве…
Ярош покраснел.
— Я не тать! — прорычал он.
— Я не сказал, что это ты, — заметил Духарев. — Я сказал: «кто-то». Этот «кто-то» призвал разбойничков… Думал: убьют сына моего — и суд, тобой проигранный, уже не в зачет.
— Ты, христианин, не понимаешь! — гневно воскликнул Ярош. — То не сын твой победил! То боги решили, а значит, так тому и быть! Не звал я никого, слышишь?
— Не ори, — произнес Духарев. — Я старый, но не глухой. Слышу тебя. Значит, злодеи тебе не ведомы, так?
— Так, — буркнул Ярош.
Молодой, сильный, гордый… Он боялся Духарева. И боялся показать страх. Но с разбойниками он точно не в сговоре. Не та порода. И не следует забывать, что именно Ярош принес весть о беде. Спешно принес. Но сейчас Духареву надо быть жестким.
— Капище, — сказал Сергей Иванович. — Меня интересует ваше капище. — Сделал паузу, чтобы собеседник проникся, и заявил: — Ты отведешь меня туда, где вы свершаете свои требы. Сегодня.
— Не бывать тому! — отрезал Ярош. — Не дам зорить святое место!
Духарев молчал. Глядел сурово. Ярош занервничал.
— Тронешь богов наших — все в леса уйдем. Все!
— Напугал, — усмехнулся Сергей Иванович. — Я тебе сразу сказал: силком никого не держу. Люди у меня найдутся. И воины найдутся, чтоб их защитить. — И уже другим тоном, усталым, обыденным, равнодушным: — Грозить мне станешь, отдам тебя гридням. И скажешь ты всё, о чем спрошу. И то, о чем не спрошу, тоже скажешь. Но не стану я на тебя время тратить.
И снова замолчал.
— И что ты сделаешь, князь? — не выдержав, спросил Ярош.
— Не один ты место тайное знаешь. Глядишь, другие духом послабже окажутся. Разок-другой каленым железом…
И опять замолчал, наблюдая, как корежит Яроша от страха и бессильной ярости.
— Ладно, — выдал наконец Сергей Иванович. — Я — господин добрый. Ослушания не терплю, но без вины на муки не обрекаю. Да и смешно мне, как ты богов своих жалких защищаешь…
— Почему это жалких? — вскинулся Ярош.
— А как их не пожалеть, — удивился Духарев, — если им твоя защита нужна? Это что ж за боги такие, что сами себя защитить не могут? Нет, не стану я их рубить. Зачем? Скоро здесь встанет дом настоящего Бога. Открыто встанет, у всех на виду. А твои, ничтожные, пусть по чащам ютятся. Там им и место.
— А коли так, то зачем тебе капище наше? — воскликнул Ярош, окончательно запутавшийся.
— А мне оно и не нужно, — ответил Сергей Иванович. — Мне те нужны, что идолов ваших кормят. Вот у них-то я и спрошу, кто сына моего ранил.
— Так они тебе и скажут! хмыкнул Ярош.
— Не сомневайся, скажут. А так или этак — не твоего ума дело. Хотя… — Духарев сделал вид, что задумался… — Можно и без похода к капищу обойтись. Мне же не деревяшки ваши засаленные нужны. Вот что следаем… Я тебя сейчас отпущу. А ты пойдешь и приведешь ко мне вещуна вашего… Седобородого. С ним и потолкую.
— А с чего ты взял, что он захочет с тобой толковать? — дерзко спросил Ярош.
Духарев выбросил кулак. Не вставая. Но — точно. Яроша снесло с лавки. Он еще ворочался на земляном полу, когда в дом влетели гридни. На шум.
— Всё в порядке, — успокоил их Сергей Иванович. — А ты, смерд, больше не забывай: обращаться ко мне следует — «князь». Или — «господин». Отправляйся и сделай что велено.
— А если мудрый не придет… князь? — потирая скулу, проговорил Ярош.
— Если мудрый — придет, — отрезал Духарев. — Беги!
— А не удерет? — озабоченно поинтересовался Равдаг. — Может, наших за ним послать?
— Нет, — качнул головой Духарев. — Тут родовичи его. Своих он не бросит. Ярош — человек чести. Жаль, что пришлось с ним так обойтись.
* * *- Сновид. Так меня люди зовут.
Духарев кивнул. Оглядел жреца с ног до головы. Серьезный дед. Ведун небось? Ишь прозвище себе какое взял… Многообещающее. А страха — ноль.
— Не боишься меня?
— А чего мне тебя бояться? Иль я за Кромку не хаживал?
— А ты — хаживал?
Седовласый язычник не ответил.
— Сновид, значит? — Редкий случай, когда Духарев не знал, за какое место зацепить собеседника. — А на гуслях играть умеешь, Сновид?
— А надо?
— Было бы неплохо. Песню я одну хочу послушать.
— Ужель князю других певцов не найти?
— Этой песни они не знают.
— Дай угадаю? — предложил дед. — Хочешь послушать, как сынок твой со стрелой встретился? Так не ко мне обратился. Песню эту тебе, может, соловей пропоет… Если ты того соловья отыщешь.
— Неверный ответ, — проворчал Духарев. — Еще раз попробуй.
— Ответ как раз верный, — спокойно ответил жрец. — А худого ты мне не сделаешь. Ни мне, ни богам моим. У тебя своя дорога, у меня — своя. И обеим еще конца не видно.
— Сварог, Стрибог, Хорс… Кого из них ты кормишь, Сновид?
— Всех, — ответил старец. — Богов, вишь, как зверей в лесу. Много. И всех уважить надо.
Меньше всего Духареву хотелось затевать теологический спор. Но кликнуть гридням, чтоб взяли деда и на угольки поставили, язык не поворачивался. Да и бесполезно это, похоже. Сергей Иванович сообразил, кого напоминает ему повадкой и речью беловолосый дедушка. Рёриха покойного.
— А ведь ты — из воинов, старый, — сказал Духарев.
Жрец удивился. Нахмурил кустистые брови, разглядывая Сергея Ивановича более пристально, чем раньше. Особым взглядом…
— Ну? — насмешливо произнес Сергей Иванович. — Интересно?
— Да, — согласился старец. — Таких как ты, раньше не встречал.
— А ты за Кромку сходи, — предложил Духарев насмешливо. — Может, там знают?
— Пить хочу, — неожиданно объявил жрец.
— Может, там знают?
— Пить хочу, — неожиданно объявил жрец. — Дашь воды мне?
— На, — Духарев отстегнул от пояса флягу с венгерским. — Пей.
Дедушка пригубил. Сначала символически, но, распробовав, удивился, хмыкнул и приложился основательно.
— Давненько я такого не пивал, — заметил он, возвращая флягу.
Нет, не ошибся Сергей Иванович. Не простой это дедушка.
— Ты меня уважил, — веско уронил беловолосый. — И я тебе за это совет дам добрый. Не ищи, князь, тех, кто сына твоего обидел. Найдешь — навеки останется он калекой.
Перевел взгляда на Яроша, велел:
— Князя слушай. Повезло тебе с ним.
Развернулся и зашагал прочь.
И что интересно: Духареву даже в голову не пришло его остановить.
Может, потому, что он подарил Сергею Ивановичу надежду?
* * *А в Киеве праздновали жатву. С воинскими играми и вольными забавами. С любящимися на межах парами, с хмельными пирами, скоморошьими плясками и гуслярскими былинами о прежней и нынешней славе. Праздновали все, включая великого князя. Несмотря на явное неодобрение главного ромейского епископа. Впрочем, жертвы старым богам не приносили. В Киеве.
Часть четвертая. Вера и верность
Глава первая, в которой становится очевидно, что ложь, коварство и предательство в государственных масштабах — это и есть политика
В Киеве цвела весна. Первая весна, приветствуемая звоном колоколов, пусть небольших, деревянных, но всё же — церквей. Первая христианская весна на Руси.
С весной пришли первые гости с юга. Из Тмуторокани. От угров. От булгар… А также — из Византии. Прямо из императорского дворца.
Василевс Василий делился с крестником добрыми новостями. Порядок в империи восстановлен. Последний предводитель мятежников, освобожденный из заключения после смерти своего противника-союзника-тюремщика Варды Фоки, Склир собрал было новую повстанческую армию, но Василий решил дело миром. Мятежный Склир с благодарностью принял великодушное предложение императора, присягнул василевсу, распустил войско и удалился на покой. Тоже понятно: годков бывшему доместику схол было уже немало.
В общем, всё хорошо нынче в Константинополе, оптимистично сообщал крестнику василевс. Вино — рекой, злато — мешками, пшеница — в человеческий рост. С Божьей помощью, разумеется. А как у вас?
А у нас, как говорится, только квас.
— Что-то я не понял, — произнес Владимир, когда Духарев закончил чтение послания. — Что же брат мой не написал, когда мне ждать мою невесту Анну?
— Я бы на твоем месте, княже, спросил не когда, а ждать ли?
— О чем ты? — насторожился Владимир.
Далекий от наивности великий князь киевский по-прежнему полагал себя родичем ромейского василевса и верил ему безоглядно. Что ж, пора кое-кому избавиться от иллюзий.
Из собственных источников Духарев знал, что тему порфирогениты Анны, невесты росского архонта, в Константинополе закрыли в тот самый день, когда Склир распростерся перед Василием Вторым.
Надобность в союзниках-скифах отпала. Во всяком случае, так полагал Автократор. А договора и клятвы… Это же политика. Кто дал обещание, тот может его и обратно взять.
Но как вложить этот факт в сознание новообращенного христианина Владимира, который всё еще беззаветно верил слову величайшего христианского монарха? Напомнить, что вера в Христа не мешает ни ромеям, ни германцам-франкам-фризам обманывать, и более того, убивать единоверцев? Нужен наглядный пример. Причем, напрямую связанный с самим Владимиром. И кажется, у Духарева есть подходящая идея…
— Вели подать договор, что заключил ты с императором ромеев, — попросил Сергей Иванович, а когда просьба была выполнена, развернул пергамент и ткнул пальцем:
— Гляди, княже, вот здесь написано: «…Договор сей заключен между императором ромеев богопомазанным Автократором василевсом Василием Вторым и Василием Первым, кесарем и василевсом росским…» А теперь здесь… — Сергей Иванович сунул великому князю под нос новое письмо: — «…дружественному нам архонту племени россов…»
— И что? — спросил Владимир, не понимая или попросту не желая понимать очевидное.
— А то, — пояснил Духарев, — что договор этот владыка ромеев заключал с будущим мужем порфирородной кесаревны Анны, который по праву брака становится не только родичем его, императора, но и обретает право на титул «василевс», что означает также «царственный» или «монарх», то есть единовластный правитель. Василевсом стал хакан Булгарии, женившись на византийской кесаревне, даже и не порфирородной, как Анна. А теперь думай, княже, почему ромейский император более не величает тебя василевсом?
— Анна… — пробормотал Владимир растерянно. — Ты хочешь сказать, что он не пришлет ее мне?
Духареву было странно и непривычно видеть великого князя таким… Смятенным… Но тем более твердо он произнес:
— Нет, не пришлет.
— Но он клялся именем Христовым… Ужель не боится гнева Божьего?
— Думаю, он полагает, что Бог его простит, — ответил Духарев. — Иисус милосерден…
— Я почитал его братом и наставником, а он обманул меня… — пробормотал Владимир.
— Он — Автократор, — пожал плечами Духарев. — Единовластный правитель государства. Если интересы державы требуют, чтобы государь отступил от клятвы, или государь полагает, что интересы державы того требуют, он — отступает.
Владимир молчал. Думал. Сергей Иванович с большим интересом наблюдал, какое решение примет Владимир. Рассердится, вспылит? Или простит? А что, он и в самом деле может простить. Тому, кто следует заповедям Божьим, прощать — добродетель…
Возможно, добрый христианин Василий и простил бы своего крестного. Но князь киевский Владимир — нет. Хотя и сердиться он тоже не стал, ибо не пристало великому князю кричать и возмущаться, будто какому-нибудь обманутому купцу.
Владимир подумал немного, а потом усмехнулся. Жестко. Холодно. Опасно. И произнес небрежно, будто речь шла о сущей мелочи:
— Ты опять прав, князь-воевода. Государь — рука Божья над землями и людьми. И посему должен думать не о собственных желаниях, а о том, что есть благо государству моему. И благо это… — Усмешка пропала, лицо Владимира вдруг напомнило Сергею Ивановичу лицо прежнего киевского князя Святослава, когда тот узнал, что во время его отсутствия к Киеву подступили печенеги: — …И благо это — вразумить брата моего василевса ромейского и уберечь его от нарушения данной пред Богом клятвы! А буде не пожелает он внять вразумлениям моим, то и — принудить!
Вот это по-нашему, порадовался Духарев. Но стоит ли так… резко?
— Пойдешь в поход на ромеев? — с некоторым сомнением произнес Сергей Иванович. — Я бы не советовал. Константинополь далеко. Даже если ты сумеешь досадить императору Василию (что будет непросто, потому что он нынче, после сдачи Склира, вошел в полную силу), то оставлять так надолго собственные рубежи — опасно. Богуслав Польский только и ждет удобного случая, чтобы вцепиться нам в бок.
— И опять верно говоришь, — Владимир вновь усмехнулся. — Далеко Константинополь. Но есть кое-что поближе…
Глава вторая. Нелегкая жизнь имперской окраины
Фема Таврика, крымская провинция Византии.
Город Херсон
Фемный стратиг патрикий Михаил Херсонит скрепил документ собственной печатью, откинулся на спинку стула и задумался. И было над чем.
Две недели назад ему донесли, что по Борисфену[62] спускается к морю большая флотилия россов. И не менее двух тысяч всадников сопровождает ее по суше.
Это внушало опасения.
Формально между Византией и россами — мир. Более того — дружба, ведь именно архонт россов помог нынешнему Автократору сохранить красные сапоги[63] и всё, что к ним прилагается.
— Далеко Константинополь. Но есть кое-что поближе…
Глава вторая. Нелегкая жизнь имперской окраины
Фема Таврика, крымская провинция Византии.
Город Херсон
Фемный стратиг патрикий Михаил Херсонит скрепил документ собственной печатью, откинулся на спинку стула и задумался. И было над чем.
Две недели назад ему донесли, что по Борисфену[62] спускается к морю большая флотилия россов. И не менее двух тысяч всадников сопровождает ее по суше.
Это внушало опасения.
Формально между Византией и россами — мир. Более того — дружба, ведь именно архонт россов помог нынешнему Автократору сохранить красные сапоги[63] и всё, что к ним прилагается. Более того, Благочестивый лично привел архонта язычников к Христу и повелел скифу крестить дикий народ свой, для чего дал ему в сопровождение достаточное количество священников и даже двух епископов. Как доносили верные люди, предводитель россов повеление выполнил и подданных своих крестил. Казалось бы, всё замечательно. Но патрикий Михаил слишком хорошо знал варваров, чтобы поверить в столь быстрое превращение хищных волков в добродушных пёсиков. Родившийся здесь, в Херсоне, патрикий принадлежал к высшей фемной знати, и его назначение на пост стратига было уступкой Константинополя этой самой местной знати.
Непросто быть стратигом херсонским, ой, непросто!
Отдаленность фемы от столицы порождала в незрелых и горячих умах желание автономии. Одной из задач херсонского стратига было вовремя остужать эти умы, удаляя дурные мысли. А при необходимости — вместе с содержавшими их головами. Другая задача — вести сложнейшую и тонкую дипломатическую работу с многочисленными варварскими племенами, окружавшими фему и куда более склонными к грабежу и злодействам, чем к торговле и миру. Выросший здесь, на земле древней Таврики, Михаил отлично знал и местные обычаи, и тех, кто им следовал. Патрикий неплохо говорил на языке хазар и пацинаков, изъяснялся по-росски и даже бывал в их главном городе Киеве. В молодости. Торговля с россами была весьма выгодна, а заработанное золото очень пригодилось Михаилу в столице. Не стоило утверждать, что именно оно сделало патрикия фемным стратигом. Опальный ныне паракимомен Василий Лакапин счел Михаила подходящим на эту должность не только из-за золота. Патрикий был перспективным кандидатом по многим причинам, но главными были его преданность империи и понимание того, что независимость не благо для Херсона, а гибель. Хузары, россы, печенеги… Отойди область от империи, и варвары растерзают фему, как волки — отбившегося от стада теленка.
Однако от пастуха никто не требует дружить с волками, а Михаилу — приходится. Торговля — одна из главных составляющих дохода. В городе-крепости живут и россы, и хузары, и булгары. А личная охрана стратига наполовину состоит из «верных» — варангов-северян. Хотя, если вдуматься, какие они — «верные»? Только до тех пор, пока им это выгодно.
— Гёдбьёрн! — позвал стратиг.
Дверь распахнулась, впуская здоровенного северянина, волосатую вонючую скотину, не умеющую писать и читать, зато способную одним ударом разрубить человека напополам. Это умение бородатый варанг с удовольствием продемонстрировал патрикию еще в Константинополе, когда просился к Михаилу на службу. До того времени Гёдбьёрн почти два года прослужил в этерии, но потом варвара выгнали. За воровство, кажется. Или за строптивость… Этого Михаил так и не выяснил. Однако, на взгляд Михаила, дикарь вел себя безупречно. Если не считать раба, убитого в первые минуты знакомства. Но демонстрация была — впечатляющая, а раб — старый и почти бесполезный. Тем более что патрикий всё равно вычел его стоимость из первого жалованья телохранителя.
— Гёдбьёрн, позови моего секретаря.
Куда бы ни шли россы, следует позаботиться о безопасности города. Не исключено, что придется раздать горожанам оружие — силами одной только стражи Херсон не удержать.
И не забыть после обеда лично принспектировать состояние крепостных орудий…
Результаты инспекции стратига не порадовали. Большая часть метательных машин годилась разве что на дрова. С ответственного за них следовало бы спустить шкуру… Но стратиг не стал этого делать. Вспомнил, что еще зимой отказался оплачивать ремонтные работы из собственной казны. Думал, что деньги даст город, но протевон[64] выделил деньги только на замену катаракты[65] Святых[66] ворот. Стратиг и протевон немного повздорили, но договориться не смогли. Городской казной Михаил распоряжаться не мог. Ею распоряжался городской совет во главе с тем же протевоном.
Зато стратиг имел право взыскать налоги и частично использовать их для военных нужд. Что он и сделал. Не слишком большую сумму, потому что Михаил был человеком паракимомена Василия и после опалы великого скопца положение херсонского стратига тоже стало шатким. Ему следовало показать императору, что он, Михаил, хорош для Константинополя. А главный критерий тут — деньги.
Ничего страшного. Для ремонта хватит и небольшой суммы. Сейчас всё равно вряд ли удастся сделать многое. Привести в годность хотя бы несколько орудий — уже хорошо. Россы не мастера брать крепости. Кто-то, знакомый с подвигами отца нынешнего архонта россов, мог бы в этом усомниться, ведь Святослав взял даже хузарскую крепость Итиль, построенную лучшими византийскими мастерами. Но Михаилу было известно, что взяли Итиль при активной помощи византийских же мастеров по осадным машинам. У архонта Владимира тоже есть имперские мастера-строители, но это мирные мастера. Их специально выбирали из тех, кто не владел военным инженерным искусством. Благочестивый велел проследить, чтобы среди нанятых архонтом мастеров не было специалистов фортификации.
Жаль, что нельзя защитить гавань. Когда-то и в Херсоне была такая же цепь, как в горле константинопольского Золотого Рога. Теперь единственная защита городской гавани — орудия и стрелки на крепостных башнях. Эх, сюда бы парочку огненосных дромонов! При виде их красных бортов варварские корабли разбегаются, как мыши от кошки.
Еще следует решить, как поступить с живущими в городе россами. Заточить, перебить или попросту выставить за ворота, пустив имущество на покрытие военных расходов?
Стратиг склонялся к первому варианту. Он не был кровожаден, да и некоторое количество заложников не помешает.
Разумеется, всё это следует сделать только тогда, когда станут ясны намерения киевского архонта. Не стоит его провоцировать.
Две недели спустя с той же стены стратиг Михаил Херсонит лично смотрел на корабли россов. Кораблей было очень много, но шли они на таком отдалении от берега, что точно пересчитать их было затруднительно. И шли они мимо Херсона. На восток. Интересно, зачем? Кого нынче собираются пограбить разбойники-россы?
Ответ на этот вопрос херсонский стратиг узнал уже на следующий день. И ответ этот его не обрадовал.
Глава третья
Май 989 года. Окрестности Херсона[67].
Тысячелетняя крепость[68]
Даже с приличного расстояния город-крепость Херсон, по-словенски именуемый Корсунь, выглядел внушительно. Десятиметровые стены, нижняя часть которых была сложена из огромных, идеально пригнанных каменных блоков, высокие башни, крепкие ворота. А с южной, дальней от моря, стороны крепости еще и небольшая дополнительная стена, изрядно затруднявшая штурм.
Богуслав, не раз бывавший не только снаружи, но и внутри крепости, прекрасно понимал, насколько трудно будет взять этакую твердыню. Спору нет, войско русов многократно превосходило корсунский гарнизон, но, даже учитывая изрядную, в две тысячи двойных шагов, протяженность крепостных стен, оборонить эти самые двухсаженной толщины стены ромеям было вполне по силам.
Всё это понимали и другие воеводы. И сам Владимир. Расчет был — на внезапность.
Неделю назад корабли русов прошли мимо Корсуня, а ночью вернулись и встали в длинной бухте, отделенной мысом от крепости.
Неделю назад корабли русов прошли мимо Корсуня, а ночью вернулись и встали в длинной бухте, отделенной мысом от крепости. Так же скрытно высадили войско, лучшая часть которого, воспользовавшись темнотой, подошла к крепости. План был таков: утром, когда город откроет западные ворота, небольшая группа переодетых воинов Владимира проникнет внутрь, смешавшись с обычными гостями города, внезапно захватит их и удержит до подхода гриди.
Возглавить «группу захвата» было доверено воеводе Богуславу. Его опыт, знание местности, владение ромейским и хузарским языками позволили бы ему ввести в заблуждение стражу…
Не получилось. И не потому, что Богуслав не справился. Ни одни из шести главных херсонских ворот так и не открылись.
Огорченный Владимир решил более не прятаться и приказал захватить гавань.
Задача оказалась несложной. Несколько судов, в том числе — два небольших боевых корабля, успели удрать. На крыльях попутного западного ветра ушли на закат. Туда, откуда недавно пришли лодьи русов. Но можно было не сомневаться: цель беглецов — не днепровское устье, а Константинополь.
Перехватывать сбежавших даже не пытались. Владимир не собирался скрывать от крёстного факт своего прихода к Корсуню.
Всё, что было в гавани, досталось русам без крови. Стрелки у херсонитов оказались слабые, а боевые машины метали снаряды редко и криво, изрядно удивив этим русов. Владимир, Претич, Путята, Богуслав и прочие военачальники были уверены, что крепостные орудия как следует пристреляны. Времени-то у ромеев было в избытке…
Однако камни и большие стрелы падали куда попало, и весь причиненный ими урон — несколько разбитых лодок и одна затонувшая хеландия. Русы высадились с лодок и лодий, тут же отошедших на безопасное расстояние, разграбили гавань и отошли.
Вскоре стенные орудия прекратили обстрел. Видно, растратили весь боезапас. Тем не менее штурмовать город со стороны гавани было бы неэффективно. Красивая лестница, поднимавшаяся от моря к воротам, была не лучшим путем для стенобитных машин, а сама стена слишком высока для лестниц осадных.
Когда последний отряд грузился на последнюю (остальные уже отошли) лодью, отворилась одна из семи узких боевых калиток и отряд ромейской стражи попытался перехватить русов.
Но гридь тут же выстроила щитную стену, а ближние лодьи затабанили и, не разворачиваясь, кормами вперед, пошли обратно к причалам, осыпая ромеев стрелами.
Вылазка не удалась.
Правда, и воспользоваться оплошностью ромеев не получилось. Их отряд, оставив дюжину трупов, втянулся в каменную щель, а навстречу набегающим русам сверху плеснули кипящей смолой.
Погибать такой глупой и неприятной смертью никто не пожелал, гридь отступила, погрузилась на корабль и отбыла без потерь, несмотря на четыре выстрела, произведенных вновь ожившими крепостными машинами. Камни взбивали воду так далеко от лодьи, что та даже не покачнулась.
Однако причин для радости у русов не было.
Взять Херсон внезапно не удалось. Значит, вместо веселого и быстрого боя ожидается долгая, трудная и, учитывая высоту городских стен, кровопролитная осада.
Глава четвертая. Княжий совет
Погода была теплая, а княжий шатер — тесноват, поэтому совет собрали на открытом воздухе.
Начали с братины. Два отрока обошли с нею всех собравшихся: воевод и старшую гридь, — черпая ковшом, наливая в серебряные чаши и поднося каждому — по старшинству. Первым — князю, последним — сотнику Рузиле, вятскому вождю, поначалу мутившему своих против великого князя, а потом повинившемуся и принесшему князю роту на верность вместе с самыми ярыми своими родичами. Правда, Креста Рузила так и не принял, но Владимир всё равно его ценил, потому что когда-то Рузила воевал под стягом Святослава.
Рузиле же, первому, как молодшему (по чину, не по возрасту), положено было слово сказать. И сказал он толково.
И сказал он толково. Сначала глянул на крепость — ее с места совета хорошо видно было, — потом откашлялся, помолчал солидно, чтоб тишина наступила, и лишь после этого начал:
— Крепки стены корсунские. И башни высоки. Глянешь — и кажется: нипочем их не взять.
Многие из собравшихся на такие слова тут же недовольно заворчали. Рузила смолк, хотя и не договорил еще. Хитер. Уважение к старшим проявил и в перепалку не вступил, только на Владимира глянул. И Владимир тут же подал знак: не перебивать!
— Хорошие стены, — повторил Рузила. — Да только не стенами крепок город, а воинами его. Так великий князь Святослав Игоревич говорил…
Князь-воевода Артём и его брат Богуслав на совете расположились рядышком. Не выше других (все, кроме великого князя, восседали на седлах), но — почетно. Среди Владимировых ближников: Сигурда, Претича, Путяты. К ним же пристроился и Йонах — побратим и родич по праву брака.
Артём глядел на Рузилу одобрительно, а вот Богуслав вятича недолюбливал. Были у них кое-какие личные счеты. Не кровные, но… личные.
— …Воины же корсунские — не из лучших. Вчера все это видели.
— За всех не говори, сотник! — перебил вятича Сигурд-ярл. — Сам-то ты ничего не видел, потому что не было тебя, когда мы гавань брали.
Рузила обиделся, но Сигурду на его обиды было плевать.
— Дело говори или сядь, а мы других послушаем.
— Могу и по делу. По мне, так лестницы делать надо. Три сотни лестниц, никак не меньше. Навалимся со всех сторон — не устоит Корсунь. Так великий князь Святослав побеждал. Так и нам должно.
— Хой! — воскликнул Йонах насмешливо. — Нам или вам, лесовикам лапотным? Ты-то кем был у Святослава, Рузила? Кулеш варил да коней пас?
— И кулеш варил, и коней пас, — степенно ответил Рузила, недовольно поглядев на хузарина. — А в Киев вернулся гриднем опоясанным воеводы Свенельда.
— Тогда зачем глупости болтаешь, гридень? Не было такого, чтоб Святослав дружину свою на приступ гнал, как баранов на убой! Три сотни лестниц, говоришь? У стратига корсунского как раз людей хватит, чтобы каждую отпихнуть и людей наших на камни сбросить! И сверху смолой полить, чтоб помирать им веселее было!
— А я смерти не боюсь, хузарин! — повысил голос Рузила. — Скажет князь — первым на стену пойду!
— Пойти-то — пойдешь, а взойдешь ли? — усмехнулся Йонах. — Не знаю, много ли проку князю нашему от такого воя, как ты, но от глупой смерти твоей точно толку не будет.
— А по мне, так Рузила дело говорит! — вмешался Путята. — Навалимся разом, а будут сверху лестницы толкать, как мы толкачей тех стрелами и посбиваем!
— Ты, Путята, со стены не то что воя — горшок с кашей не собьешь! — крикнул воевода Волчий Хвост.
— А ты!.. — не остался в долгу Путята.
— Что это горит? — спросил Артём брата, указывая на дымный столб на западе.
— Сельцо там, виноградари живут, греки, — пояснил Богуслав, отлично знавший здешние земли. — Сами небось и подожгли. Чтоб нам не досталось. Подожгли и сбежали.
— …Этак мы тут год просидим без смысла! — разорялся Путята. — Ну побьют некоторых, и что? Зато другие добрую добычу возьмут. И полон. А долю убитых мы родовичам отдадим! В убытке никто не останется!
— Виноград — это хорошо, — сказал князь улицкий. — Но для вина пока рановато. Я вот Лузгая и Борха по солеварням пустил. Для соли время всегда хорошее, и у меня в Уличе соль в цене.
Богуслав усмехнулся:
— Так ты, братец, за солью сюда пришел?
И схлопотал от старшего брата по толстой шее.
— Я за Правдой пришел, — строго произнес Артём. — А ты, здоровяк, хоть и воевода нынче, а слова выбирай. Думай, кому и что болтаешь!
— Виноват, старый! Прости дурня! — и осклабился еще шире. — Владимир-то знает, что твои сотники херсонитов обдирают?
— А что ему, — пожал плечами Артём. — В Киеве соли хватает. Там железо в цене. Ишь как разорались! — кивнул уличский князь на разошедшихся княжьих советников. — Херсон стоит, не качнется, а они уже славу победителей делят.
— Давно ты, брат, в Киеве не был, — сказал Богуслав. — Это разве ор? Вот когда бояре-богатеи да еще духовенство ромейское на княжий совет сойдутся, вот тогда орут так орут. А эти — наши, воины. Им, сам понимаешь, слова выбирать приходится. А то раз — и по шее! — И раскатисто захохотал, обратив на себя общее внимание. Даже спорившие притихли.
— Чему веселишься, воевода? — спросил Владимир. — Скажи. Может, мы все посмеемся.
— Я лучше промолчу, — ответил Богуслав. — Тут такие важные речи ведутся. Каждое слово дюжины гридней стоит. Мертвых.
— Ты, воевода, думай, что говоришь! И перед кем! — крикнул Путята. — Великий князь к тебе обращается!
— А ты, Путята, стало быть, при великом князе теперь — глашатай? — Богуслав глумливо усмехнулся. — Это добре. Глашатай из тебя всяко лучше, чем полководец. Ты попробуй: вдруг от твоих воплей корсунские стены рухнут, аки Иерихонские.
— Да ты… Да я… — Путята аж захлебнулся от ярости. — Сварог мне… То есть Господь мне свидетель! За такие речи…
Богуслав ждал. Предвкушал: сейчас ляпнет воевода полянский: мол, кровью ответишь! И всё. На перекресток. Тут-то воеводе и конец. Убивать Богуслав его, может, не станет, но поучит от души.
Не получилось. Вмешался Владимир, который отлично знал о неприязненном отношении к Путяте варягов, кои желали одни главенствовать в его дружине, однако князь, воспитанный полянином Добрыней, был в первую очередь именно князем, а уж потом варягом. А уж о пользе принципа «разделяй и властвуй» знал досконально, так что всегда заботился о том, чтобы в дружине его варяги были сильной, но не сильнейшей партией. Ни варяги, ни нурманы, ни поляне… Ни один род, ни одно племя не имело в его глазах предпочтения. Ни прежде, ни теперь. Это было правильно. Для государя. Но, конечно, обижало и варягов, которые считали Владимира родичем, и полян, полагавших, что кровь Малуши и власть ее брата Добрыни (у словенских племен брат матери стоял ближе отца) дает им особые привилегии. Полян в княжьей дружине было больше, чем варягов. Но среди гридней варягов было больше, чем полян. Вот почему, сойдись на перекрестке любой из варяжских воевод с Путятой, добрый и храбрый воин Путята не устоит. А Владимиру он нужен. А потому…
— Умолкни, Путята! — пресек опасную речь великий князь. — Прав сын князя Серегея. Нет у меня нужды в глашатаях ни на поле битвы, ни здесь, на совете. Ты уже сказал, что хотел. Теперь других послушаем. Говори, Богуслав!
Путята обиделся, но спорить не посмел. А может, сообразил, что Владимир спас его от выбора между бесчестьем и смертью, потому что драться с Богуславом — это гибель. А вызвать и отступить — позор.
— Да, княже, я скажу, — Богуслав прогнал с лица улыбку. — Корсунь — могучая крепость. Не думаю, что ее стены можно пробить, даже будь у нас те машины, что были у твоего славного отца.
— Кроме стен есть еще и ворота, — заметил Сигурд. — Целых шесть ворот, Богуслав! Что скажешь об этом?
— Скажу, что и ворота нам не разбить, — покачал головой Богуслав. — А если и разобьем, проку будет немного. За каждыми воротами — решетка железная, катаракта. Входы узкие. Корсунским нетрудно будет заложить их камнями. А при воротах — башни. Нашим стрелкам достать тех, кто внутри, будет трудно. А вот им наших бить — очень удобно. Тем более наверху и машины есть. Да котлы особые, чтобы смолу или кипяток сверху лить. Нахрапом полезем — зря людей погубим.
— И что теперь делать? — не выдержал Путята. — Башкой в стены колотиться иль восвояси уйти предлагаешь?
— Я предлагаю вал насыпать, — заявил Богуслав. — Сгоним к крепости народ из окрестных сел, и пусть насыпают. А как поднимется наша гора над стенами, так мы на них и взойдем.
— Глупости говоришь, варяг! — вновь подал голос Путята. — Это ж сколько такую гору земли насыпать придется? Год?
— Может, и год, — согласился Богуслав. — Да только я другого пути в крепость не вижу. Разве что ты, Путята, сам-один к главным воротам подойдешь да бодать их примешься. А корсунцы, на это глядя, от смеха со стен и попадают.
Путята вскочил.
— Если надо, я сам ворота ломать буду! — заорал он, задыхаясь от ярости. — Вот этими руками! Если кто трусливо…
— Ты что же, трусом меня назвал? — ласково поинтересовался Богуслав. — Да еще прилюдно…
— Нет, не тебя, — опомнился воевода. — Это я так, к слову.
Храбр Путята, но нет у него бойца, способного встать против Богуслава. А самому выйти — нельзя. Смерть. Или увечье. Ничего! Он, Путята, найдет возможность поквитаться.
— Я вот что скажу, — вновь вылез Рузила. — Там, в крепости, народ разный живет. Может, найдутся такие, что за хорошую мзду нам ворота откроют? Тогда и ломать их не придется.
Молчание было ему ответом.
Никто из присутствующих не боялся драки. Многие так даже и любили…
Но одно дело — биться в чистом поле, а совсем другое — получить по загривку сброшенным со стены булдыганом. Или кипятку под кольчугу словить. Причем — лично. Поскольку лучшие воины и бьются на лучших местах. То есть — впереди. Но еще обиднее — терять дружинников. Своих. Братьев. С которыми много лет — в одном строю…
— И как же ты думаешь подкупить стражу, Рузила? — выразил общую мысль Сигурд-ярл. — Может, у тебя свои люди есть по ту сторону стен?
— Нету, — огорченно признал вятич. — Но, может, у воеводы Богуслава — есть?
Богуслав молчал. Ухмылялся.
— Говори, брат, не томи! — воскликнул Претич.
Богуслав поглядел на Владимира. Лицо у великого князя — непроницаемое. Здесь, на совете, послухов корсунских нет. Понимает Владимир: был бы у кого подход к обороняющимся, так уже и сказал бы. Однако кое-что в запасе у Богуслава всё же имеется…
— Люди верные в Корсуне у меня есть, — сказал младший Серегеич. — Но власти у них — немного. Зато я знаю, у кого по ту сторону стен родич есть. И родич тот у корсунского стратига — в большой силе.
— И у кого же? — жадно спросил Сигурд.
— У тебя, ярл!
Глава пятая. О родстве и мести
— Русы взяли переднюю стену на западе, — сообщил Гёдбьёрн. — Насыпают земляной вал со стороны балки.
— А что Святые ворота? — спросил стратиг.
— Отступились, — сказал варанг. — Как мы смолой их «черепаху» с тараном попотчевали, так и отошли. Но потеряли немногих. Стрелки у русов очень хороши. Чуть высунешься — вмиг находят. А еще от них кричали, что переговоров хотят. Будешь с ними говорить, сиятельный, или пусть с протевоном толкуют?
— Нет! — отрезал Михаил. — Сам говорить буду.
У протевона хорошие земли по ту сторону стен. И три солеварни. Везде сейчас русы хозяйничают. Дай волю городскому совету, завтра же город сдадут. А что им? Под архонтом Владимиром, пожалуй, воли у херсонитов даже больше будет, чем под Константинополем.
— Собери мне сопровождающих, и пусть объявят перемирие, — распорядился стратиг.
— Со стены говорить станешь? — спросил Гёдбьёрн.
— Нет. Выйду.
— Опасно…
— Я — стратиг, а не рыботорговец! Да и не так уж опасно. Русы слово держат…
* * *- Вон тот, рыжебородый, справа от стратига, и есть Гёдбьёрн, — сказал Богуслав брату. — Будем надеяться, что Сигурд сумеет намекнуть ему на желательность встречи. А уж устроить это дело будет нетрудно. Ночи здесь темные…
* * *Устроить встречу оказалось непросто. Михаил Херсонит был человеком опытным и понимал, что нельзя допустить сношений горожан и осаждающих. Он не доверял никому, даже своим «верным», потому что знал: подкопом было взято куда меньше крепостей, чем подкупом. Так что стража на стенах, а особенно при боевых калитках была подобрана так, чтобы одни следили за другими. И все переговоры с русами стратиг вел только лично, а в его присутствии ни о каких параллельных переговорах речи быть не могло.
Михаил понимал также, что опасность может подстерегать и внутри херсонских стен. Стратиг полагал, и не без основания, что он — единственная преграда между обороной и почетной сдачей. Так что берегся патрикий как только мог. Охраняли его одновременно «верные» наемники и преданные его роду соотечественники. Пищу готовили под присмотром его собственной жены и всё равно сначала проверяли на двух рабах, а уж потом приносили стратигу. Ох, непросто быть представителем Автократора в Херсоне!
Но Михаил был весьма далек от того, чтобы впасть в отчаяние. Всё, что от него требовалось, — продержаться нужное время. До прихода помощи из Константинополя. А помощь придет непременно. Херсон василевсу нужен!
Однако русы тоже проявляли упорство. Отчаявшись разбить ворота, они перешли к более долговременному проекту — созданию земляного вала. Согнали к крепости почти тысячу местных жителей и заставили таскать землю. Работали невольники под прикрытием щитов и стрелков-хузар. Каждый день гибло несколько десятков работников, но толку от этого было немного, потому что русы тут же пригоняли новых. Земляной вал рос, поднимаясь и подбираясь к стене… Пока Михаилу не пришла в голову замечательная идея.
Дело в том, что русы строили свой вал исключительно при свете дня, а ночью и землекопы, и их стража, все до единого, уходили в лагерь.
Вот и решил стратиг: почему бы его людям не использовать темное время суток в своих целях.
И в одну славную безлунную ночь даже не калитка — ворота крепости открылись и выпустили большой отряд воинов, сопровождавший изрядное количество рабочих, подобно муравьям набросившихся на земляной вал. До самого рассвета, под прикрытием внимательных дозорных, херсониты растаскивали принесенную русами землю: частью — на укрепление собственных стен, частью — прямо в город. Брали аккуратно, с разных мест. Так чтобы уменьшение осадного вала было не слишком заметно.
И похоже, последнее херсонитам удалось. Взошло солнце, и русы, как ни в чем не бывало, вновь принялись за свою работу…
…А ночью херсониты снова взялись за свою.
И на следующий день…
Не будь стратиг Михаил столь низкого мнения об осадных знаниях и способностях русов, он наверняка подумал бы о причинах подобного простодушия. Но — не подумал.
Игра в «больше-меньше» продолжалась до тех пор, пока начальником ночной стражи при херсонитах-землекопах не был назначен Гёдбьёрн. Собственно, она продолжалась и после этого события. Но шансы осаждающих на успех несколько увеличились.
— Крепость он никогда не сдаст, — сказал Гёдбьёрн. — Он хоть и благородный ромей, но храбр. И в преданности господину своему тверд. Если бы не Михаил, старшина городская уже давно бы с вами замирилась. Это же торговцы. Они не о чести, а о барышах думают. А от вас, да и от осады этой им — чистое разорение. Но решают не они, а стратиг. И его воины. А мы ему верны, потому что платит он честно и щедро.
— Не думаю я, что он щедрее Владимира-конунга, — намекнул Сигурд. — Подумай об этом, родич.
— Уже подумал. — Гёдбьёрн погладил заплетенную в косицы рыжую бороду. В бороде этой гнездились вши, коих многие из северян полагали приносящими богатство, а потому выводить не спешили. — Видишь, я здесь, пред тобой. А узнай об этом стратиг — не избежать мне смерти. Но не думай, родич, будто я стою здесь лишь из-за щедрости твоего конунга.
— Ну так назови мне настоящую причину, — предложил Сигурд.
— А она в том, ярл, — мощная лапа Гёдбьёрна сжалась в волосатый кулак, — что я ненавижу ромеев!
Однако не один лишь Гёдбьёрн изыскал возможность пообщаться с осаждающими. Нашелся и другой…
* * *- Настас… — задумчиво проговорил Богуслав. — Да, я его знаю. Да и ты тоже. Священник из булгар. Служил у нас в Киеве. Я у него Причастие принимал. Хороший человек. И достойный.
— И храбрый, — добавил Артём. — Худо ему было бы, если бы письмо попало в чужие руки. Но хотелось бы знать, как киевский священник оказался здесь, в Корсуни.
— Наш отец послал его. Хотел, чтобы тот призвал к нам священников и вероучителей из Булгарии. Чтоб не одни лишь ромеи нам Божий закон несли.
— Считаешь, можно ему доверять?
— Уверен.
— Тогда пошли будить Владимира! — решил Артём. — Медлить нельзя!
— Почему? — удивился Богуслав. — Лето в самом начале. Куда нам торопиться?
— А ты, братец, посчитай, — предложил Артём. — О нашем походе в Константинополе узнали месяца два назад. Куда мы идем — тоже догадаться можно и так, но теперь они точно знают, где мы.
— Не слишком ли быстро? — усомнился Богуслав. — Кораблю от Херсона до Золотого Рога плыть…
— Не до Золотого Рога, а до ближайшей имперской границы. Напрямик через море. А там — сигнальная связь. День — и новости уже в столице. Так что я не удивлюсь, брат, если сюда уже идут ромейские дромоны с огненными орудиями и воинами. А мы уже четвертую неделю землю копаем, как барсуки. По твоему, заметь, предложению.
— Водопровод? — с сомнением произнес Владимир.
В своем огромном шатре он был один, если не считать Габдуллы, который в походе находился при князе неотлучно. Даже тогда, когда князь был с женщиной.
— Допустим, мы найдем эти трубы, — сказал великий князь. — Допустим, мы сделаем, как предлагает этот священник, и разобьем их. Сколько времени понадобится, чтобы корсунцы по-настоящему захотели пить?
— Немало, — ответил Богуслав. — Насчет соленой рыбы он говорит правду. Это и есть главный припас корсунских смердов.
— Насчет соленой рыбы он говорит правду. Это и есть главный припас корсунских смердов. Но в городе немало водохранилищ, и можно не сомневаться, что они полны до краев. Если мы разобьем водопровод, то некоторые трудности у херсонитов, конечно, возникнут. Например, от мытья в банях большинству из них придется отказаться, но для питья воды точно хватит. Даже если с неба не упадет ни капли до самой жатвы.
— Мы не можем ждать, — вмешался Артём. — Если город не будет взят раньше, чем сюда подойдут корабли ромеев, будет худо.
— А они подойдут? — спросил великий князь.
— Непременно, — подтвердил Богуслав. — И наверняка раньше, чем у корсунцев пересохнут глотки.
— Я не хочу воевать с императором, — сказал Владимир. — Одно дело — немного поучить, чтоб помнил об обещаниях. А другое — настоящая война. Не думаю, что Господу это понравится.
— Бог на твоей стороне, — заверил Артём. — Его Именем поклялся император, когда обещал тебе свою сестру. Но Бог помогает тем, кто сам себе помогает, а одно я могу сказать точно: если сюда придут огненосные дромоны, то запереть наши лодьи в бухте им будет легче, чем моему жеребцу — помочиться.
— Водопровод, — напомнил Богуслав.
— Ломайте, — решил Владимир.
— Ломать — не строить, — заметил Артём. — Так говорит наш отец. Разрушить мы всегда успеем. Сначала мы его найдем. А там видно будет…
— Хорошая у них жизнь, — проворчал княжий телохранитель Габдулла, когда братья ушли. — Интересная.
— Завидуешь им? — Владимир повернулся к мусульманину. — Тоже хочешь стать воеводой?
— Я — раб, — Габдулла покачал головой. — Кто спрашивает раба о его желаниях?
— Я, — сказал великий князь.
— Нет, воеводой я стать не хочу, — ответил бывший шемаханский сотник Габдулла Безотчий. — Хочу снова стать воином.
Владимир ответил не сразу. Этот человек, так поразительно похожий на его убитого брата Ярополка, был одним из немногих, кому князь не просто доверял — верил.
— Ты нужен мне здесь, Габдулла. А сейчас ложись и спи. Ночь уже на исходе.
— А ты, княже?
— А мне надо помолиться. Как ты думаешь, мы возьмем этот город?
— Иншалла… — пробормотал телохранитель. Он уже спал.
* * *- Нет, — сказал Богуслав. — В эту нору даже тебе не пролезть, не говоря уже обо мне. Жаль!
Братья стояли над старинной кирпичной кладкой, которую только что очистили от земли. Это и был тот самый водопровод, о котором писал Настас.
— Дай-ка сюда! — Артём отобрал у отрока кайло, точным ударом вышиб из кладки крошащийся кирпич и заглянул внутрь. Из дыры тянуло влагой, прохладой, и слышно было, как струится внизу вода. Богуслав был неправ. Проем водопровода достигал полутора локтей в высоту и чуть меньше — в ширину. Сняв доспехи, Артём мог бы втиснуться в эту щель. Но проползти по ней даже десяток саженей — вряд ли. И тут его осенила мысль…
— Дыру заделать, — велел он десятнику. — Аккуратно. Присыпать землей. Чтоб все как раньше было. Пойдем, братец, есть у меня идея…
Через полчаса они стояли в ста шагах от крепости под прикрытием большого щита. Не то чтобы опасались меткого выстрела… Скорее, чтобы не привлекать лишнего внимания.
— Вон гляди, — сказал Артём, указывая на дальний склон рва, насыпанного не столько для защиты крепости, сколько для отвода от города ливневых потоков.
— Это он, наш водопровод. Уходит прямо под стену.
— И что с того? — спросил Богуслав. — Шире он не стал, даже уже, а это уже не кирпич, а дыра в скале. Начнем расширять, весь Корсунь сбежится послушать.
— Это дело поправимое, — заявил старший брат. — У нас уже собрано аж четыре осадных орудия. И таран есть.
— Наши камнеметы этим стенам — как кабану комар. А с тараном и воротами Путята уже поигрался. Девять — насмерть и столько же покалечило. Урону — пшик.
— Это с какой стороны взглянуть, — усмехнулся князь улицкий. — Урону мало, зато шуму много…
Глава шестая. Падение Корсуня
— Довольно! — крикнул Артём достаточно громко, чтобы каменотесы услышали его голос сквозь лязг сокрушающего камень железа, грохот тарана и прочие оглушительные звуки битвы. — Разоблачайтесь, братья! Пора!
И первым распустил ремни панциря…
Сотню воинов отобрал улицкий князь для своего дела. Выбирал самых опытных… И самых маленьких. Вот почему не брату Богуславу, а его лучшему другу Антифу посчастливилось сопутствовать Артёму в рискованном деле.
Хотя не так уж они рисковали, если сравнить с теми воями, что лезли сейчас по лестницам на стену Корсуня…
И летели вниз под ударами камней или опрокидываясь вместе с лестницами, которые защитники города отталкивали длинными рогатками.
Пока тела проникающих внутрь густо умащали жиром, их вещи и оружие собирали в аккуратные тюки, особо старательно пакуя луки и стрелы.
— С Богом! — провозгласил Артём, перекрестился и нырнул в узкий лаз.
Кожаный ремень, привязанный к поясу улицкого князя, потянулся змейкой по бегучей, по-зимнему холодной воде, потянул за собой плотную укладку с броней и оружием, которая тоже исчезла в щели, пронзившей основание крепости. И едва она пропала, как в водопроводную нору скользнул Антиф…
Последний из Артёмовой сотни неловкими от холода пальцами застегнул боевой пояс, привычно встряхнулся, проверяя, ладно ли распределены бронь, оружие и амуниция, и положил руку на оголовье меча: готов.
Улицкий князь, уже успевший согреться после изматывающего пути по тесному, скользкому коридору водопровода, оглядел свое воинство. Первый этап — без потерь. Сбитые колени и локти, ссаженную кожу можно не считать. Хорошо, что строители водопровода потрудились на совесть: как следует подогнали стыки.
— Это корсунские бани, — сказал Артём. — Скоро сюда придет человек, который и проводит нас к воротам.
— А если он не придет? — спросил кто-то. — Или придет… не один?
— Его имя — Гёдбьёрн, — уточнил Артём. — Он — родич Сигурда-ярла. И он поклялся.
Договоренность с Гёдбьёрном была такая: он вместе с посланцем Владимира и своими доверенными людьми открывает великому князю ворота Херсона. Посланец — гарант того, что штурмующие не прирежут предателей. Гёдбьёрн рискует, но не слишком. Если всё раскроется, он попросту прирежет посланца и заявит, что выследил и убил шпиона.
— Верить нурману… — с сомнением пробормотал голос из темноты.
Артём усмехнулся. Какое доверие, если вместо одного-единственного посланца — целая дружина.
— Я бывал в Корсуне, — подал голос Антиф. — И я знаю дорогу к нужным воротам.
— Мы ждем Гёдбьёрна! — отрезал Артём. — Действуем как я сказал.
Да, можно обойтись и без Гёдбьёрна. И даже попробовать открыть ворота самостоятельно. Но тогда будет бой… С непредсказуемым результатом. А доверенному военачальнику стратига биться не придется. Ему достаточно приказать…
Повинуясь княжьему приказу, сотня русов растворилась во мраке безлюдных херсонских терм.
Ему достаточно приказать…
Повинуясь княжьему приказу, сотня русов растворилась во мраке безлюдных херсонских терм. Вернее, рассредоточилась и приготовилась. Настоящему стрелку тьма — не помеха. Он умеет бить на звук и даже на запах.
— Я пришел! — по-нурмански произнес Гёдбьёрн.
Голос его был спокоен. Привычка к опасности сказывалась. У его спутника такой привычки не было, так что запах страха, который он распространял, мог уловить даже человеческий нос.
— Кто это с тобой? — тоже по-нурмански спросил Артём, вступая на светлое пятно, созданное звездным светом, проникающим в прорезанное в потолке окно.
— Местный хёвдинг, — ответил Гёдбьёрн. И уточнил по-ромейски: — Протевон.
— Зачем он здесь?
Вопрос был лишним. Ясно, что Гёдбьёрн вознамерился получить мзду не только от Владимира, но и от корсунцев. Но для этого родичу Сигурда надо, чтобы посланец Владимира был в его руках, а не наоборот.
Где-то неподалеку, во тьме, чуть слышно скрипнула тетива. Теперь занервничал и нурман.
— Я говорил Сигурду: горожане впустят нас, если конунг обещает не грабить и не убивать. И еще мне было обещано…
— Я ничего не слыхал об этом! — перебил Артём. — Ты обещал открыть ворота. Вот то, что сказал мне Сигурд. Сколько с тобой людей?
— Достаточно! А с тобой?
Нурман — опытный воин, и слух у него хороший.
По знаку Артёма из тьмы выскользнул гридень, шепнул на ухо:
— Снаружи — шестеро. Вооружены.
— Так сколько?
— Более чем достаточно, — громко ответил Артём и добавил шепотом, гридню: — Возьмите всех.
Нурман есть нурман. Артём оказался прав, когда не сказал Сигурду об истинной численности отряда.
«В город проникнет доверенный человек князя», — сказал Сигурд родичу. И уточнил, где именно его ждать. В термах. Задача Гёдбьёрна — позаботиться, чтобы там никого не было. Сигурд указал место. И время. Когда штурмующие отступят.
Артём появился раньше. И не один.
Гёдбьёрн что-то сказал своему спутнику. По-ромейски. Что именно, Артём не разобрал. Зато услышал ответ.
— Ты сказал, что он будет один! — нервно выкрикнул протевон. — Ты обманул меня!
— Не кричи, херсонит, — на безукоризненном ромейском «успокоил» его улицкий князь. — Это война. Ты, наверное, слыхал: на войне иногда лгут.
Протевон уставился на смутный силуэт, безуспешно пытаясь разглядеть лицо собеседника. Безупречный выговор Артёма его смутил едва ли не сильнее, чем присутствие второго человека. О том, что русов не двое-трое, а значительно больше, он пока не догадывался.
В отличие от Гёдбьёрна, который умел слушать темноту и точно знал, что вокруг — не менее десятка воинов. И все они готовы убивать.
А потом он услышал шум снаружи, мгновенно сообразил, что там происходит нечто незапланированное, и выхватил меч.
— Спокойней, человек севера, — насмешливо произнес Артём, даже не прикоснувшись к оружию.
Он знал, что Гёдбьёрна нашпигуют стрелами раньше, чем он сделает выпад. Да и сделал бы — не страшно. Надо ведь еще достать…
— Спокойней. Веди себя правильно, и Валхалла не пополнится еще одним бойцом.
— Я верую во Христа Спасителя! — мрачно сообщил Гёдбьёрн.
— Тем более нет смысла тебя убивать. У меня здесь сто хольдов, опытных и умелых. А теперь убеди меня, что ты и твой ромей нужны нам, чтобы открыть любые из здешних ворот.
— Убей меня… нас, — поправился нурман, глянув на перепуганного протевона, — и у тебя не получится войти в город без шума.
Воины стратига будут драться. И горожане — тоже будут. Отчаянно. Терять им нечего, ведь всем известно, что бывает, когда берут город. Вот поэтому я и взял с собой здешнего хёвдинга. Если мы договоримся, сопротивления не будет. Людей стратига вы возьмете прямо в казармах, а голову его самого я лично преподнесу Вальдамару-конунгу.
Артём пренебрежительно фыркнул:
— Ты хотел напугать меня парой сотен наемников, тремястами ромейскими щитоносцами и толпой смердов с дубинами, нурман? У тебя не получилось. Я не испугался. — И, перейдя на ромейский: — А что скажешь ты, херсонит? Докажи мне, что договор с тобой выгодней, чем отсутствие такового!
— Мне надо отлить, — нервно проговорил протевон. — Могу я это сделать?
— Почему нет? Человеку трудно искать аргументы, если он думает только о переполненном мочевом пузыре.
— Благодарю! — Протевон рысцой устремился к выходу, но если он, по наивности, думал удрать, то ошибся. Едва он миновал дверной проем, как по обе стороны от него возникли тени, от которых внушительно пахло кожей, смазкой и железом.
— Пока твой друг орошает землю, скажи мне, нурман, чего хочешь ты? Хотя нет, не отвечай. Я и так знаю: твоя жизнь и твои деньги. Вот что имеет настоящую ценность. Верно?
— Ты угадал, варяг, — буркнул Гёдбьёрн. Надо же: сумел разглядеть в темноте длинные усы Артёма. Или так угадал, по повадке? — Деньги и жизнь. Хотя я, пожалуй, добавил бы к этому возможность собственноручно убить стратига Михаила. Эта ромейская крыса смеет глядеть на меня так, будто я его трэль.
— Жизнь я тебе могу подарить прямо сейчас, — заявил улицкий князь. — Но стратиг нужен живым. Убьешь его — останешься без подарка. Владимир не хочет крови.
— А деньги? — озаботился Гёдбьёрн. — Мне обещано двадцать марок за помощь!
— Для этого ты привел сюда шестерых воинов? Охранять обещанные деньги? Так я тебя разочарую. Серебра при мне нет. Хочешь, я заплачу тебе железную цену?
— Нет, варяг, не хочу! — Зубы Гёдбьёрна блеснули в темноте. Ухмылка — в ответ на угрозу. — Я проведу вас к воротам и помогу их открыть.
— Протевон пойдет с нами, — распорядился Артём. — Поможет договориться с городской старшиной. Поможет им принять правильное решение.
* * *- Русы у ворот, стратиг!
Михаил воспрял с ложа, скинув с груди руку спящей жены. За окнами была чернота. Значит, утро еще не наступило.
— И ты разбудил меня, чтобы сообщить то, что я и так знаю? — рыкнул стратиг. — Пошел вон! Разбудишь меня, если они войдут в город.
— Уже! — нахально ответил скиф, втыкая принесенный с собой факел в кольцо мраморной подставки. — Я забыл добавить: у ворот твоего дворца, стратиг!
Михаил молча рванулся к спате, лежавшей на прикроватном столике…
Не успел.
Меч «верного» (какая насмешка!) перехватил патрикия на полпути, упершись в бок.
— Не надо, стратиг, пожалуйста, — вежливо попросил Гёдбьёрн.
Изумленный Михаил повернул голову… И замер. Он неплохо разбирался в людях, херсонский стратиг. Умел читать по лицам. А острое желание убить было написано на грубой физиономии варвара так же ясно, как слова молитвы на изголовье этой кровати.
— Ты меня предал, — констатировал патрикий.
Гёдбьёрн улыбнулся и нажал на рукоять чуточку сильнее. В отличие от многих своих соплеменников, он всегда следил за тем, чтобы острие меча было именно острием. Он не собирался убивать бывшего хозяина. Но поиграть с ним немного — это так приятно!
Стратиг побледнел. Несколько капель крови упали на руку просыпающейся жены.
Несколько капель крови упали на руку просыпающейся жены. Та, еще спросонья, поднесла руку к лицу… И пронзительно заверещала.
Очень удачно получилось. Очень вовремя. Не прошло и седьмицы с той ночи, когда русы вошли в город, и на горизонте показались сотни кораблей.
На помощь осажденному Херсону пришел имперский флот.
Глава седьмая. Имперский флот
За приближением ромейской флотилии великий князь киевский Владимир следил с крепостной башни захваченного города.
Из всех воевод рядом с ним был только Путята. Остальные занимались делом: спешно готовились к «приему гостей».
Ни о какой морской битве не могло быть и речи. Красные дромоны царили на морских просторах полновластно и безраздельно. Пусть дальность огненного плевка была невелика, но скандинавам и русам, чьей главной военно-морской тактикой был абордаж, плюющиеся огнем ромейские корабли не оставляли шансов на победу. Даже если соотношение было — один к пяти. Оставалось только издали обстреливать дромоны из луков, но эффективность такой тактики была ничтожной. От стрел экипажи дромонов были защищены качественно. Не говоря уже об обслуге котлов, в которых копился всесжигающий огонь.
Красных дромонов боялись все. К страху сгореть заживо примешивался и страх мистический: ведь погасить ромейское пламя было невозможно. Оно пылало на поверхности моря, лишая возможности спастись даже тех, кто оказался в воде.
Впрочем, долгий заплыв прыгнувшим за борт воинам не угрожал. Доспехи тут же увлекали на дно. Не самая страшная участь для того, кого накрыло негасимое пламя.
Нет, морской битвы не будет. Лодьи русов и многочисленные захваченные суда поспешно уводились вглубь бухты, к горлу которой, по суше, подтягивали собранные для штурма орудия. Занимали позиции и обычные стрелки.
Если дромоны, привлеченные заманчивой целью — сбившимися в кучу беззащитными кораблями русов, сунутся в горло бухты, их ждет жаркая встреча. Горшки с маслом и смолой, конечно, уступают по смертоносности ромейскому пламени, но дальнобойность катапульт дает им неоспоримое преимущество.
Как раз когда флот ромеев приблизился достаточно, чтобы можно было разглядеть красные корпуса огненосных дромонов, первая катапульта сделала пробный выстрел. Недолет. Камень сначала черной точкой ушел в небо, а потом ухнул на мелководье.
Ничего. Время есть. Пристреляются.
— А я слыхал: конунги данов не боялись драться с ромеями на море, — проворчал Путята. — А твои предки, княже, им не уступали. А мы забились в щели, как раки…
Владимир покосился на бородатого воеводу. Путята видел, как горели корабли мятежного Варды Склира, подожженные ромейским огнем. Так что слова были его вызваны не действительным желанием биться, а всего лишь враждебным отношением к варягам и союзным нурманам.
Но великий князь не стал одергивать Путяту. Пусть воеводы враждуют. Никому, кроме дядьки Добрыни, Владимир не мог доверять полностью. Даже крестившись, вся его русь по-прежнему делилась на варягов, нурманов, хузар, полян, сиверян, кривичей… То есть первыми для них были интересы рода, а уж потом — великого князя. А клятва верности — это такая вещь, что забрать ее почти так же просто, как дать. Так что пусть рычат друг на друга, как псы в одной сворке. Тем злее будут рвать княжьих врагов.
— Я — не мой отец, — сказал Владимир. — Я не хочу воевать с ромеями. Запомни это, Путята! Накрепко запомни! Мне не нужны куски, вырванные из львиной пасти василевса. Я сам василевс. И я здесь не для того, чтобы забирать чужое. Я пришел получить свое!
Путята промолчал. Только усмехнулся в бороду.
Что бы ни говорил великий князь о «своем и чужом», но Корсунь Владимир уже ободрал порядочно. Причем почти без насилия. Городской совет сам постановил отдать киевскому князю всё, что тот пожелает. Очень правильное решение, ведь сытый лев куда менее склонен проливать кровь, чем лев голодный.
Очень правильное решение, ведь сытый лев куда менее склонен проливать кровь, чем лев голодный. Та же участь постигла не только сам город, но и всю фему Таврика. Путята как-то слышал от одного нурмана, что главное волшебство меча — это его способность превращать чужое в свое. Нурманов Путята не любил (за что их любить, спрашивается?), но слова пришлись воеводе по сердцу. Наверное, потому, что сам он сызмала воспитан был для меча, а не для рала или там бортничества.
Но еще заметил Путята, что многие из тех, у кого меча нет, обладают схожим волшебством: способностью вынимать добытое мечом из кошеля воина. Еще не успели собрать всю дань с побежденного Корсуня, а на его рынках уже полным полно торговцев, а улочки кишат продавцами всякой всячины: от женских прелестей до заговоренных от промаха стрел. Казалось бы, воину ничего не стоит взять женщину бесплатно, а какие могут быть заговоренные стрелы у тех, кого только что побили? Однако покупали и стрелы, и женщин. А также вина, яства, украшения, христианские обереги… Даже плясунов и фокусников. Говорил же хозяйственный Путята великому князю: не давай дружине долю добытого сразу. Погоди до Киева.
Не согласился Владимир. Одарил каждого, и теперь гридь одаряла корсунцев. Владимир знал, что так будет. Но знал и то, что поступает правильно. Христос велел делиться. А предки, князья-варяги, наказывали: не жалей серебра для дружины. Будет дружина — будет и серебро.
Ромейская флотилия подходила к корсунской гавани. Знамена реяли над могучими кораблями. Сверкали шлемы воинов, горели на солнце надраенные котлы с огненным зельем…
Бабах!
Это сработала катапульта на крепостной башне.
Бултых!
Это в сотне локтей от носа ромейского дромона взметнул воду пущенный ею снаряд.
За ним — второй. Уже ближе. В тридцати локтях. Дромон сбавил ход. А затем и остальные. Сигнал был понят правильно. «Вы опоздали! — сообщал он ромейскому друнгарию[69]. — Херсон — наш!»
Теперь ромейским начальникам предстояло решить: драться или договариваться?
Решение далось нелегко. Комит имперской пехоты, молодой и амбициозный патрикий, настаивал на битве. Под его рукой — отличные воины, а красные дромоны вообще непобедимы. Императорский магистр, канцелярская крыса, требовал переговоров. Но главное слово принадлежало друнгарию флота. А тот глядел на могучие стены Херсона и мысленно поносил самыми скверными словами херсонского стратига. Сдать такую крепость!
Что теперь делать? Штурмовать эти стены без машин, без превосходства в силе? А внутри — свирепые россы, числом не уступающие ромеям. Друнгарий Ираклий видел их в деле. А комит — нет. Сопляк. Щенок, требующий напасть на льва в его логове. Можно, конечно, попробовать добраться до росских кораблей. Пары дромонов хватит, чтобы весь вражеский флот запылал. Но друнгарий видел метательные машины на берегу. Надо полагать, россы умеют ими пользоваться, раз сумели захватить такую крепость. А если обслуга орудий знает свое дело, то соваться в бухту не стоит. Дромоны зажгут или утопят раньше, чем те доберутся до вражеских судов.
Друнгарий колебался. Приказ Автократора: отогнать флот клятвопреступников, нарушивших мирный договор, от имперского города и в случае необходимости оказать помощь его защитникам.
Богопочитаемый не сомневался, что Херсон будет стоять до тех пор, пока у его защитников не кончатся припасы. А припасов у херсонитов, самое меньшее, на полгода осады.
Василевс знал, что россы умеют воевать, но не думал, что настолько хорошо, чтобы овладеть такой мощной крепостью за каких-то два месяца.
Нет, отбить Херсон силами боевых отрядов, приданных его флоту, не получится. Никак не получится. Но вариантов, действительно, только два. Бесславно уйти, поджав хвост. Или попробовать договориться.
Друнгарий императора выбрал второе.
Глава восьмая. Переговоры
«Мирная» делегация ромеев выглядела помпезно.
Роскошные плащи с великолепным шитьем, шелк и бархат, художественно исполненные «знаки государственного достоинства». По мраморной лестнице навстречу диким скифам поднимался целый друнгарий имперского флота со свитой. С офицерами, чиновниками и прочей пристяжью. Византийцы не поднимались — восходили. Варварам сразу давали понять: перед ними высшие существа.
Но вся похвальба — втуне. Величие империи было продемонстрировано всего лишь кучке молодых россов. Возглавляемых, впрочем, вполне зрелым воином. В «фирменном» прикиде варанга-этериота, соблюденном до тонкостей. Имелась даже солидных размеров секира, заткнутая за пояс.
— Я — Гёдбьёрн, «верный» василевса россов, — на приличном ромейском сообщил варанг. — Василевс велел вам следовать за мной.
— Василевс? — Загорелая физиономия друнгария перекосилась от ненависти. — Архонт россов!
Варанг спорить не стал.
— Вы идете или возвращаетесь на корабль? — поинтересовался он.
За воротами открывалась узкая улочка, еще более стесненная торговыми лавками. Дальше — площадь с фонтаном и медными вздыбившимися конями. И ни намека на воинов архонта. Обычная провинциальная толпа, занимающаяся своими делами.
Жалкая кучка молодых скифов без стеснения разглядывала богатые одежды друнгария. Переговаривались по-своему. Цокали языками. Стоящие за спинами друнгария и свиты щитоносцы в блестящих латах их, похоже, не интересовали. А ведь стоит друнгарию скомандовать — и воины прикончат наглых мальчишек в считаные мгновения…
Друнгарию очень захотелось отдать такой приказ. То, что он пришел с миром, не имело значения. Победителей не судят, а Господь простит этот маленький обман. Ворваться в город, занять ворота — пятидесяти сопровождающих его щитоносцев должно хватить для выполнения такой задачи. Затем высадка основных сил, и Херсон — в его руках! Но друнгарий заподозрил ловушку. Не могут же варвары быть настолько беспечными!
И точно! Стоило друнгарию задрать голову (что было не так просто с его головным убором) и поглядеть на стены, как причина кажущейся беспечности разъяснилась. На стене, как оказалось, полно скифов! Снаружи их почти не разглядеть, но изнутри лучники-россы превосходно видны. Можно не сомневаться, что воины друнгария будут перебиты раньше, чем корабли его флота поднимут якоря.
Друнгарий лично не участвовал в битве, уничтожившей Варду Фоку. Он «всего лишь» пожег корабли мятежников, но от других друнгарий Ираклий много слышал о скифских стрелках.
— Веди! — велел он фальшивому этериоту.
И мирная делегация, позвякивая доспехами, двинулась через имперский город к дворцу имперского стратига… Занятого архонтом варваров.
* * *…Стратиг Михаил Херсонит тоже был здесь. В полном облачении и даже с церемониальным мечом у пояса.
Но глаза доверенного представителя императора в Херсоне глядели в пол. В отличие от восседавшего на маленьком троне архонта россов. Бывший союзник, а ныне — опасный враг надменно взирал на друнгария флота блестящими синими глазами. Обремененные широкими браслетами (красное золото и огромные, размером с голубиные яйца, драгоценные камни) ручищи покоились на львиных головах подлокотников. Ноги в пурпурных, позволенных лишь Автократору, сапогах попирали ковер… Нет, не ковер — имперское знамя с точно таким же орлом, что украшал плащ друнгария, символизируя данные ему Автократором полномочия.
Увиденное настолько поразило друнгария, что он утратил душевное равновесие и вместо поклона и учтивых слов, подобающих дипломату, выплюнул злую фразу:
— Архонт варваров, поправший союзный долг и клятву верности, как объяснишь ты содеянное тобой и твоими людьми злодеяние?
Владимир уже более-менее изъяснялся по-ромейски, но друнгарий выпалил поносные слова так быстро, что великий князь не успел уловить их смысл.
— Что он сказал? — спросил Владимир, обернувшись к Богуславу.
— Ругается, — пояснил тот. — И злобно. Я бы, пожалуй, содрал с него имперские тряпки и вразумил доброй плеткой.
— Нехорошо, — покачал головой Владимир. — Он пришел говорить. Так пусть говорит. Переведи мне в точности, что он сказал.
— Как угодно, княже, — ответил Богуслав. И перевел. Громко.
На какое-то время в зале повисло напряженное молчание. Руки присутствовших здесь воевод легли на мечи. Вели князь — порубят наглеца.
Но — не велел.
Поглядел на сердитого друнгария, фыркнул:
— Ну и кочет! — И рассмеялся.
Тут комизм ситуации дошел и до остальных русов. Так вот кого напоминает разряженный ромей! Петуха. Пестрого, храброго, глупого петуха.
Веселились все. Гоготали, ржали, хлопали себя по ляжкам… Даже скоморошье представление редко вызывает такой хохот…
Не смеялись двое. Улицкий князь Артём, очень внимательно наблюдавший за друнгарием, в коем сразу признал опытного воина… И Габдулла Шемаханский, замерший в состоянии напряженной готовности, потому что видел, как краснеет от гнева смуглое лицо ромея и медленно ползут к мечу унизанные перстнями пальцы…
Раскаты хохота еще сотрясали душный воздух зала, когда Габдулла, точно уловив момент, метнулся вперед, уже в прыжке выхватывая саблю… И вовремя оказался между друнгарием и князем.
Смех стихал постепенно. Многие так развеселились, что не сразу разглядели происходящее…
— Если ты хочешь умереть, кяфир, ты только попроси, — произнес Габдулла по-арабски. — Или сделай еще один шаг. Один шаг — этого довольно.
Друнгарий застыл с мечом в руке. Он достаточно долго воевал на востоке империи, чтобы понять сказанное. И он, действительно, был опытным воином…
И он уже опомнился. Гнев сменила холодная ярость. Оскорбленный патрикий империи не должен искать смерти. Он не должен думать о своей чести. Он не дикарь. Он служит василевсу. Смех дикарей значит для него не более, чем хрюканье свиней.
— Оставь его, Габдулла! — велел Владимир. — А ты, ромей, оставь в покое оружие и не забывай, кто ты! В отличие от своего брата Василия, я не требую от людей, чтобы они ползали передо мной на карачках и лизали мои сапоги, но красивая одежда и дорогие украшения не меняют твоей сути, холоп! И если ты еще раз посмеешь мне дерзить, я обойдусь с тобой как с неразумным и дерзким холопом, которого следует вразумлять не словом, а кнутом! Конечно, за дурное поведение холопа отвечает его господин, но моего брата императора Василия сейчас нет рядом, а потому по праву духовного родства я возьму этот труд на себя.
Друнгарий Ираклий молчал. Он, представитель великой империи, должен думать не о глупой обиде, а о государственной пользе.
Друнгарий поймал взгляд стратига Михаила… Вот еще один довод в пользу хладнокровия.
Просравшему Херсон стратигу очень хочется, чтобы столичный флотоводец повел себя неправильно. Тогда можно будет сделать его козлом отпущения и свалить с себя хотя бы часть вины за позорное поражение.
Можно не сомневаться, кого стратиг и оставшийся на флагмане имперский магистр сделают ответственным за поражение, которое нанесли империи россы. Они — политики. Они — умеют.
Друнгарий Ираклий — воин. Но он — тоже политик. И умеет согнуться, когда обстоятельства того требуют. И еще он умеет думать.
Если бы архонт русов хотел ссоры, то не ограничился бы одними словами. Друнгарий был бы уже мертв или отдан палачам. Нет, Михаилу Херсониту не удастся свалить на Ираклия собственную оплошность.
— Прошу меня извинить за резкость, — Ираклий низко поклонился. — Меня искренне огорчило то, что дружба между великим вождем славных россов и богопочитаемым Автократором Василием Вторым нарушена.
— Прошу меня извинить за резкость, — Ираклий низко поклонился. — Меня искренне огорчило то, что дружба между великим вождем славных россов и богопочитаемым Автократором Василием Вторым нарушена. Клянусь, у меня сейчас только одно желание и только одна цель: восстановить разрушенное и исправить возникшее между нашими державами мелкое недоразумение.
Когда Богуслав перевел слова ромея, Владимир удивился.
Слишком резкой была перемена. Но виду не подал. Милостиво кивнул и заявил:
— Мое уважение к брату и родичу василевсу Василию по-прежнему неизменно. И я готов исправить то мелкое недоразумение, которое возникло между нами.
Теперь изумился друнгарий:
— Верно ли я тебя понял, великий? Ты готов вернуть этот город?
— Готов, — подтвердил Владимир. — Но, говоря о недоразумении, я имел в виду другое… — И, видя удивление ромея, пояснил: — Моя невеста, сестра императора Анна. Надеюсь, ты привез ее?
О! Друнгарий успел забыть нелепую историю о том, как василевс пообещал варвару Порфирогениту.
Многие в Константинополе сочли правильным забыть об этом.
Но скиф — помнит. И желает получить обещанное.
— Жаль огорчать тебя, великий, но Порфирогенита Анна ныне пребывает в Константинополе, — честно ответил друнгарий.
— Вот как? А я надеялся, что одно лишь желание выполнить договор привело к здешним берегам столько кораблей. Но если не желание уберечь Анну от морских разбойников привело сюда твой флот, то что же тогда?
Друнгарий не нашелся что ответить. Впрочем, ответа и не требовалось.
— Я уверен, — заявил Владимир, — что не злой умысел привел к прискорбной забывчивости твоего господина. Я слыхал, он был занят в битвах с врагами. Но теперь, насколько мне известно, враги разбиты, и сейчас самое время исправить возникшее между нами… недоразумение. Не то может статься так, что новые враги… — Владимир сделал многозначительную паузу, — вновь отвлекут императора Василия. И мне бы очень не хотелось, чтобы грех по забывчивости нарушенной клятвы, данной перед Богом, отягчил душу императора. Передай ему, что я сделаю всё, чтобы спасти моего родича и воспреемника от клятвопреступления. Возвращайся в Константинополь, друнгарий! И привези мне мою невесту. Надеюсь, это не займет много времени, потому что этому городу будет непросто прокормить мое войско, если ты задержишься.
— Но ты сказал, великий, что готов оставить Херсон? — сделал слабую попытку сопротивления Ираклий.
— Так и будет, — подтвердил Владимир. — Мое войско покинет город. Как только я обвенчаюсь с кесаревной Анной.
Глава девятая. Проблемы херсонских купцов и имперского флотоводца
В Корсуни братья Артём и Богуслав поселились скромно — в доме хузарина Лохава. Достойный человек Лохав. Воин. Воевал в дружине Серегея, потом — с Богуславом, а состарившись, ушел на покой, женился на одной из побочных дочерей Машега, вошел в род и стал здесь, в Корсуни, торговым представителем боярина Серегея. То есть официально — не боярина Серегея, а спафария Сергия. Зато Лохава не упрятали в застенок вместе с другими русами, когда началась осада. И с его помощью Настас переправил послание Владимиру. Сам-то священник с луком был — не очень. А Лохав — хузарин. Лук для него — как клыки для волка.
Сначала-то братья намеревались разместиться во дворце, поближе к Владимиру, но Лохав настоял. Заверил, что у него будет не хуже. И вообще, не дело это — жить в чужом доме, пусть даже это и дворец, если имеется подворье родича.
Уговорил.
Скучно братьям не было. Да и в Корсуне они проводили едва ли один день из трех. Пока великий князь решал политические вопросы, его верные воеводы решали свои.
Пока великий князь решал политические вопросы, его верные воеводы решали свои.
Грабеж ромейской провинции шел полным ходом. Большая часть награбленного свозилась теперь сюда, в Корсунь. И копилась здесь, потому что отправлять добычу сушей — дорого и опасно. Степняки не дремлют. А водой — никак. Пару-тройку хеландий, попытавшихся уйти из Херсона, моряки друнгария Ираклия перехватили и ограбили. Вернее, не ограбили, а реквизировали товар на нужды имперского флота. Хорошо хоть корабельщиков в живых оставили. То же и для тех, кто не из города, а в город плывет. Даже рыбаки в море выходить не рискуют. Ловко устроились ромеи. Заперли флот Владимира в бухте и творят на море что пожелают.
А добычу в город всё везли и везли. И всё это приходилось где-то хранить. А челядь и скот — еще и кормить…
— Надо что-то делать, — сказал Богуслав.
Артём пожал плечами. Он не купец. Он князь. Свою долю добычи взял серебром. И провиантом месяца на три — дружину кормить. Еще солью запасся. Впрок. Но соль, она не портится и кушать не просит.
Богуслав и Лохав по-другому мыслят. Не должно богатство праздно лежать. Сдвинуть сани с места да разогнать куда труднее, чем катить по зимнику. Корсунь — торговый город. Морской. И он на побережье — не единственный. Сейчас не смерды местные товары в город свозят, а люди Владимира. Местные, пока в городе и окрестностях войско, в Корсунь не пойдут. И урожай не повезут, когда созреет, и прочие товары тоже. А ну как русы отнимут? И морем тоже — никак.
— Может, вам с друнгарием договориться? — предложил Артём. — Пусть за мзду корабли пропустит?
Богуслав покачал головой.
— Уже пытались. Купцы здешние. Друнгарий мзду не принял, а взяткодателя повесил.
— Откуда знаешь? — спросил Артём.
— Уши есть, братец. Ромейский магистр вчера на пиру рассказывал, да ты уже ушел. А кто, кстати, эта рыженькая? С которой ты ушел?
— Не твое дело! — отрезал старший брат. — А что еще рассказал магистр?
— Друнгария флота хвалил. Очень ему понравилась такая честность.
— Еще бы, — пробурчал Лохав. — Он у купцов товар по дешевке скупает.
— И не думаю, что они с друнгарием — в доле, — подхватил Богуслав. — На людях-то ласковы, а в глаза заглянуть — так бы друг друга и сожрали.
— Да-а… — протянул князь улицкий. — Велика дружба меж ромейскими боярами. А почему всё-таки наш морской вождь мзду не принял? Мало показалось?
— Почему — как раз понятно, — сказал Богуслав. — Возьмет, а тот же магистр донесет на него императору. И облегчит друнгария василевс на какую-нибудь важную часть тела. На голову, например.
— Тяжело жить купцам, — сделал собственный вывод Артём. — Нам, воям, война — слава и добыча, а вам, — он подмигнул брату, — чистый разор.
— Не нам, а им, — уточнил Богуслав.
Артём нахмурился: подумал, что невольно обидел брата, причислив его к торгашам, однако извиниться не успел.
— Мы с батей как раз — в прибыли, — опередил старшего брата самый молодой воевода великого князя. — У нас в Константинополе — двухлетний запас мехов. Ныне его можно втридорога сбыть. Это прочим купцам трехмесячный срок пребывания установлен, а всё, что продать не удастся, следует передать префекту, дабы тот сам всё продал и на следующий год вырученные деньги купцам отдал. Или не отдал, если те купцы вернуться в Константинополь не смогут, а батюшка наш — имперский спафарий. Ему и в столице жить можно, и торговать свободно. И щедр он безмерно: оставшиеся товары у бедных купцов наших сам скупает.
И щедр он безмерно: оставшиеся товары у бедных купцов наших сам скупает. За твердую цену. Не то что префект, который, как догадываешься, девять долей из десяти себе в кошель кладет. А мы — не более шести. И расплачиваемся сразу, без обмана.
Артём расхохотался, хлопнул брата по плечу:
— Гляжу на тебя и думаю: а не из нурманов ли батюшка наш? Мыслишь ты в точности как Олав, сын Трюггви. Слыхал: звал он тебя на службу. Может, зря ты отказался? Вы бы с ним неплохо сошлись!
— Вот еще! — возмутился Богуслав. — Буду я служить какому-то там северному конунгу! По справедливости, он мне служить должен. Это я ему возвращение отчего удела предрек!
— Вот как? — заинтересовался Артём. — И когда это случилось?
— Давно, неважно, — буркнул опомнившийся Богуслав. Артём — брат, но даже ему не стоит знать, что было меж Богуславом и Рогнедой.
— Лохав! — гаркнул он. — Чего сидишь? Наливай! И девок позови! Тех рыженьких двойняшек! Пусть спляшут нам с братом танец змеи и птицы! Брат рыжих любит! А потом мы с ними спляшем! Ха-ха!
Если он хотел таким образом заставить брата забыть о неудобном вопросе, то — ошибся. Артём ни на миг не поверил, что на брата накатила вдруг хмельная удаль.
Но он понял, что тема Богуславу не нравится, и дальше расспрашивать не стал. Он очень дорожил доверием брата, а основа доверия — не отсутствие секретов, а уважение к чужим тайнам. Да и повеселиться князь Артём никогда не отказывался. Опять-таки «танцы» с девками — его любимое развлечение. После «пляски стали», разумеется.
* * *Друнгарию Ираклию было не до плясок. И вино у него в бокале — намного хуже, чем то, которым угощал братьев Серегеичей Лохав. А уж о закуске и говорить нечего. Хотя простые ромейские моряки совершенно справедливо завидовали и друнгарию, и прочим командирам. Потому что уже забыли, когда наедались досыта.
Проблемы херсонских купцов не шли ни в какое сравнение с бедами, грозившими непобедимой ромейской армаде.
На флотилии заканчивались припасы. И вода. Но запасы воды еще можно было восполнить, а вот с пищей было совсем туго. Всё, что не успели попрятать жители фемы Таврика, отняли россы. Сошедших на берег ромеев встречали пустые селения… Или те же банды россов.
Впрочем, если на берегу замечали воинов Владимира, то высадка отменялась. Скифы конкуренции не терпели.
Друнгарий, пользуясь тем, что ему дозволено находиться в городе, попытался добыть провиант в Херсоне, но обращаться к Владимиру он посчитал неправильным. Может, и зря, потому что верные византийские подданые, херсонские стратиг и протевон, коим полагалось обеспечивать имперский флот всем необходимым, Ираклию отказали, сославшись на то, что в настоящий момент Херсон не является византийским городом, а коварно захвачен россами. Более того, ограблен дочиста, и помочь друнгарию никак невозможно. Нечем.
Вранье. Но принудить негодяев у друнгария не было никакой возможности. Управлял городом, действительно, архонт россов, и в дела херсонской общины, тем более во взаимоотношения ее с имперским друнгарием, Владимир не вмешивался. Вождь россов вполне удовлетворился выплатой контрибуции и регулярными поставками провианта. Выходило, что для захватчиков у херсонитов продовольствие было, а для друнгария — нет.
Обратиться напрямую к херсонским купцам Ираклий не мог — после показательной казни их посланца. Оставалось попробовать купить что-то на рынке, на общих основаниях, но торговцы заламывали такие цены, будто в городе голод. Трудно будет объяснить подобные расходы в Константинополе. Там сразу заподозрят, что друнгарий деньги попросту украл.
Единственный вариант — покупать у рыбаков свежую рыбу. Но и тут возникла проблема. Рыбаки старались держаться от имперского флота подальше, ведь поначалу платить за улов им никто не собирался.
Зачем платить, если можно отнять?
Если морякам станет нечего есть, то поднимется бунт. И опять виноватым окажется Ираклий.
Друнгарий почти пожалел о том, что повесил купчика. Ведь с ним можно было договориться о поставках продовольствия по правильным ценам в обмен на свободный проход мимо имперских дромонов. Но, стоило лишь представить, как выглядело бы подобное соглашение в интерпретации врагов друнгария, и сразу становилось понятно: правильно повесил.
Требование Владимира ушло в Константинополь две недели назад. Пять самых быстрых кораблей сопровождали гонца.
Что ответит Автократор? И когда?
Выгадывая время, друнгарий отправил обратно часть флота и почти всё войско вместе со страшно недовольным комитом. Пусть себе злится. Воевать на суше с Владимиром бессмысленно, а на море россы драться не станут. Владимир ясно выразил свое желание. Не война, а Порфирогенита.
Сообразив, что самому решить проблему не удастся, друнгарий, скрепя сердце, обратился за помощью к имперскому магистру. Формально тот и сам должен был помочь, но выручать друнгария не рвался. Зато можно не сомневаться: донесет Богопочитаемому о любой оплошности друнгария.
Впрочем, именно людям магистра удалось купить немного зерна. И сотню бочек вина. Скверного (в этом друнгарий убедился лично) и невероятно дорогого. Зато, когда вино стали добавлять в воду, настроение моряков немного улучшилось. А чуть позже именно магистр выпросил у архонта россов разрешение для ромеев — сходить на берег. Малыми группами. Не больше пятидесяти человек за раз.
И снова едва не вспыхнул бунт. На двух кораблях началась резня за право встать на твердую землю.
И одному лишь Господу известно, сколько еще ждать ответа из Константинополя на требование архонта россов. А ведь еще пара недель — и людям друнгария придется жрать собственные ремни…
Глава десятая, в которой великий князь берет себе нового исповедника
— Ты хотел помочь нам, божий человек, — сказал Владимир. — И ты заслужил награду. Проси — не откажу!
У великого князя наконец нашлось время, чтобы принять того, кто рассказал русам о водопроводе. Честно сказать, Владимир о булгарском священнике попросту забыл. Но Богуслав напомнил.
Так что теперь, при большом скоплении народа, своих и чужих, великий князь Владимир торжественно принимал божьего человека, предавшего город, в котором жил. Интересно, почему?
— Если я попрошу тебя изгнать от себя ромеев, хакан, ты наверняка откажешь, — заявил Настас.
Он говорил с великим князем почти как с равным. Гордо выпрямившись, не опуская глаз.
Однако Владимиру это понравилось. И то, что священник свободно говорил на словенском, — тоже.
— Ромеев не изгоню, — покачал головой Владимир. — Но я желаю знать, за что ты так их ненавидишь, священник, и почему, ненавидя, живешь в их городе?
Настас вздохнул. Рассказывать ему не хотелось, но отказать князю он не рискнул.
— Мой отец был настоятелем церкви Святого Николая, что стояла близ Доростола. Ромеи пришли на нашу землю. Они называли нас еретиками и богумилами, хотя это была ложь. Они убили отца и многих из паствы, а церковь разграбили. Достаточно ли этого для ненависти?
— Господь наш велел прощать, — заметил Владимир.
— Я простил, — кротко произнес Настас. — Я простил им убитых тогда, когда истекал кровью у Царских врат и думал, что тоже умру. Но Господь не дал мне этой благой участи. Я живу и помню. И скажу тебе так, хакан русов: врагов можно и должно прощать, но хула на Господа нашего не прощается. Вот почему я живу здесь, среди ромеев. Чтобы напоминать тем, кто забыл: имя их — ложь! И потому, раз уж ты обещал мне награду, то я прошу тебя, хакан, лишь об одном. Сделай меня своим исповедником! Как знать, не для этого ли Господь сохранил тогда мою ничтожную жизнь?
И умолк, ожидая ответа.
Сделай меня своим исповедником! Как знать, не для этого ли Господь сохранил тогда мою ничтожную жизнь?
И умолк, ожидая ответа.
Владимир мог сурово наказать его за дерзость. Однако Настас не боялся. Жизнь его — в Руке Божьей, так чего же бояться?
— Я собирался одарить тебя по-княжьи, — после небольшой паузы произнес Владимир. — Но забыл, кто ты. Ты напомнил мне, и, надеюсь, Иисус простит мне мой грех. Отныне ты — мой, отец Настас. И повелеваю тебе и впредь заботиться о душе моей и об искуплении грехов моих. Я возьму тебя с собой, отец Настас. Тебя и всех, кого ты позовешь с собой. Я дам вам кров, а для тебя построю в Киеве церковь не худшую, чем та, которую разорили ромеи в Булгарии, — и, перехватив ненавидящий взгляд стратига Михаила, обращенный на булгарина, сказал: — Воевода Богуслав! Пусть десяток дружинников неотлучно пребывают при отце Настасе и оберегают его так же, как оберегали бы меня.
— Ты хорошо держался, — похвалил Богуслав Настаса, когда аудиенция закончилась. — Надеюсь, ты окажешься лучшим исповедником для нашего князя, чем епископ-ромей. А уж мы позаботится о том, чтобы ты тоже когда-нибудь стал епископом.
— Я служу только Богу, — Настас, задрав голову, попытался поймать взгляд Богуслава, но тот смотрел не на священника, а по сторонам.
Чужой город — опасное место, даже если на тебе добрый доспех. А уж если старенькая ряса…
Ничего, скоро они окажутся в доме Лохава. И там Настас будет в безопасности.
О! А это что такое? Узкая улочка, ведущая к дому хузарина, оказалась полностью запружена бронными воями.
Богуслав придержал коня. Правая рука — на оголовье меча, левая — знак десятнику, и дружинники тут же выдвинулась вперед, прикрыв священника щитами…
К счастью, тревога оказалась ложной, а вои — знакомыми. Ближней гридью князь-воеводы Серегея.
Батя приехал!
— Морем? — удивился Артём. — И ромеи тебя пропустили?
— Попробовали бы задержать, — улыбнулся Духарев. — Во-первых, я — спафарий империи, а во-вторых, у меня есть вот это!
Сергей Иванович продемонстрировал именной перстенек с печаткой, изображавшей императоров Василия и Константина.
— Кстати, Славка, ты в курсе, что ромеи — голодают?
— И поделом! — заявил Богуслав при полном одобрении старшего брата. — Пришли нас бить — пусть теперь попостятся. И скажут спасибо своему воеводе. Редкий наглец. Князю нашему нагрубил. Жаль, что Габдулка его не прирезал!
— Не уверен, что у бохмичи получилось бы, — возразил Духарев. — Друнгарий Ираклий умеет за себя постоять. Когда-то он с самим Цимисхием мечи скрещивал. Развлечения ради.
— Вот! — воскликнул Артём. — Я сразу почуял, что он — боец! Наша стать, хоть и ромей!
— Коли так, то ты с ним и потолкуй, — предложил Сергей Иванович. — Против него сейчас магистр да стратиг на пару играют. А друнгариевым морякам жрать нечего. Вот-вот с голодухи в драку полезут. А оно нам надо? Что великий князь сказал? Миром! Значит — миром. То есть — голодных надо накормить. Не бесплатно, разумеется, но по разумной цене. А договариваться, Артёмище, будешь ты. Как воин с воином. Друнгарий флота, который должен нам жизнь, никогда не бывает лишним.
— Сделаю, бать, — кивнул Артём. — Ты лучше скажи: как Илюха?
— Худо Илюхе, — враз помрачнел Сергей Иванович. — Похоже, быть ему калекой. Что могли — всё сделали. Бесполезно.
— Вот же беда, — вздохнул Артём. — Каким славным воином мог стать. Что за злая судьба у отрока!
— Была бы злая, он бы тебя не встретил, — возразил Богуслав.
Что за злая судьба у отрока!
— Была бы злая, он бы тебя не встретил, — возразил Богуслав. — Ты ему новую жизнь подарил. И неплохую жизнь.
— Не хорони его! — рассердился Артём. — Он жив. А жить можно и без ног. И неплохо жить!
Богуслав пристально посмотрел на брата, и тот смутился. Он тоже понимал, что это — не жизнь. Для Ильи — уж точно.
— В здешней церкви мощи есть, — после паузы проговорил Богуслав. — Святого Климента останки. Говорят, чудотворные. Может, привезти сюда Илью?
— А может, мощи — в Киев? — сумрачно произнес Артём. Он верил в Бога, но в чудеса — нет. Просто так сказал. Но Богуслав загорелся:
— Я поговорю с великим князем!
— Поговори, — равнодушно отозвался Артём. Эх, Илья, Илья! Вот же беда какая…
— А сам он как? — спросил Богуслав. — Держится?
— Старается, — ответил Духарев. — Попросил в Морове его оставить. Я ему в опекуны у Устаха Кулибу выпросил. Помнишь Кулибу, Славка?
— А то! — ухмыльнулся Богуслав. — Такой кулак разве забудешь?
— Кулиба не Кулиба, а сидеть сиднем в избе такому, как Илюха, — ой тяжко! — мрачно произнес Артём. — Захиреет он.
— А кто сказал — сиднем? — даже обиделся Сергей Иванович. — Еще скажи — в лёжку лежать! Ужель я о сыне своем названом не позабочусь? Зачем тогда было его в род брать?
Глава одиннадцатая. Ангел
Корсунь. Начало августа
Порфирогенита Анна, сестра императора Византии, медленно поднималась по усыпанной цветами лестнице к распахнутым воротам Херсона. С трех сторон ее ограждали свитские: чиновники, священники, воины… С четвертой встречал будущий супруг, архонт россов, нет — василевс россов Василий Первый. Человек, которому брат Порфирогениты, тоже Василий, но — Второй, Автократор, отдал Анну. Вернее, обменял на фему Таврика. Нет, дело не только в феме. Анна знала: брату нужен мир с россами. Ему нужна верность новых варангов, которые прежде служили росскому архонту. Ему нужен союз с сильным и опасным архонтом россов. Без этого Василию никогда не осуществить заветной мечты: отомстить мисянам.
Анна не роптала. Она знала, что ее жизнь, ее тело принадлежат не ей, а империи. Дочь императора… Порфиророжденная…
Маленькие ножки в драгоценных туфельках сминали свежие цветы. После долгого плавания Анне приятно ступать по твердому камню. Но о том, кто ее ждет наверху, кесаревна старалась не думать. Она верила в свой дух. И еще более — в свою красоту. Анна знала, что она — прекрасна. Не потому, что ей твердили об этом придворные льстецы. Анна умела читать в глазах мужчин. Да и женщин — тоже. Она ведь выросла во дворце. Ей пришлось научиться многому.
Однако где-то в глубине души кесаревна и Порфирогенита оставалась юной невинной девушкой… Которой — страшно…
Лестница кончилась.
Архонт россов, крещеный варвар, будущий муж, стоял перед Анной. Свирепый дикарь, чьей единственной заслугой, как еще недавно говорил брат, император Константин, безвластный и праздный соправитель Автократора Василия Второго, было умение быстро и умело убивать врагов. Анна встречалась с архонтом во дворце. Вернее, ее показали архонту, чтобы тот взглянул — и восхитился. Тогда никто: ни брат-василевс, ни сама Анна — не думал, что обещание отдать ее варвару будет выполнено. Варвар сделает свое кровавое дело и уедет в свои дикие земли. Варвару дадут немного золота, чтобы не обижался, и он забудет о Порфирогените.
Варвар не забыл.
Анна не верила, что причиной тому — ее красота. Она могла быть сущей уродиной, рябой и беззубой, но всё равно принесла бы своему мужу титул василевса.
Она могла быть сущей уродиной, рябой и беззубой, но всё равно принесла бы своему мужу титул василевса. Подняла бы дикого скифа выше престолов европейских корольков, тоже потомков дикарей, поделивших западную часть Великой Римской империи.
Анна остановилась. Она боялась поднять голову и посмотреть в глаза будущему мужу. Необратимость происходящего внушала ей ужас…
Но надо справиться. Она — Порфирогенита. Дочь и сестра императоров империи! Она — должна!
Взгляд Анны медленно заскользил вверх: загнутых кверху носочков собственных туфель на красные (!) сапоги, затем — на свободные штаны из синего плотного шелка, от края чешуйчатого панциря к широкому, с золотой, инкрустированной каменьями пряжкой поясу. От пояса взгляд кесаревны поднялся к зерцалу с искусно (явно византийская работа) исполненным чернью и эмалью Святым Георгием и выше, выше — пока не уперся в крепкий бритый подбородок, «обрамленный» светлыми усами, такими длинными, что кончики их касались панцирных чешуй…
— Господин… Я рада… Я плохо знать твой речь, — запинаясь, произнесла кесаревна.
Трогательная улыбка — на пурпурных устах. Потупленные глаза, дрожащие ресницы…
— У тебя будет время выучить его, Анна, — по-ромейски ответил Владимир, разглядывая будущую жену.
Боярин Серегей опять оказался прав. Василевс не собирался отдавать Анну. Вот почему она начала изучать язык, лишь оказавшись на корабле, плывущем в Корсунь.
Но сейчас это неважно. Дело сделано, и Анна станет его женой! А сейчас он должен заглянуть в ее глаза!
Владимир протянул руку, коснулся подбородка кесаревны (она вздрогнула, но сдержалась, не отпрянула) и заставил Анну поднять голову.
Его невеста действительно прекрасна.
Впервые в жизни Владимир, глядя на женщину, не испытывал желания немедленно опрокинуть ее на спину. Он любовался.
«Она — словно жеребенок-двухлеток чистейших кровей», — подумалось Владимиру.
Таких не объезжают силой. Таких мягко и терпеливо, лаской, с любовью, приучают… Нет, не к седлу. К себе. Чтобы конь не слугой был — другом. Чтобы он умер за тебя, а ты — за него. Чтобы чувствовать его как себя. Чтобы ловил каждое желание всадника и друга. Чтобы ты мог доверить ему свою жизнь так же бестрепетно, как он, конь, доверяет тебе свою…
Владимир опомнился, когда увидел тревогу в чудесных глазах Анны…
Пристальный взгляд архонта заставил Анну затрепетать. Порфирогенита привыкла к разным взглядам. Восхищенным, вожделеющим, похотливым… Анна выросла во дворце, а это многое значит. Но в синих, как сапфиры на диадеме Анны, глазах киевского архонта чувствовалась настоящая власть. Не та, которую порождает пурпур василевса. То была сила, которая шла изнутри, из самой сути человека. Не диадема василевса заставляла людей повиноваться владыке. Архонт россов сам был властью и знал об этом. Вот что напугало Анну. Ей, Порфирогените, дочери и сестре императоров величайшей из империй, захотелось отдать себя в эту власть. Лишь один человек прежде вызывал у нее подобные чувства: прежний Автократор. Иоанн Цимисхий.
Велика разница между Автократором Иоанном и архонтом россов. И не менее велика разница между той, совсем юной, девочкой и нынешней Анной. Но знакомая слабость предвкушения растекается по телу…
Анна опомнилась лишь на мгновение позже Владимира. Взяла себя в руки. Она — Порфирогенита. Часть судьбы империи. И только ради империи она сейчас здесь! Она справится! Не сдастся!
— Мой брат, богохранимый и богопочитаемый василевс Василий Второй, посылает привет…
Голос Анны тверд. Ее тон наверняка обманет людей собственной свиты Анны и грозных воинов-россов, выстроившихся позади Владимира. Это голос дочери и сестры императоров, голос, поставленный лучшими риторами и учителями пения.
Никто-никто не должен усомниться, что это голос Порфиророжденной, а не юной испуганной девушки, чье тело и честь обменяли на захваченную фему.
Никто и не усомнился. Кроме Владимира. Он, единственный, видел не только Природную Власть империи, сошедшую на землю удаленной фемы, но и — женщину. Ту, что скоро, очень скоро станет его женой. Единственной истинной супругой перед Всемогущим Богом…
* * *- Она прекрасна, как ангел небесный! — Друнгарий Ираклий высоко поднял чашу с вином. — За Порфирогениту!
Доброе вино дружно влилось в десятки глоток.
Командиры византийских дромонов во главе со своим друнгарием праздновали завершение херсонского стояния.
— Эх, жаль, что такая красота достается дикарю, — заявил один из капитанов, но другой, сосед, тут же пихнул его в бок и ткнул пальцем туда, где, во главе стола, сидели друнгарий, его заместитель и двое росских воевод, которых друнгарий публично объявил своими лучшими друзьями. Еще бы, ведь это они, по просьбе своего отца (имперского спафария, кстати), снабдили ромейских моряков припасами и спасли от неминуемого голода.
Подвыпивший капитан красного дромона смутился и пробормотал сконфуженно:
— Конечно, не все россы — дикари. И, Господь — Свидетель, я рад, что мы теперь — друзья…
Но тут он снова вспомнил, как стояла во вратах собора прекраснейшая из византиек и как она глядела на своего мужа-скифа… И потянулся к кувшину с вином. Куда катится империя?
Эпилог
Мечта Владимира — обвенчаться в собственном храме на высоком днепровском берегу, не сбылась.
Ромейский епископ (еще один), прибывший с кесаревной, обвенчал Владимира и Анну в главном соборе города Корсуня. Но когда это случилось, и сам город, и всё в нем единовластно принадлежало великому князю, так что взял князь жену не на чужой земле, а на своей. Неважно, что сразу после венчания Владимир официально вернул город Византии. Всё равно власть над городом оставалась — его. И никто не мог помешать Владимиру, покидая Корсунь, забрать с собой в Киев и всю церковную утварь, включая мощи Святого Климента.
Никто не возражал. Вслух. Почему бы святой реликвии не последовать за кесаревной в новокрещенную столицу василевса россов Василия Первого? Там она, безусловно, нужнее. А целый сонм священников, назначенный реликвии в сопровождение, безусловно, сумеет позаботиться о мощах Святого. И о прочих священных предметах: иконах, сосудах, облачениях…
Ободранный как липка Херсон провожал отяжелевшую от добычи флотилию россов. И флотилия ромейская сопровождала ее в качестве почетного эскорта. Гребцы на лодьях не без опаски поглядывали на красные корпуса огненосных дромонов, но доверяли слову своего князя, заверившего гридь в дружеском расположении ромеев. Все хорошо. Страшные корабли всего лишь проводят лодьи до днепровского устья, а потом ромеи отправятся восвояси. Останутся только те, кому назначено быть свитой новой жены великого князя Владимира.
Для своих, для гриди, для руси, сын Святослава по-прежнему оставался батькой и великим князем. Для всего прочего мира — другой титул. Кесарь. Василевс. Христианский правитель, равный если не императорам, то уж европейским королям — наверняка. Государь.
И все эти титулы будут унаследованы сыновьями василевса Василия и его супруги-Порфирогениты. А сыновья будут, можно не сомневаться. Достаточно лишь взглянуть на новобрачных, чтобы понять: сам Господь благословил этот брак. А значит, и все плоды его. Да как можно не верить в будущее того, кто принес Руси Веру Христову?
Гридь верила. Русь — верила. Но в дремучих лесах, диких степях и болотистых северных окраинах великого государства жили десятки племен и сотни родов. Жили и верили в своих собственных богов. Богов исконных, от пращуров. Тех, кого новая вера объявила бесами. Злом. И люди эти, тысячи и тысячи, не собирались отдавать свою древнюю веру.
Злом. И люди эти, тысячи и тысячи, не собирались отдавать свою древнюю веру. И они были — силой. Силой, с которой следовало считаться. Или — бить. И бить беспощадно, потому что кровь врага — любимая пища языческих богов. Даже если эти боги считаются добрыми…
Примечания
1
Титул третьего класса. Если пользоваться аналогиями Российской империи — что-то между военным и статским советником.
2
Паракимомен — личный постельничий императора. Высший из императорских приближенных-евнухов.
3
Командующий армией.
4
То бишь на византийском варианте греческого.
5
Надеюсь, читатель простит мне небольшой анахронизм.
6
Чуть больше десяти километров.
7
Высший военный титул в Византии.
8
Случилось это в 979 году от Р. Х.
9
Яхъя Антиохийский и Диакон дают несколько другую картину событий, а Скилица пишет, что именно Склир, чувствуя, что проигрывает битву, бросился на Варду и неслабо ему накидал. Лично я склонен Яхъе верить больше, чем хронисту Пселлу, поелику Яхъя был куда ближе к центру событий, но официальная версия именно такова, так что ее и подобает излагать представителю императора. Хотя какая разница? Факт налицо: Склир разбит и сбежал.
10
Он же — султан Багдада Адуд-ал-Даула.
11
Напомню, что красная обувка — непременный атрибут императорской власти в Византии. Эксклюзивный.
12
Восстание Варды Фоки произошло, согласно византийским источникам, в 987 году. Так что есть неувязка с датировкой. У меня на дворе 985-й. Причина проста. Согласно ПВЛ Крещение Руси произошло в 988 году. Если исходить из византийских хроник, то в 988 году даже Владимир еще не был крещен. Безусловно, я куда больше верю грекам, чем нашим переписчикам. Тем более что греческая хронология подтверждается астрономическими данными (прохождение кометы), но ради сохранения общенародной даты Крещения Руси иду на исторический подлог. Прошу прощения!
13
Ранг чиновника пониже спафария.
14
Так в то время на Руси называли мусульман.
15
Рота — присяга.
16
Спафарий переводится как «меченосец».
17
Имя и родство — вымысел автора. Остальное — более чем вероятно.
18
В одном кентинарии примерно тридцать кило золота.
19
Порфирогенита, то есть рожденная в Порфире, особом покое императорского дворца, где появлялись на свет лишь дети действующего императора. Порфирородные представители династии (порфирогениты) считались особыми существами, связанными духовными узами с судьбой Византии.
20
Грузины.
21
Надо полагать, Болеслав Первый Храбрый, будущий король Польши.
22
Император Оттон Второй Рыжий.
23
Датский Вал — вал, сооруженный в девятом веке в Шлезвиге между двумя фьордами для защиты южной границы Дании. Остатки вала сохранились до сих пор.
24
Надо отметить, что конунг Харальд честно выполнил свои обязательства и крестил Данию, а вот ярл Хакон, как только убрался подальше от опасности, избавился от священников, которых ему навязали, вернулся к язычеству и по дороге домой, в Норвегию, неплохо пограбил датские земли.
25
Если верить Хронике, епископ Поппо, дабы посрамить языческих жрецов и убедить конунга датского Харальда в могуществе Христа, по собственному почину (а возможно, и по инициативе Харальда) прошел ордалию. То бишь в доказательство своей правоты некоторое время держал в руках раскаленное железо. Убедившись, что на руках епископа нет ожогов, вдохновленный чудом конунг принял христианство.
26
Имеется в виду Харальд Первый Норвежский, Инглинг, сын Хальфдана Черного и отец Эйрика Кровавой Секиры. Невеста поставила Харальду условие, что выйдет за него, лишь когда он станет конунгом всей Норвегии.
И Харальд принял гейс: не стричься и не причесываться, пока Норвегия не будет под ним. И добился своего. А уж тогда превратился из Харальда Косматого в Харальда Прекрасноволосого.
27
Так и было. Лишь внезапно изменившийся расклад сил в Норвегии помешал Клакке подставить Трюггвисона. Но не будем отвлекаться. Это ведь история Крещения Руси, а не Норвегии. Хотя сходство — несомненное.
28
Напомню, что поприще — это примерно дневной переход каравана. Очень популярная в Средние века мера длины, потому что напрямую завязана с проходимостью маршрута. По дороге — одна, по степи — другая, по горам — третья… Но для удобства можно считать, что одно поприще — это километров двадцать по грунтовке.
29
Здесь и далее я воздержусь от указания года. Причина та же, что и раньше: вполне достоверная, подтвержденная разными источниками и даже астрономическими данными византийская датировка не совпадает с указанной в ПВЛ «официальной датой» Крещения Руси. Чтобы не создавать путаницы, которая будет покруче, чем празднование «В.О.Р.» (великой октябрьской революции) в ноябре.
30
Логофет — что-то вроде министра. Среди прочих обязанностей логофета дрома было и руководство «министерством иностранных дел» империи.
31
И не надо иронизировать над предками. И ныне многие конно-и собакозаводчики придерживаются сходных взглядов. Несмотря на все достижения генетики.
32
То бишь — посредством данных нам Богом органов чувств.
33
Еще раз напомню, дабы избежать естественной от сходства имен путаницы:
Варда Фока — родич императора-узурпатора Никифора Фоки. Участвовал в мятеже против убийцы Никифора и следующего Автократора Иоанна Цимисхия.
Варда Склир — родич императора Иоанна Цимисхия, поднявший восстания против «нынешнего» императора Василия Второго.
Василий вернул Варду Фоку из ссылки, и тот Склира разбил.
34
Лития — церковное шествие.
35
Чтобы было понятнее, отчего возникала такая ротация правителей, напомню, что в Византии, равно как и в предшествующей ей Великой Римской империи, частью которой Византия в свое время и являлась, не было узаконенного наследования императорской власти от отца к сыну. Император рассматривался как представитель Бога на земле. Если его свергали, значит, он был неугоден Богу. А тот, кто сверг, — угоден. Чувствуете сходство с языческим «престолонаследием»? Тем не менее особы, рожденные в императорском дворце, Порфирогениты, имели немалый вес. А любой узурпатор старался выстроить некую «линию преемственности» от прежней императорской династии — к себе, любимому. Женился на дочерях и вдовах почивших императоров, назначал их детей соправителями… Кстати, сопровительство тоже было своего рода попыткой выстроить линию передачи власти. Император-папа нередко назначал сына или иного кровного наследника именно соправителем. Но совершенно не обязательно делился с ним властью. Например, тот же Василий Второй, имея соправителем брата Константина, полностью изолировал последнего от рычагов управления страной.
36
Склонен думать, на раздор, который его «агенты влияния» попытались устроить внутри болгарской политической «верхушки».
37
Совр. София.
38
Желающих узнать подробности, отсылаю к знаменитому хронисту Льву Диакону, лично присутствовавшему во время этого события и оказавшемуся достаточно удачливым, чтобы унести ноги и поведать о беде потомкам.
39
Большая невезуха, кстати, для болгар, потому что много позже затаивший недетскую обиду Василий вновь вторгся в Болгарию, на сей раз победил и учинил жуткую резню, за что и сподобился в веках прозвища Болгаробойца.
40
Мелиссины — знатый и сильный византийский род, недружественный Василию Второму.
41
Хрисополь (совр. Скутари) — город на азиатском берегу против Константинополя.
42
Вернее, ослеплен, поскольку вместе со своим дядей Львом участвовал в мятеже против Иоанна Цимисхия — и проиграл.
43
Это право давал Владимиру брак с порфиророжденной царевной. Так что не Иоанн Грозный, а именно Владимир может по праву считаться первым русским царем.
44
На протяжении многих веков (вплоть до императора Никифора Фоки, о котором я писал ранее) стандартный вес византийских монет (номисм, солидов) был равен примерно четырем с половиной граммам, а качество отвечало золоту высшей пробы. Но остро нуждавшийся в деньгах Никифор Фока (не исключено, что с подачи жадного братца Льва) провел денежную реформу. Теперь номисма старого веса называлась гистаменон, а номисма «подрезанная» примерно до четырех граммов называлась тетартерон. Первая монета предназначалась для выплаты налогов, а вторая — для расплат по государственным платежам.
45
То, что побратим Святослава Калокир и Калокир Дельфин — близкие родственники, не более чем предположение автора. Исторических фактов, подтверждающих сие, нет.
46
Те, кто знаком с версией событий, предложенной ПВЛ, могут со мной поспорить. Ведь там написано другое. Но я более склонен доверять не монахам-переписчикам, пытавшимся, много лет спустя, создать летописный образ Святого Равноапостольного князя Владимира, а современникам описываемых событий, византийским и арабским хронистам, которые на удивление дружно сообщают, что архонт русов лично прибыл в Византию во главе войска. Но, даже не будь в нашем распоряжении этих, бесспорных на мой взгляд, фактов, хватило бы и обычной логики. Одно дело, когда Владимир отсылает в Византию ставших ненужными чужаков-норманнов (с соответствующим сопроводительным письмом), а совсем другое — это отправить в Константинополь большую часть (по историческим данным — от шести до десяти тысяч воинов) собственной дружины. Ну никак это не укладывается в психотип князя-воина.
47
Напомню, что тагма — базовое подразделение византийской армии.
48
Напомню, что византийский храм состоит из трех главных частей: притвора, корабля и алтаря. Алтарь, «святая святых» храма, отделен от корабля, где обычно стоят верующие во время службы, алтарной преградой (иконостасом). Тысячу лет назад в византийских храмах, так же как и в наше время, на алтаре священником свершалось пресуществление хлеба и вина в истинные Тело и Кровь Христовы.
Корабль мог быть разделен (как это и было в храме Святой Софии) на несколько частей. Еще в больших храмах имелось особое, возвышающееся над полом место для элиты, называемое солеем.
49
Ныне — Дарданеллы, 65-километровый пролив, соединяющий Эгейское и Мраморное море.
50
Армяне.
51
У семейства Фок имелись большие владения в Халдии, где было много грузин. Используя личные связи с грузинским правителем куропалатом Давидом, Варда Фока заполучил грузинское войско еще во времена подавления мятежа Склира. Да так и оставил грузин при себе.
52
Не думаю, что Никифор Фока писал его сам, но наверняка — по его заказу. Склонен предположить, что именно Никифор, настоящий полководец, и начал процесс реформирования византийской армии. Результат налицо: арабы, теснившие византийцев, были отброшены назад, отвоеваны Крит, часть Месопотамии, Сирия. А также печальная для Руси победа Цимисхия над Святославом, в результате коей завоеванная русами Булгария перешла под протекторат Византии.
53
Легкая конница.
54
Просто для сведения. Согласно византийским источникам, победа Василия при Авидосе произошла 13 апреля 989 года.
55
Тех, кому «поединок» Василия и Варды показался фантастичным, хочу заверить: никакое авторское воображение не сравнится с реальностью. Именно так современные Василию хронисты описали его дуэль с Вардой.
Именно так современные Василию хронисты описали его дуэль с Вардой.
56
Августа.
57
Препозит священных покоев — высокий чин придворного сановника, весьма значительная политическая персона, член Синклита. Как правило, евнух.
58
Напомню, что это монастырь близ русского подворья в пригороде Константинополя.
59
Подобная «мягкость» Олава была связана с тем, что бонды были вооружены и существенно сильнее, чем дружина Трюггвисона.
60
Имеется в виду киевский воевода по прозвищу Волчий Хвост.
61
Праздник начала жатвы.
62
Днепр.
63
Напомню, что пурпур — «фирменный» цвет византийских императоров.
64
Протевон — «первенствующий» — глава городского самоуправления, выборная должность.
65
Катаракта — подвесные, внешние крепостные ворота или подъемная железная решетка.
66
Западные ворота Херсона.
67
Дата сия, как и многое другое, не согласуется с данными ПВЛ, однако вполне отвечает датировке хронистов Диакона, Яхъи и Ал-Мекина, подкрепленной сообщениями о небесных явлениях, что позволило специалистам определить время захвата Херсона Владимиром как интервал между апрелем и серединой июня 989 года.
68
Город Херсонес (он же — Херсон, Корсунь, Серсона) был заложен в середине первого тысячелетия до Рождества Христова.
69
Друнгарий — командир подразделения. Друнгарий флота — командующий императорским флотом, базировавшимся в Константинополе.