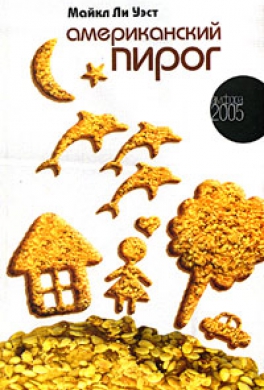
Автор: Майкл Ли Уэст
Жанр: Проза
Год: 2005 год
Майкл Ли Уэст. Американский пирог
Памяти моего отца посвящается
Живите и молитесь, усерднее поститесь,
А плюшки и пирожные в раю для вас отложены.
Джо Хилл. Проповедник и раб
Прелюдия
ПОЛУОСТРОВ НИЖНЯЯ КАЛИФОРНИЯ
29 декабря 1995 года
ФРЕДДИ
Едва я спустилась на дно в прохладные синие воды за островом Нативидад, недалеко от мыса Эухения, как прямо надо мною возник серый кит, плывший среди бурых водорослей. Массивный, как железнодорожный состав, он несся к густо заросшему дну. Я испугалась, что не успею увернуться, но в самую последнюю секунду кит резко развернулся и прошел чуть выше. Подняв глаза, я увидела сорок футов живой плоти с легкими размером с «фольксваген» и 250-фунтовым сердцем, отбивающим по девять ударов в минуту. Я объездила полмира и видела тысячи китов, но они по-прежнему внушают мне благоговейный ужас, что довольно странно, если учесть мою профессию: ведь я цетолог[1], причем специализируюсь именно по подвиду Eschrichtius gibbosus, то есть по серым китам.
Мой муж, доктор Сэм Эспай, тоже изучает китов, но в ту минуту он был примерно в двадцати футах надо мной и посиживал в лодке со своей белобрысой ассистенткой. Связаться с ним можно было лишь при помощи телепатии, но этому мешало мое глубоко научное мировоззрение. Я родилась в Таллуле, в штате Теннесси, но считаю, что ничуть не похожа на классических южанок — этих домовитых кулинарок, которые чтят память предков и полны суеверий, а также проводят полжизни, валяясь в постели.
Теперь я живу на западном побережье, в маленьком городке Дьюи, к северу от Сан-Франциско. Каждый год в ноябре мы с Сэмом бросаем вызов Калифорнийскому течению и отправляемся в Мексику, на полуостров Нижняя Калифорния. Там, около двадцать восьмой параллели, в лагунах Герреро-Негро и его окрестностей серые киты, как правило, зимуют, спариваются и заводят потомство. Остаток года мы проводим в Дьюи, на овцеводческом ранчо Мэкки, отца Сэма. Обитатели ранчо просто в восторге от наших наблюдений за китами. Они обожают рассказывать туристам, как мы купили и отреставрировали подержанную моторную лодку для ловли тунца, заплатив за нее как за жилой автоприцеп. К тому моменту она уже давно рассыхалась в доках, но все же годилась для плавания, а ее прочный деревянный корпус выглядел точь-в-точь как у старенького минного тральщика Жака-Ива Кусто. Обитатели Дьюи неизменно докладывают об этом туристам, добавляя, что у Джона Уэйна тоже был минный тральщик, за который он расплатился песней и который затем переоборудовал в шикарную яхту. Сэм нарек наше судно «Мисс Фредди», и под восхищенными взглядами горожан я разбила о нос лодки бутылку отличного калифорнийского шампанского.
Кит был так близко, что я отчетливо видела паразитов, облепивших его огромный глаз. Серые киты не обладают слухом, в отличие, например, от зубатых, но этот каким-то образом ощутил мое присутствие. Лишь десятая часть китов у побережья полуострова «ручные» — готовы буквально выискивать человека в лагунах. Подумав, что этот — один из них, я решила подплыть поближе и рассмотреть его. Кит же, почувствовав мое приближение, рванулся вперед, и его гигантский хвостовой плавник пронесся в нескольких дюймах от моего лица. Он ударил по воде с такой силой, что меня выбросило из водорослей, а регулятор выпал у меня изо рта. На мгновение меня ослепили брызнувшие во все стороны пузырьки, и впереди тут же выросла покрытая илом скала. Я еще успела выставить перед собою руки, но избежать столкновения не удалось; врезавшись в камень, я оцарапала лоб, а затем снова вылетела в середину потока. Моя маска, кружась, опускалась в водоросли, но мне было как-то все равно. Скалистый склон справа от меня растаял в сияющей тысячью оттенков синеве.
Тут-то мне и показалось, что я упустила время.
В груди начинало теснить, и я с содроганием поняла, что не дышу уже очень долго; отчаянным движением я нащупала регулятор, прижала его ко рту и втянула в себя кислород. Перед моими глазами выдыхаемый воздух рвался кверху в виде крупных сплющенных пузырей. Снизу казалось, что поверхность воды покрыта легкой рябью; посреди солнечного сияния темным пятном маячила наша лодка. Вероятно, именно так выглядит небо, когда умираешь.
Я потрясла головой, чтобы слегка прийти в себя, и вода вокруг забурлила, такая же прохладная и бодрящая, как шампанское, когда пьешь его прямо из бутылки. Передо мной взвилась какая-то красная струйка и стала расползаться в воде, словно кто-то пролил краску. Мне все еще было не по себе, но я тут же поняла, что нахожусь не слишком глубоко, так как уже на глубине двадцати пяти футов перестаешь различать цвета. Первыми пропадают оттенки красного и оранжевого; а когда опускаешься на сто футов, кругом остается один лишь голубой. Я было потянулась к облачку краски, но тут до меня дошло, что это не краска, а кровь.
Любой нормальный аквалангист, даже оглушенный, прекрасно знает, что это означает — кого кровь должна привлечь. «Акулы! — ужаснулась я и развернулась на сто восемьдесят градусов. — О господи, акулы!» Не то чтобы я видела что-то похожее в сумрачной синеве, но в этой мгле могло таиться что угодно. По пути на полуостров мы видели изъеденного тюленя, которого, несомненно, прикончила белая акула. Мне, конечно, приходилось плавать в одной воде с этими хищницами — в основном с тигровыми и с синими, — но только не раненой; ведь акула способна учуять каплю крови даже в тридцати галлонах воды. Стоило только подумать об этом, как я устремилась к поверхности, визжа и выпуская целые фонтаны пузырей.
К тому моменту, как Сэм и его ассистентка Нина ван Хук втащили меня в лодку, я уже только всхлипывала.
— Боже мой, Фредди. Что, черт возьми, стряслось? — Сэм склонился надо мной, вглядываясь в мое лицо. С каким облегчением я увидела его милые миндалевидной формы глаза, голубые с зелеными искорками! Он был острижен еще короче, чем я, а под ярким солнцем Мексики его волосы приобрели оттенок светлого хереса. Я уже открыла рот, собираясь произнести что-то вроде «Слава богу, ты спас меня». Но вместо этого пришлось кинуться к борту и свеситься наружу из-за подступившей дурноты. Что поделаешь, рвота в минуты кризиса — это своего рода семейная болезнь. После смерти мамы нас с сестрами постоянно тошнило. Я вспомнила, как мы с Элинор и Джо-Нелл толпились у клозета, то и дело сталкиваясь головами. Наша бабуля, Минерва Прэй, не унаследовавшая семейный ген регургитации, слегка спасала положение тем, что выдавала нам по эмалированной миске: каждой сестре — особого цвета.
— Слишком глубоко спустилась? — спрашивал Сэм. Стопроцентно деловой вопрос, но мне в нем почудилась искренняя забота. Он обернулся к Нине ван Хук: — Думаешь, могла произойти декомпрессия?
— В этих-то водах? — удивилась Нина. — Скорее уж декомпенсация.
Ее светлые волосы, длиной до плеч, вились мелким бесом почти от самых темно-каштановых корней; на ней была свободная футболка прямо поверх бикини. Лежа на дне лодки, я смотрела на нее снизу вверх. Она была аспиранткой в Скриппсе, моей альма-матер, и ей только что исполнилось двадцать три — на целых шесть лет меньше, чем моей младшей сестренке Джо-Нелл. Мне стало очень грустно. Но в свои тридцати три года я уже не смела закатить истерику ни на лодке, ни где-либо еще.
— Может, она просто перепугалась, — говорила Нина. — Такое бывает.
Я попыталась не смотреть на эту девчонку — ведь, в самом деле, она была еще просто девчонка. Что она знает о жизни? Может, стоило брякнуть какую-нибудь заведомую чушь, вроде: «Да ну, я не струсила, меня покусали. Вот след от укуса.
Вот след от укуса. Infect'o un mosquito. Comprende?»[2] Но она уже составила свое мнение обо мне. Ну что ж. Я от нее тоже не в восторге. Должно быть, это она пила малиновый лимонад — уж больно миленькая бутылочка. И что у нее за дурацкая манера измерять глубину в километрах?! Американская миля куда удобнее.
— Фредди, Фредди, — звал меня Сэм. — Милая, посмотри-ка на меня. На меня! Там ведь не было акул?
— Акул? — хохотнула Нина, скрестив руки на груди. — Ты что, шутишь?
Сэм и бровью не повел и продолжил спрашивать:
— Солнышко, что ты там видела? И чем оцарапалась? — Он осторожно отвел мою челку. У меня очень короткие волосы и неровная, взлохмаченная челка. Я облизнула губы, выжидая, пока пройдет тошнота.
— Да что она, язык проглотила? — изумилась Нина.
— Нет, ей просто нужно отдышаться. — Сэм потрепал меня по плечу. Терпеть не могу, когда обо мне говорят как об отсутствующей. Я закрыла глаза, стараясь взять себя в руки: но прежде чем мне удалось рассказать им правду, прежде чем я успела вымолвить: «Кит, это был просто кит», Сэм стал ощупывать мой лоб. Я вздрогнула от боли и холода и с ужасом поняла, что едва не раскололась. Разумеется, он бы меня не одобрил: я и сама не понимала, зачем так сглупила. Ведь, по сути говоря, я увидела кита и неправильно оценила ситуацию. На какой-то миг я позабыла о правилах поведения с серыми китами, а провоцировать шестнадцатиметровую махину — не самое мудрое решение. Тут-то я поняла, что такое ложь во спасение. Это своего рода спасательный круг, который помогает удержаться на плаву и выбраться из самого глубокого омута.
— Кровь так и хлещет. Только погляди. — Он откинул мне волосы со лба. — Что-то там случилось.
Он расстегнул на мне мокрый купальник, и наружу вывалилась моя левая грудь. Он принялся выискивать раны на моем туловище.
— Да все с ней в порядке, Сэм.
— Фредди! Понимаю, у тебя шок, но ты уж соберись, ладно? — Он нагнулся ко мне, сосредоточенно нахмурившись: — Что ты видела? Обычную акулу? Акулу-молот?
— Как бы не так, — заявила Нина. — Они же такие пугливые. Боятся пузырей от акваланга. Может, ей показалось, что там была акула. А там был морской окунек.
— Я б их не спутала, — процедила я сквозь зубы.
— Еще бы, — подтвердил Сэм.
Нина уставилась на меня, слегка шевеля губами, словно что-то беззвучно шепча. За ее спиной смутно угадывались очертания мыса Эухения с его остроконечными рифами. Отсюда мыс казался голым и безжизненным, настоящей пустыней, хотя вблизи выяснялось, что жизнь на нем так и кишит. Иногда во время утренних прогулок мне казалось, что у песка есть память и что в ней хранятся записи о движениях любого зверька: от легких, едва различимых черточек, оставшихся после ночной охоты ящерицы, до ямок от лисьих лап. Иногда волны приносили мусор с океанских лайнеров и из далеких северных городов, и тогда я бродила среди этого хлама и подбирала плававшие в воде диковинки. Я вылавливала инжир, гигантские шишки и крошечные раковины. Иногда, в тумане, я натыкалась на петляющий след койота или крошечные отметинки зайца, похожие на азбуку Морзе. Однажды я видела дельфина, наполовину зарытого в песок у линии прибоя. Но ближе к полудню я сдавалась. В это время поднимался неприятный северо-западный ветер, который не утихал до самого заката и страшно действовал мне на нервы.
— Черта с два это был окунь! — отрезала я.
— Ладно, ладно. — Нина подняла обе руки. — Только не надо злиться.
— И не собиралась.
Меня бросило в дрожь. Знала бы она, что я отнюдь не всегда занималась китами. Почти миллион лет назад я поступила в медицинский колледж Мемфиса, в котором, правда, продержалась лишь пару курсов.
Училась я прилично, и меня даже не мутило во время вскрытий. Я вылетела оттуда за досадный и совершенно ненужный проступок — за кражу сердца и желчного пузыря одного из трупов. Нет, серьезно. За сотню долларов я вскрыла лабораторию запасным ключом и выкрала эти органы для двух первокурсников, которым грозила двойка по анатомии. Но, пока я прятала свою добычу в мини-холодильнике, меня засекли охранники. Они завопили и выхватили оружие, я шлепнулась на колени, а холодильник опрокинулся. Органы покатились по скользкому полу, прямо к кривым ногам одного из охранников.
— А может быть, это была голубая акула? — спросил Сэм.
— С чего ты взял, что там была акула? — Нина уставилась на меня абсолютно ледяным взглядом.
— Она опытный ныряльщик. — Как ни странно, Сэм словно извинялся за меня. Он просунул руку мне под шею и приподнял мою голову. — Она знает свое дело.
— Как скажешь. — Нина потерла нос тыльной стороной руки, ни на миг не сводя с меня глаз. — Вздохни-ка поглубже и расскажи нам, кто там был.
Мне страшно захотелось подняться и дать этой дуре по физиономии; но вместо этого я начала врать.
— Тигровая акула, — выговорила я, хотя рука Сэма мешала мне говорить.
— Так-таки и тигровая. — Нина, хихикая, отошла в сторону. — Что-то не верится. Сейчас спущусь сама.
Она уселась и стала натягивать ласты. Затем, взяв маску поплевала на стекло и энергично потерла его пальцами. Потом надела баллон и взяла в рот регулятор. Я с любопытством посмотрела на Сэма: позволит ли он ей спуститься в одиночку? Но он и не думал ее останавливать, и я страшно обрадовалась. Сэм покачивался с носка на пятку, задумчиво следя, как она взбирается на борт, повернувшись к воде спиной. Взглянув на него, она подняла руку и оттопырила большой палец. Сэм ответил ей тем же. Нина улыбнулась, зажав респиратор в зубах, и опрокинулась в воду. Я живо представила себе, как она проходит сквозь уровни красного и оранжевого и опускается в чистую синеву. Вот она проплывает сквозь кровавое облачко и уходит в прохладную даль. Там нет никакой акулы и, наверное, нет уже и кита, а только заросли самых отборных водорослей на всем побережье.
Сэм прижал мне ко лбу платок.
— Надо же, все еще кровит. Зря я отпустил тебя одну.
— Да хватит! — Я отняла платок ото лба и посмотрела на него. Моя кровь оказалась на удивление яркой, ярче красного перца. Это меня поразило. Ведь я всегда была бледным, анемичным существом. — Придется зашивать?
— Царапину? — Он улыбнулся и похлопал меня по коленке. — Не думаю, детка.
— Что-то в глазах двоится, — сказала я, и голос мой зазвенел.
— Только не нервничай, — сказал он.
— И не думаю. — Мы оба, однако, знали, что я уже разнервничалась. Все женщины в нашем роду были истеричками, чем просто сводили с ума окружающих. В молодости моя бабка считала себя ясновидящей. Если ей снилось, что кто-то умирает, этот человек, как правило, и вправду умирал. Да, ее воспитали на библейских преданиях, в которых чудеса поданы как нечто абсолютно естественное: вода превращается в вино, хлеба и рыбы умножаются, больные исцеляются, мертвые воскресают. И тем не менее собственные видения ее пугали. Что касается сестер, то они сейчас управляют семейной закусочной — невероятно занудное занятие, способное вымотать даже самые крепкие нервы. Джо-Нелл презирает «слабонервных дур», но зато увлекается гороскопами и хиромантией: как-то раз она получила телефонный счет на двести долларов за разговор с экстрасенсом Дианой Уорвик. Мы же с Элинор просто заурядные истерички. В детские годы, в Таллуле, мы занимались в историческом кружке для школьников. Элинор как-то вышивала его логотип на наших футболках и допустила поистине фрейдистскую ошибку, вышив «Е» вместо «О».
Элинор как-то вышивала его логотип на наших футболках и допустила поистине фрейдистскую ошибку, вышив «Е» вместо «О». В итоге на празднике мы щеголяли надписями «Истерический кружок».
Тем временем Сэм облокотился о поручни, и лодка слегка накренилась. Он навис над водой с таким видом, словно был готов броситься вниз на поиски Нининых пузырьков. Я почувствовала странное замирание внутри — Минерва назвала бы его знамением — и пожалела, что не осталась в Дьюи. Я вспомнила, как этим утром мы пришли на причал. Мы договорились хорошенько понырять, пообедать прямо на лодке, а затем, на закуску, совершить путешествие вокруг мыса. Я считала, что мы едем вдвоем. Увидев, что на причале нас ждет Нина, я была страшно разочарована. А она вскочила и стала махать нам.
— Я захватила авокадо на обед, — прокричала она, — и надела купальник. Что скажете?
Она задрала блузку и продемонстрировала несколько тонюсеньких полосок материи ядовито-зеленого цвета.
— В самый раз, — усмехнулся Сэм, обнажив чуть кривой глазной зуб.
Этот зуб я знаю как родной. Мы женаты уже семь лет, критический срок, если верить статистике, но для меня он по-прежнему единственный мужчина на планете. За то время, что мы прожили вместе, наши души срослись, образовав некий сплав, точно железо с латунью. По крайней мере, так мне тогда казалось.
Тут послышалось бульканье Нининых пузырьков. Ее ласты шлепнули о борт, и она прочистила горло.
— Что-нибудь видела? — крикнул ей Сэм.
— He-а. Только маску Фредди. Насилу нашла ее в этих зарослях. — Она кинула маску Сэму, и он подхватил ее одной рукой. Она сняла ласты, которые при этом негромко чавкнули, и перебросила их на лодку Ласты шлепнулись на синее пластиковое дно, обдав брызгами мой и без того мокрый костюм. Я приготовилась сжаться от холода, но, к удивлению, ничего не почувствовала. Слишком уж глубоко я была уязвлена. Сэм подал мне маску, а затем повернулся, чтобы помочь Нине вскарабкаться на моторный отсек. Взявшись за руки, они тут же отпрянули друг от друга. На миг в их движения закралась неопределенность: то ли рукопожатие, то ли попытка оттолкнуть друг друга.
ТАЛЛУЛА, ТЕННЕССИ
декабрь 1995 — январь 1996 года
ДЖО-НЕЛЛ
Я сидела в клубе «Старлайт», том самом, где веселье бьет ключом двадцать четыре часа в сутки, что как нельзя лучше подходит для такой оптимистки, как я. Клуб находится в округе Пеннингтон, всего в миле от железнодорожного переезда. Его приземистое здание в тот день было сплошь увешано кривыми гирляндами рождественских фонариков. Хотя Новый год уже почти наступил и весь город вовсю глушил шампанское, клуб по-прежнему работал. До отеля «Оприленд» ему, конечно, далеко, но, с другой стороны, и сама Таллула далеко не Нашвилл.
Я сидела в углу бара, потягивая третий или, может быть, четвертый бокал «Текилового рассвета». Боже, что за напиток! Я была малость навеселе и поэтому флиртовала с одним зеленоглазым ковбоем: текила всегда ударяет мне в голову. Я рассказала ковбою анекдот, в ответ он сообщил, что зовут его Джесси и что родился он здесь, в Таллуле. Можно было сказать: «И я», но я не стала, чтобы не начались разговоры о семье: да, округ Пеннингтон назван в честь предков моего отчима, но все они давно умерли, так что никакой выгоды им это не принесло. Моя собственная фамилия — Мак-Брум, я не слишком богата и не особо знаменита, но мужчинам иногда привираю. На нехватку фантазии я никогда не жаловалась, но на этот раз ничего путного в голову не приходило. У парня были изумительные руки и улыбка, и, судя по тому, как часто он заказывал выпивку, работа тоже была что надо: ведь в «Старлайте» напитки отнюдь не из дешевых.
— Эй, крошка.
— Эй, крошка. Расскажи-ка еще анекдот, — потребовал Джесси, пихнув меня локтем.
— Пожалуйста. Вот хоть этот, с бородой. — Я облизнула соль с поверхности сухарика. — Почему все реки в Арканзасе текут с запада на восток?
— Да ладно… И почему же? — Джесси так чесал в затылке и таращил глаза, словно слушал не меня, а Билла Холла с четвертого канала, готового пролить свет на некий метеорологический феномен.
— Их затягивает в себя наш Теннесси, ведь тут — такая дыра. — Я ухмыльнулась, надкусила сухарик, ощутив на языке россыпь соленых крошек.
— Люблю женщин с чувством юмора, — объявил Джесси, прижав руку к сердцу. — А впрочем, можно и короче: я просто люблю женщин.
— Неужто всех? — Я резко наклонилась к нему, тряхнув копною светлых волос.
— Думаю, да. — Он испуганно сглотнул.
— Не знаю, не знаю, хорошо ли это.
— А что? — Вид у него был порядком обеспокоенный.
— Видишь ли, у меня есть теория относительно любви.
— Что-что? — заморгал окончательно перепуганный Джесси.
— Теория. — Я отхлебнула «Текилового рассвета». — Рассказать?
— Ага… — кивнул он.
— Тогда слушай. По-моему любовь как мышца. Ей нужны постоянные упражнения.
— Крошка, я — тот, кто тебе нужен, — просиял он. Задрав свой ремень, он положил руку на пряжку. — Вот тут — отличный тренажер для этой мышцы.
— Я о другом упражнении, понежнее, — я улыбнулась.
— Черт, за это надо выпить.
Глядя на мои пальцы, он снова сглотнул и надвинул шляпу поглубже. И тут же подозвал тощую официантку и заказал еще два «рассвета».
— Ты просто читаешь мои мысли. — Я приподняла тарелку с сухариками и встряхнула ее. — От соли ужасно хочется пить.
— Мне тоже, — отозвался ковбой.
— Но ты же ничего не ешь.
— Когда ты рядом, есть не хочется.
Я почесала подбородок ярко накрашенным ногтем. Всякую лесть я засекаю с помощью особого внутреннего радара, этакого детектора подхалимажа. Сейчас он дал предупредительный звоночек. Покосившись на ковбоя, я спросила:
— А чего же хочется?
— Ну не знаю… Общаться. — Он нагнул голову и заулыбался. Вид у него был самый невинный, так что я расслабилась и, неожиданно для самой себя, улыбнулась в ответ. Музыкальный автомат затянул длинную и заунывную балладу о любви, а ковбой между тем как бы невзначай положил руку на мою коленку. Детектор подхалимажа просто взревел. Я перестала улыбаться и уставилась на его руку. У него были короткие и толстые пальцы, казавшиеся очень белыми на фоне линялой джинсы, а на мизинце красовался золотой перстень с подковкой. В баре было душновато, в воздухе висел табачный дым, а от грохочущей музыки звенело в ушах. «Через пару секунд придется убрать его руку, а то он неверно меня поймет». Таковы уж эти ковбои — купят тебе напиток-другой и тут же начинают лапать. Типа, пора, красотка, долг платежом красен. Снимай-ка джинсы, ныряй в постель и вперед! Но даже если ты и правда не прочь туда нырнуть, нужно притвориться неприступной: легкая добыча убивает интерес. Иногда быть женщиной — такая морока.
— Ты что-то распустил руки. — Я игриво шлепнула его по руке, но он продолжал тискать мое колено сквозь толщу старой джинсы. Мой третий муж обожал шлепки, и я почувствовала, что краснею. — Эй, мне больно. Я буду вся в синяках.
— В синяках? Да ладно, думаю, тебе понравилось. — Джесси оставил мою ногу в покое. Он улыбнулся и сдвинул шляпу на затылок.
Он улыбнулся и сдвинул шляпу на затылок. Увидев его сияющий от пота лоб, я подумала, что, может быть, он рано облысеет, как Гарт Брукс. Мне всегда говорили, что лысые — самые лучшие любовники, вероятно от избытка тестостерона. Но, увы и ах, лысых мне пока не попадалось.
— Мне-то нет. — Я отодвинулась, притворяясь обиженной. — А тебе?
— Хочешь проверить? — Он принялся расстегивать ремень. Звякнула пряжка, и на миг показались ярко-розовые трусы. Клянусь богом, это зрелище меня потрясло. На вид ковбой был совсем юным; у него были удивительные зеленые глаза. Угадать, сколько ему лет, я нипочем бы не смогла — никогда не умела определять возраст по внешности. Вообще, единственное, что я всегда умела, это завлекать мужчин и печь пирожные. Мое коронное блюдо — лимонные меренги. Я почти с пеленок затвердила, что не все лимонные пирожные созданы равными. Они в точности как мужчины; одни сладкие, как патока, другие слишком кислые; и, если зазеваешься, и от тех и от других остается неприятное послевкусие. А вне холодильника и те и другие покрываются капельками влаги.
Пирожные я обожаю, а мужчины — это просто мой крест. Предсказания в обертках от конфет всегда пророчат мне «несчастную любовь», а линия жизни на моей ладони с самого детства скрыта огромным шрамом. Что, по-моему, не слишком хороший знак. Я трижды была замужем — однажды овдовела и два раза развелась. В промежутках между мужьями я встречалась с докторами, адвокатами и банкирами. Банкиры оказались жмотами, а доктора — утомленными трудоголиками, не способными на хороший секс. Ну а адвокаты — настоящие параноики: ей-богу, они просто двинулись на мысли, что жены за ними следят. И постоянно боятся, что любовница, как Дженнифер Флауэрз, устроит разоблачительную пресс-конференцию. Но мне бы и в голову не пришло порочить чью-то репутацию — напротив, я бы ее укрепляла. «Голосуйте за этого человека, — сказала бы я. — При таком-то языке он достоин управлять хоть всем штатом».
— Давай-давай, — сказала я Джесси, вскинув голову, — снимай штаны. Поверь, я не испугаюсь, увидев твой член.
Из бара тут же откликнулись:
— Что правда, то правда. Моего же не испугалась. И когда у нас кончились презервативы, пришлось пустить в дело мешки для мусора.
Я подскочила как ужаленная и уставилась на ржавшего наглеца, кудрявого блондинчика с густыми усами. «Вот черт», — подумала я. Сколько лет этому молодчику, я, к сожалению, знала точно: кровельщику Дики Джонсону едва-едва стукнуло двадцать два, а трахался он, не снимая грязных спортивных носков с логотипом «Найк». Обо мне он знал более чем достаточно, так что я раскрыла сумочку и вынула ключи.
— Прикуси свой язык, Дики, — сказала я, прищурившись. — Я тебе в матери гожусь.
— Тогда можно я опять пососу твоего молочка, как в ту ночь в мотеле «Вайнона»? Помнишь, конфетка?
Дик засмеялся и зачмокал губами, изображая посасывание. Пара посетителей с бакенбардами и золотыми цепочками уже начали гоготать.
— Сперва оправь слюнявчик, — я встала, угрожающе помахивая ключами от машины. — А то ведь слюнки так и бегут.
Народ у стойки снова заржал, подталкивая Дики локтями. «Еще минута, — подумала я, — и они начнут обмениваться воспоминаниями. И стоило ради этого выходить из дому!» Я проглотила остаток коктейля и поморщилась от его приторного вкуса. Затем послала Джесси воздушный поцелуй. Обидно уходить, когда все уже на мази, но на этот раз выбора не было. Я прошествовала к выходу и шагнула навстречу прохладной декабрьской ночи.
Небо было необычайно темное — ни луны, ни звезд, — а изо рта валил пар. Позади меня вдруг громыхнула музыка. Я обернулась и увидела Джесси, который стоял у выхода, придерживая дверь носком сапога, весь озаренный рождественскими фонариками.
Я обернулась и увидела Джесси, который стоял у выхода, придерживая дверь носком сапога, весь озаренный рождественскими фонариками. Он что-то прятал за спиной. Поверх его плеча было видно, как тощая официантка в глубине бара запихивает четвертаки в музыкальный автомат. Минуту спустя голос Розанны Кэш запел «Мой парень быстр, как поезда».
— По глоточку на посошок? — предложил Джесси. Он извлек из-за спины высокий пластиковый стакан с «Текиловым рассветом». — Опля!
— Нет, спасибо, — я грустно наморщила нос, — я же за рулем.
— Да? Но я его уже оплатил. И даже упросил бармена отдать его на вынос, хотя, сама понимаешь, это против правил.
— Ну… — Я не знала, на что решиться, но коктейль в его руках сиял, как настоящий алмаз. «Да гори все синим пламенем!» — подумала я и, слегка покачиваясь, подошла к нему. Сквозь открытую дверь доносилось мурлыканье Розанны Кэш о поездах и о несчастной любви. «Эта песня как будто про меня, — пронеслось в голове. — Я чем-то похожа на поезд: мощная, эффектная, неудержимо стремительная». На мне были туфли на высоком каблуке и джинсы, что вместе с текилой составляло просто гремучую смесь. Всю жизнь мне твердили, что от высоких каблуков портится подъем и опускается матка, а это приводит к плоскостопию и бесплодию — недугам, крайне нежелательным как для невест, так и для охотничьих собак. Но я не относилась ни к тем, ни к другим. В свои двадцать девять я уже дважды разводилась, да и прыть у меня была отнюдь не как у гончей, несмотря на уверения многих мужчин.
— Спасибо, — изрекла я, а затем вырвала стакан из рук Джесси и изящно отхлебнула.
— О, не за что. — Держа руку на ременной пряжке, он искоса оглядывал меня. — Может быть, встретимся еще разок?
— Идет.
— И когда же? — Он отвел глаза и облизал губы.
— Скажем, завтра вечером. Встретимся здесь, в «Старлайте», а там видно будет. — И, одарив его той самой обворожительной улыбкой, что принесла мне титул местной королевы красоты, я побрела к своему желтому «фольксвагену». Он был куплен на распродаже старья, где я приобретаю все свои электроприборы и вечерние платья. Чего только люди не выбрасывают! Никто не ценит старых или подпорченных вещей, и для меня это огромная удача.
— Эй, — крикнул Джесси. — А как тебя зовут?
— Джо-Нелл.
— Красивое имя! Джо-Нелл, малышка, а ты не поцелуешь меня на прощание?
— Иди-ка сюда! — Я привалилась к машине, ожидая, пока он подойдет. Под его сапогами громко похрустывал гравий. Он взял меня за плечи и притянул так близко к себе, что половина меня оказалась у него между ног. Бог мой, как хорошо от него пахло! Смесь запахов текилы, мятной жвачки и мужского пота. Я постаралась дышать ровно и не опрокинуть коктейль ему на спину. Когда он нагнулся для поцелуя, я почувствовала, как острый угол серебряной пряжки вонзился мне в живот. Его язык скользнул мне в рот, и я ощутила вкус текилы. Приоткрыв губы, я словно пила его — такого сладостного и пряного. Но едва он стал наседать на меня, я отстранилась: с мужчинами тише едешь — дальше будешь.
Улыбнувшись, я пригладила волосы. От поцелуя они растрепались, а свитер съехал набок, оголив одно плечо. Джесси поддел его ворот и вернул на место.
— Вот так, — сказал он и, как бы ненароком, задержал руку на моей ключице. — Обещаешь завтра прийти?
— Да разве я могу солгать? — Я улыбнулась, а затем уселась в «фольксваген» и зажала коктейль между ног. Моя машина до смешного нелепа — маленькая и круглая, словно желтый стручковый перец, с виниловой, под мягкую кожу, обивкой сидений.
Стоит завести мотор, и она начинает тарахтеть, как телега с металлоломом. Я включила первую скорость, подъехала к краю парковки и глянула в зеркало заднего вида. Джесси все еще смотрел мне вслед, а облачко белого пара клубилось вокруг него во мраке. «Вот он, твой юноша», — подумала я, закусив губу. Страсть с большой буквы «С». Я почувствовала, что делаю ошибку, что надо остановить машину и пригласить его внутрь. Мы займемся любовью на заднем сиденье, извиваясь, как два аккордеона, или помчимся в мотель. Черт побери, быть может, мы даже подождем с любовью и просто посидим в машине, обдаваемые жаром обогревателя. При мысли о том, что встретила парня, готового со мной говорить, а не только трахаться, я невольно нажала на тормоз. Но когда поглядела в боковое зеркало, Джесси уже шагал обратно к клубу. Он вошел, и дверь за ним захлопнулась.
«Увы, — подумала я. — Que sera sera». Таков мой девиз: чему быть, того не миновать. В любом случае, я обещала встретиться с Джерри Кирби и заплатить ему за пакетик анаши, который взяла месяц назад. Я ведь начисто забыла про Джерри, а этот тип мог запросто прикатить ко мне домой, начать барабанить в дверь и разбудить Минерву с Элинор. Если поспешить, я, может быть, еще застану его в кафе.
Я вывела машину на темное шоссе и помчалась вперед. Мои фары высвечивали на асфальте два бледных круга. Эта дорога выглядит более знакомой при свете дня, когда вокруг видны оградительные щиты, колючая проволока и аккуратные стога сена. Сейчас же пастбища казались зловещими. Еще бы: как знать, кто там прячется! Да хоть летающие тарелки с армией одетых в фольгу зеленых человечков, прилетевших, чтоб потравить наш скот. При моем-то везении я бы ничуть не удивилась.
Думать о пришельцах было неприятно. Я включила радио. На канале ретро передавали «Душу в поднебесье». Если бы не аранжировка в стиле шестидесятых, я бы ударилась в панику. А так стала подпевать, постукивая ногтем по рулю. Вообще-то я не из пугливых — все называют меня бой-бабой, — но тут что-то перетрусила. Шоссе казалось пустынным, а до города было еще ехать и ехать. И чего не позвала с собой зеленоглазого ковбоя? Я вспомнила его поцелуй, и по спине побежали мурашки. Да, позвать-то его стоило, вот только пригласить мне его некуда.
Я живу в отчем доме вместе с бабулей и сестрой Элинор, перезрелой старой девой. Моя вторая сестра, Фредди, сбежала в Калифорнию уже восемь лет назад. И ее можно понять! Она первой из Мак-Брумов получила образование — степень бакалавра по химии, плюс два года медицинского института, плюс две степени магистра по океанологии. Она присылала нам фотографии огромного залива и дома из красного дерева, где она живет со своим гениальным мужем. Его полное имя — доктор Сэм Эспай. При этом он не из тех докторов, что имеют право выписать валиум, — это я выяснила очень быстро. Он — ДН. Возможно, это расшифровывается как Дивный-и-Начитанный.
Элинор, как и я, окончила только среднюю школу. Она старше меня на восемь лет, но кажется сверстницей Минервы из-за любви к клубу пенсионеров и прочим стариковским развлечениям. Вечно устраивает у нас дома вечеринки для своих старушенций, когда же я решаю развлечься и приглашаю парней, Элинор жутко расстраивается. (Боится, что они нас обворуют.) Этот юнец из «Старлайта», Джесси, напугал бы ее до смерти, несмотря на то что он явно не бедствует. Ведь сапоги у него из натуральной змеиной кожи, со вставками телячьей, а такие стоят по двести долларов за пару в магазине «Вестерн аутлет», на Большом шоссе, дом двести тридцать один.
Я размышляла о его сапогах и неслась по дороге, зажав «Текиловый рассвет» между ног. Когда машина наскочила на кочку, коктейль пролился мне на джинсы. Прохладные ручейки вмиг добежали до промежности. «Вот ведь черт», — подумала я. Если пятно не высохнет до дома, Элинор объявит, что оно не от выпивки.
Если пятно не высохнет до дома, Элинор объявит, что оно не от выпивки. Хотя ей-то откуда знать про другие варианты — ха! «Не подходи ко мне! — завопит она, тряся руками. — Почем я знаю, что ты подцепила! И даже не ври, что заразилась, сев на общественный стульчак! И что ты все пьянствуешь?! Могла б уже наконец остепениться!»
Черт побери, как будто я не пыталась! Я всегда хотела выйти замуж и нарожать детей. Уютный кирпичный домик с флюгером в виде херувима да небольшой садик с грядками лука и кервеля. А иногда я представляю себе небольшое поместье с чугунными воротами и зелеными теннисными кортами — поверьте, я бы вмиг привыкла к этой роскоши. Сама по себе я не бог весть кто, но при богатом муже тут же приосанилась бы. Стала бы как звезда всей Таллулы Марта Стюарт. Из любви к кулинарии я читаю ее журнал, издеваясь над диковинными изысками. Естественно, будь у меня богатый муж, я бы фаршировала рождественскую индейку высушенными на солнце томатами, трюфелями и свежим розмарином, а может быть, даже кукурузным хлебом и труднопроизносимой просциутто. Приятно представить, как я заказываю это у мясника. С такой-то кучей денег я могла бы устраивать новогодние вечеринки с шампанским и четырьмя видами икры. На Хэллоуин я бы выставляла тыквы, вырезанные в виде старушечьих физиономий и лиц инопланетян. И ни одно Рождество не обходилось бы без елок, как те, что в отеле «Оприленд», а также без иллюминации из крошечных белых фонариков. Ей-богу, все было бы так стильно, что Марта просто свихнулась бы от зависти.
Но пока что из меня вышла лишь обычная шалава. Мои «биологические часы» тикают пока не так зловеще, как у той же Элинор, но тем не менее заарканивать ковбоев становится все труднее. Шансы обзавестись не то что приличным мужем, но даже ребенком стремительно уменьшаются. Все мужчины в моей жизни либо умирают, либо бросают меня в этой чертовой кондитерской, бок о бок с Элинор. И ведь это даже не кондитерская в полном смысле слова — выведенная огромными красными буквами вывеска гласит: «Булочки Фреда». Так назвал ее мой папаша, Фред Мак-Брум, но, когда я была еще совсем малявкой, он умер — и этим перевернул нашу жизнь вверх дном. Я его совершенно не помню, но Минерва утверждает, что в старые добрые времена кафе «Булочки Фреда» было излюбленным заведением дельцов и адвокатов. Теперь же оно превратилось в занюханную забегаловку, куда разнорабочие и торговцы автозапчастями приходят по утрам за чашкой кофе и булкой с повидлом. У нас нет даже капуччино! Я как-то предлагала ввести ряд инноваций, вроде доски с написанным мелом меню и живых маргариток на столах. Или лихо разрисованной вывески с новым названием: «Американские пирожные: кондитерская и кафе». Я убеждала Элинор, что это привлечет студентов и преподавателей из местного колледжа, не говоря уже о новичках, недавно переехавших в наш город.
— Если это такая замечательная идея, — ответила она, — почему никто другой ее не опробовал?
— Опробовали, — не унималась я, — но в других городах. Мы будем первым заведением в Таллуле, где подают фокаччу.
— Что за неприличное слово… ох уж эти итальяшки!
— Это сорт лепешек, — разозлилась я. — Мы подадим его со свежим базиликом и морской солью. А горгонцолу приготовим в медовом соусе.
— Горгон… что?
— Да сыр такой, итальянский.
— Ехала бы в Италию, раз уж так обожаешь все тамошнее. Конечно же, заморские яства — как раз то, что нужно этому городишке. — Элинор закатила свои светло-желтые глаза. — Да тут и козьего сыра никто не пробовал! А пармезан, все уверены, выпускают исключительно в зеленой упаковке фирмы «Крафт».
— Мы станем просветителями.
— Мы станем банкротами.
— Да нет же. Будем закупаться крупным оптом и останемся в плюсе.
— Тут плохо идут даже самые обычные булочки.
— И как раз потому, что они такие обычные. Господи, Элинор, неужто у тебя совсем нет фантазии?
— Нет, почему же. Вот тебе одна из таких фантазий. — Элинор раскинула свои полные веснушчатые руки. — Вижу пол в виде шахматной доски. Слышна какая-то классическая мелодия. Ах да! Это твой любимец, как его там? Равель.
— Ну-ну, — кивнула я. — Продолжай.
— Вижу меню, длинные и запутанные, как история твоей семейной жизни.
— Понятия не имею, о чем ты, — процедила я, сощурившись. По правде говоря, я столько раз была замужем, что мое полное имя звучит как название адвокатской конторы: Джо-Нелл Мак-Брум Хилл Бейли Джонсон. Во время последнего развода я снова взяла свою девичью фамилию, Мак-Брум, но это не спасло меня от бремени тяжких воспоминаний. Мой первый муж, Бобби Хилл, погиб от несчастного случая: грузовик с арбузами случайно опрокинул все свое содержимое на его красный «мустанг» с откидным верхом. Муж номер два, Эд Бейли, бил меня смертным боем, а номер три, Джорди Джонсон, оказался неисправимым бабником. Теперь же я прошу лишь о крупице внимания! Я мечтаю не о любви, а всего лишь о нормальном парне. Если такие еще существуют, пусть черкнут мне письмецо: Джо-Нелл Мак-Брум, магазин «Булочки Фреда», Таллула, Теннесси. 38502.
«Фольксваген» пыхтел на четвертой скорости, подскакивая на плохо заасфальтированной дороге. Я включила радио, и послышалась глуповатое бормотание «Крэш Тест Даммиз». В свете фар промелькнула ярко-белая надпись «Ж-Д П». Но я слишком много выпила, чтобы понять, что это значит, и продолжила потягивать свой коктейль. Холодная жидкость приятно освежала горло. От моего дыхания в тот момент, наверное, можно было прикурить. Голова снова закружилась, и это напомнило мне о ковбое. На секунду я почувствовала себя счастливой и вообразила, что мое время пришло. При этом я в упор не замечала приближавшихся железнодорожных путей — чудовищная ошибка.
На паровозный гудок я ответила таким же пронзительным визгом. Оба звука завибрировали в воздухе, словно аккорды церковного органа, а затем я увидела поезд. Он был так близко, что я подробно разглядела машиниста: его глаза, огромные, как два сваренных вкрутую яйца, и смятую сигарету в зубах. «Боже мой, — пронеслось у меня в голове. — Он же собьет меня!» Я уронила пластиковый стакан, залив текилой весь перед блузки, а затем что было сил надавила на газ. На миг мне показалось, что я обгоню поезд, но время словно потекло в обратную сторону. С той минуты, как я вышла из бара, мои часы как будто двинулись назад, и теперь время приближалось к нулю. Я схватилась за руль, стараясь свернуть в канаву, но поезд зацепил мое заднее крыло. Вновь послышался гудок. А затем раздался ужасающий скрежет — то ли металла, то ли моих изнемогших от крика голосовых связок. Машина резко опрокинулась, меня припечатало к дверце, и я распласталась по стеклу, словно рыбка по стенке аквариума. Я глянула вниз и увидела насыпь, шпалы и рельсы. Взметнувшееся облако искр мгновенно превратилось в пепел, а визгливый гудок сверлил мне череп, точно электродрель. И я поняла, что сейчас умру.
Вероятно, все случилось в долю секунды, но мне казалось, что это тянется несколько часов. Передние колеса «фольксвагена» соскочили с рельсов и завязли в щебенке, а затем машина перевернулась и кубарем покатилась вниз. Переднюю дверцу тут же сорвало с петель. Я попыталась держаться за руль, но мое тело оказалось слишком тяжелым, и вместе с оторвавшимся рулем я вылетела в холодную тьму. Мне не раз говорили, что при падении с большой высоты, например с небоскреба, сердце останавливается за несколько секунд до удара о землю.
Но я падала с железнодорожной насыпи, а не со здания страховой компании в центре Нашвилла. Я ожидала узреть райскую картину: Иисуса, ангелов и огромный сноп света. Но видимо, все это выдумки; смерть и вознесение на небеса ничуть не напоминали выигрыш кругосветного круиза, а вся моя жизнь и не подумала промелькнуть у меня перед глазами. Я увидала лишь ее последние тридцать минут — парня, который остался в «Старлайте». его ладонь на моей ноге, сапог, придерживающий дверь, и стакан коктейля, воздетый к ночному небу, точно жертва богам.
МИНЕРВА ПРЭЙ
Двенадцатичасовой поезд прогремел на всю Таллулу и помешал мне досмотреть очаровательный сон: я подстригала травку в моем садике у Церковного ручья. Во сне я принарядилась в расклешенное платье без рукавов, все бирюзовое и с белыми оборками, самого модного в сорок девятом году фасона. Мои плечи согревало солнышко, нежное, как солоноватые сливки, что подают со свежей кукурузой. Когда газонокосилка стукалась о камень, жирок у меня над локтями колыхался, как индюшачья бородка. Выходит, в начале сна я была старухой, но чем дальше он снился, тем больше я молодела.
Тут паровоз снова загудел, и я проснулась. Шевелиться, конечно, не стала, а лежала себе под пуховым одеялом да ждала, пока снова заслышится стрекот газонокосилки и повеет свежескошенной травой. Но слышалось только мое старое сердце да грохотанье поезда. Вообще-то я частенько вижу сны, но половина из них к утру забывается. Их обрывки потом нет-нет да и выплывут из памяти, но тут же шмыг обратно, точь-в-точь как форель в речке Кейни-Форк. Я все пытаюсь выманить их назад, но, милые мои, память — река глубокая, и дна ее не видывал никто.
Смолоду, бывало, я часто не могла уснуть и все считала товарные вагоны, как прочие люди считают овец. И так-то мне нравилось, что паровозы гудят на каждом переезде, а груженые вагоны подпрыгивают легко, будто и не груженые вовсе. Я представляла себе, что еду в поезде, что несусь в нем мимо улицы Кленового Холма, мимо Пастушьих ручьев и Южного разворота. Вокруг округа Пеннингтон течет река Камберленд и две речки: Лаймстоун и Кейни-Форк. Через них уже много лет как протянули мосты для поездов. А до того в Таллулу было ой как трудно попасть: дорога крутая и извилистая. Добирались обычно паромом. Теперь-то есть этот громадный мост, весь выкрашенный зеленой краской; мы, местные, зовем его «Прыжком любви». Его построил инженерный корпус в сорок шестом году, через шесть лет после того, как мы с Амосом сюда переехали. По утрам мост казался совсем ненадежным — тонюсенькая зеленая паутинка, вся в тумане, — и мы не сомневались, что он вот-вот обвалится. Мост ведет в самый центр Таллулы, городка, который вырос среди скал и расцвел, точно камнеломка. Неподалеку от площади журчит Церковный ручей, на берегу которого я разбила садик. В ту пору я жила в белом домике на холме, а на нашем парадном крыльце стояли два деревянных кресла-качалки. В них-то я и баюкала свою маленькую Руфи, когда мы приехали из Техаса. Она, малютка, все время хворала. Помню, как я молила Господа, чтоб хоть одна из моих деточек осталась в живых. Двоих я тогда уже схоронила в Техасе, в городке Маунт-Олив, что на берегу реки Гуадалупе. Амос сказал мне, что в Таллуле, в штате Теннесси, нам непременно повезет, ведь у городишки то же имя, что у его любимой актрисы Таллулы Бэнкхед. Он не сомневался, что нас ждет удача, но, будь ты даже трижды уверен, удача все же может подвести.
Если у меня когда-нибудь появятся правнуки, — хотя в это уже почти не верится, — я расскажу им про Техас и про двух сестер, которые вышли замуж за двух братьев. Сестрами были мы с Хэтти, а братьями — Амос и Берл. Мне тогда было семнадцать, а Хэтти — восемнадцать с половиной. В Первой баптистской церкви на Лаймстоун-стрит мы устроили двойное венчание, и маленькая белая церквушка была так переполнена друзьями женихов и невест, что часть толпы разместили на улице.
Это было пятнадцатого ноября тридцать второго года, то есть в тот же год, когда в Маунт-Олив провели электричество. Будь мой Амос еще жив, мы бы теперь справляли шестьдесят третью годовщину. А это, что ни говори, немалый срок, мои милые! Но я и по сей день не гляжу на других мужчин: сердце говорит мне, что я по-прежнему замужем. На той неделе, в среду, один бородатый бесстыдник надумал заигрывать со мной прямо в почтовом отделении (я-то как раз шла от парикмахера). Но я молча стояла в очереди, притворяясь глухой.
И вот едва только сон стал возвращаться, а я — подстригать траву и выдирать сорняки, как в моей спальне снова раздался шум. Кто-то стоял на крыльце и стучал в нашу дверь. В голове у меня все как-то спуталось. Никак не могла сообразить, где я: в доме у Церковного ручья или в том, что был прежде, на Петти-Гэп-стрит, в Маунт-Олив. Да нет же! Я у Элинор и Джо-Нелл, на Ривер-стрит, в их обшитом вагонкой домике с темно-зелеными ставнями, с которых краска облезала, как шелуха с хорошей луковицы. Этот дом начал разваливаться двадцать девять лет назад, после той ужасной череды смертей.
Когда случается горе, с домами такое бывает — они рассыпаются прямо на глазах и напоминают нас, стариков: и фундамент-то их не держит, и крыша уже не та, что раньше, и провода искрят, и трубы забиваются. Не успеваешь починить одно, как тут же ломается что-то другое.
Но у входа стучали все громче. Кто бы там ни был, он, наверное, страшно продрог. Если это вор, то он скоро примется бить наши окна, а если это кто-то из ухажеров Джо-Нелл, то пусть уж уходит подобру-поздорову. Но стук упорно продолжался. И тут я подумала: «Господи, да они же выломают дверь». Я прямо увидела, как она срывается с петель.
— Элинор, — сонно захрипела я, — Джо-Нелл! Милые, кто-нибудь, откройте дверь!
Никто не отвечал. Только паровозный гудок завывал, как привидение, и мой сон словно ветром сдуло. Я выбралась из кровати, поскорей нацепила свой розовый халат и прислушалась. Стук прекратился. Я затаила дыхание и снова прислушалась. Какой-то мужчина выругался и зашагал по дорожке. Послышалось, как скрипнула, а потом резко захлопнулась дверца. Через секунду мотор зашумел и автомобиль тронулся. Все еще в халате, я присела на кровать, а потом откинулась на пуховые подушки — те самые набитые гусиным пухом подушки, что привезла с собой из Техаса. Я глубоко вздохнула, надеясь учуять запах травы из садика у Церковного ручья. Иногда там попахивало луком, словно это был огород, а не сад.
«Дайте же мне отдохнуть, — подумала я. — Дайте хоть минутку покоя».
Когда-то мне снились вещие сны — сны о том, как кто-то умирает. Однажды мне привиделось, что я одеваюсь на мамины похороны, и я проснулась в слезах. Моя сестра Хэтти уверяла, что надо лишь пересказать свой сон в то же утро, и он не сбудется. Только пересказывать нужно сразу после завтрака.
— Мне снилось, что мама умерла, — сказала я, съев колбаски и яйца, — и что я роюсь в своем шифоньере, разыскивая траурное платье.
Через четыре дня после этого мама наклонилась, чтобы вытащить из печи персиковые пирожные, и вдруг упала замертво. Крем от пирожных разбрызгался по всей кухне. Потом, когда я подошла к шифоньеру и вытащила траурное платье, мои руки дрожали так же сильно, как во сне, и я никак не могла справиться с пуговицами. И Хэтти сказала мне:
— Вот что, Минерва, постарайся не видеть снов обо мне.
А в ночь перед гибелью мужа Джо-Нелл мне приснились арбузы. Расколотые, они валялись на дороге, а я собирала корки в свой фартук, чтобы наделать из них варенья.
Тут мои веки стали слипаться, и перед глазами поплыло. Вот и слава богу, мои милые! Меня уносило к Церковному ручью, где трава уже выросла по колено. Она была такая высокая, что щекотала мне ноги, и до того густая, что газонокосилка не брала ее.
Она была такая высокая, что щекотала мне ноги, и до того густая, что газонокосилка не брала ее. Кузнечики в зарослях сорняков задорно стрекотали, а в воздухе носилась стайка соек. Где-то очень далеко паровозный гудок наигрывал «Вяжем снопы», один из моих любимых гимнов. Я закатала юбку и заткнула подол за пояс. Солнышко все пригревало, и я принялась негромко напевать.
ДЖО-НЕЛЛ
Я падала ужасающе долго. Минуты, часы, годы… Понятия не имею, как долго это тянулось. Меня ведь сбил поезд, так что я, само собой, была чуток не в себе. Хорошо хоть белье на мне было свежее — ярко-розовые трусики-бикини с кружевными вставками и крошечными белыми бантиками. Что удачно, то удачно! Раз я умерла (в этом я почти не сомневалась), то пусть уж те, кто разденут меня в морге, видят, что я была достойной девушкой.
Но с другой стороны, быть может, я и не умерла. Дорис Дэй тоже сбило поездом, но она выжила — а я-то чем хуже? Но это явно было знамение. Я всегда увлекалась знамениями. По гороскопу я Весы, так что, по мнению Патрика Уокера из телевизионной программки, из меня мог выйти отличный адвокат.
Когда я наконец приземлилась, падение оказалось невероятно мягким, а от земли почему-то пахло сеном. Лишь через пару минут до меня дошло, в чем дело: я упала прямо на здоровенный стог. Что ж, замечательно, ведь меня могло бы зашвырнуть на дерево или раскатать по асфальту шоссе. О таких случаях то и дело читаешь в газетах и в альбоме Элинор (о нем я расскажу чуть позже). Еще минута ушла на оценку понесенного ущерба — я проверила, нет ли смертельных ран. Левые рука и нога дрожали так сильно, что было страшно ими пошевельнуть. А если там что-то оторвалось?
Я разлепила один глаз, а затем — другой. Вокруг меня было лишь сено и холодное ночное небо. Я глянула на ноги — и, слава богу, все пальцы были на месте, все прекрасные десять пальчиков, покрытых лаком гранатового оттенка. Низвергаясь с ночного неба, я потеряла каблуки, — если только я действительно оттуда упала, а не увидела все это во сне. (Хотя больше всего это напоминало именно кошмарный сон.) А что, если этот сон — предостережение? Может, он советует мне остановиться и подумать о собственной жизни, предупреждает о надвигающемся личном (а то и финансовом) крахе? Мне ведь то и дело снится что-то странное.
Боль была просто дикая, словно мне начисто оторвало левую ногу. Но, несмотря на жуткую боль, я была жива-живехонька. Это было настоящим чудом, ей-богу, почище серебряных башмачков Элли, чудесного спасения Джимми Стюарта на мосту и даже новорожденного на охапке сена — младенца Иисуса в яслях. Библия кишмя кишит чудесами и притчами, хотя лично я в них не верю. Почти так же много их в старых черно-белых фильмах на образовательных каналах.
Где-то в темноте раздался ужасный скрип, и ветки закачались от сильнейшего порыва ветра. Это останавливался поезд. Звук был отвратительный, прямо как в «Терминаторе», когда Линда Гамильтон расколола Арни голову и его красный глазок постепенно угасал. Господи, как это было гадко! В кинотеатре аплодировали все до единого, кроме меня. А меня аж в дрожь бросило; моему хахалю пришлось тащить меня в свой трейлер, отпаивать пивом и откармливать чипсами. Богом клянусь! Ну так вот, в детстве я верила и в привидения, и в фей, и в Санту. Много лет подряд не снимала с шеи распятие на случай, если Бела Лугоши попробует высосать мою кровь. Теперь-то я плюю на суеверия — пусть ими тешатся Минерва с Элинор, — но при этом признаю: мир полон неразгаданных тайн. Не верите — включите кабельное телевидение! На каком-нибудь канале обязательно появится Роберт Стэк, выходящий из тумана в своей шинели и рассказывающий о похищениях, домах с призраками и прочих ужасах. Причем они случаются не только в Америке, но и в Англии, где тоже хватает всякой жути. На обложке моей коллекции «Лед зеппелин» красуется поле овса, на котором ясно видны круги.
Конечно, это могло быть подстроено, но я все же считаю, что эти круги — от летающих тарелок. Я читала о таком в «Нэшнл инкуайрер», который Элинор покупает для своего альбома. Она коллекционирует статьи про всякие страшилки, вроде убийств топором, электропоездов, сошедших с рельс, и лилипутов, которых засосало в эскалаторы больших универмагов. Эти купленные в магазине трагедии каким-то образом успокаивают Элинор, бог ее знает почему. Она целыми вечерами вырезает и наклеивает в свой альбом статьи с заголовками вроде: «Человек решил, что он птица, и проснулся на телеграфном столбе». Представляете, что будет за потеха, если она купит «Нэшнл инкуайрер» и обнаружит статью об автокатастрофе сами-знаете-где при непосредственном участии сами-знаете-кого!
Я приподняла голову. Где-то высоко, среди деревьев, замаячили огни. Этот свет шел либо из потустороннего мира, либо от фонарей железнодорожников, прочесывавших туман. Поезд Луисвилл — Нашвилл ходит через Таллулу каждую ночь, и, видно, он-то меня и сбил. Н-да, где поезда, там, как правило, и мужчины, а вид у меня был самый неподходящий. Я попыталась оправить свитер, который задрался к самым подмышкам. При этом, потянувшись, я случайно шевельнула ногой, и от боли у меня брызнули слезы. Уж лучше ею не двигать! Обычно без свежего педикюра я свои ноги вообще никому не показываю. Мой девиз: «Если ты не при параде, мужчина не должен тебя видеть» или «Встречай их во всеоружии». Не могу, правда, сказать, что от девиза есть толк. Мужчины все равно появляются и уносятся прочь, словно ночные поезда, а я остаюсь в полной прострации, старясь осознать, что же со мной произошло.
Огни сновали туда-сюда на фоне ночного неба. Я не понимала, кто включил эту иллюминацию, но искренне надеялась, что не зеленые человечки из летающих тарелок, готовые уволочь меня куда глаза глядят, хоть на планету Плутон. (Потом бы я каламбурила: «Плут он, этот ваш Плутон».) Но за огнями послышались мужские голоса, такие родные и грубые, что я чуть не расплакалась. И разыскивали они именно меня: было слышно, как один из них твердит, что жертва где-то здесь.
Где-то вдали завыла сирена, и я поняла, что это за мной. Давно пора: у меня уже дрожало все тело, и, будь здесь радиоприемник, я бы отлично отбивала ритм для «Айрон баттерфлай». Я знала, что служба спасения привозит на места аварий черные мешки для мусора, чтобы спрятать в них оторванные конечности и не доводить до рвоты ни в чем неповинных свидетелей. Теперь эти спасатели, наверное, думали: «Черт побери, автокатастрофа. Да, зря я съел эту свиную котлетку». «Эй, ребята, — ответила бы я им, — сами виноваты! В субботний вечер куда разумнее работать натощак, и дурак бы догадался!» По выходным в Таллуле ох как беспокойно: пьют, курят травку и несутся на поиски любви в самые неподходящие места. Черт, я ж, наверное, знакома с половиной спасательной бригады. (По правде говоря, девяносто процентов этой службы уже побывало у меня в постели.) А теперь эти спасатели рыщут в темноте, чтобы упаковать мои останки в мусорный мешок и отвезти их на чинные похороны, что устроит для меня Элинор.
Должно быть, на какое-то время я вырубилась. А очухавшись, решила, что парю в воздухе, двигаясь по длинному белому тоннелю. Надо мной был потолок со звукоизоляцией: в таких на квадратный дюйм поверхности приходится по пятьдесят закрытых металлической решеткой дырочек. Да, космический корабль могли бы отделать и получше, но не мне им это объяснять. В конце концов я очутилась в какой-то комнате, где меня окружили несколько человек. Вроде бы не зеленых. Попадались самые разные цвета — светлые волосы, темные волосы, розовые щеки, серые глаза. Двое были бородатые. Еще двое походили на мужеподобных лесбиянок, хотя, может быть, мне просто показалось. В ушах у еще двоих были сережки. И все они были в белом. Поэтому я сказала себе: «Вот что, подруга, этому должно быть рациональное объяснение.
В ушах у еще двоих были сережки. И все они были в белом. Поэтому я сказала себе: «Вот что, подруга, этому должно быть рациональное объяснение. Либо они — медработники, либо ангелы». Правда, в недавней серии «Секретных материалов» пришельцы-людоеды носили именно белые шелковые комбинезоны и по ним-то и узнавали друг друга. В целом вся эта история напомнила мне тот момент в «Волшебнике изумрудного города», когда домик Элли падает на старуху Гингему. (Надо сказать, это весьма болезненный фокус!) Только меня после приземления окружили не жевуны, а какие-то призраки в саванах.
Что за несправедливость!
— Только не надо волноваться, мисс, — сказал один из призраков и принялся поправлять простыню у меня на ноге.
Обычно так говорят, поигрывая пистолетом и одновременно отбирая у вас кошелек; но это привидение казалось вполне безобидным. Я догадалась, что им, видимо, придется разрезать мои джинсы; а это были фирменные «Ливайс», купленные на распродаже у Сисси Олсап. Теперь, когда она перестала быть шлюхой и вышла замуж за доктора, денег у нее навалом и ее распродажи стали лучшими в городе.
Знай я наперед, что угожу в больницу, непременно надела бы свое коротенькое ярко-синее платье, то самое, что купила в «Гудвилле» за пять долларов. Да, оно просто вызывающе короткое, но ведь я уже так давно страдаю от дефицита внимания — день или два (зеленоглазый ковбой в «Старлайте» не в счет). Подумав о нем, я тут же вспомнила, что мне необходим собственный дом. Или хотя бы просторный автоприцеп. Мне просто осточертело жить среди маминых столов с откидными досками, стульев розового дерева и кружевных салфеток, которые периодически приходится утюжить. Элинор зовет все это антиквариатом. Если у меня когда-нибудь будет собственный угол, я наконец-то обставлю его по-своему. Съезжу в Нашвилл, в лучший магазин импортной мебели, и накуплю там плетеных стульев. Еще я раздобуду пуфик, а на все окна повешу деревянные жалюзи. По ночам у меня будут гореть крохотные белые свечки, и я, включив магнитофон, буду слушать песни Брюса Спрингстина о любви и тоннелях. Бог весть когда на все это у меня будут деньги.
Еще один призрак начал выжимать жидкость из прозрачного пластикового пакета, похожего на те, что показывают по ТВ. О врачебной халатности я знаю очень много, спасибо сериалам «Скорая помощь» и «Надежда Чикаго». Жаль только, что никто из присутствующих и в подметки не годился Джорджу Клуни.
— Подключите ее к монитору, — закричал кто-то из них. Лица я не видела, так что это мог быть кто угодно, хоть Господь Бог. При этой мысли я слегка оторопела. Если он читал мои мысли, со мной покончено раз и навсегда, баста. Он отошлет меня прямо в ад или заставит впасть в кому.
— Кровь на общий анализ и на биохимию, компьютерный мониторинг, — распоряжался он, — УЗИ почек и общую рентгенограмму позвоночника.
Я понятия не имела, что это значило; просто бессмысленный набор слов. Ребята в саванах нависли надо мной и попросили держаться. Я решила попробовать, хотя было бы куда приятнее закрыть глаза и прикорнуть. Мои мысли неслись со скоростью метеоров или ночных поездов. От всего этого я порядком обалдела. Да и кто бы не обалдел?! Ведь, если я все-таки на небесах, почему мужчины-ангелы так похожи на трансвеститов? А может, это все же инопланетяне? Незеленые инопланетяне, уносящие меня в своем скоростном НЛО на межгалактическую групповуху. Вот это был бы номер — просто умора! Но что бы это ни было — жизнь, смерть или фантастика, мне было мягко, боль ушла, а на туго накрахмаленных простынях виднелся штамп; ТМС. Означать этот штамп мог все что угодно, от «Таллульская медицинская служба» до «Ты мертва, сучка!».
Я очень надеялась, что скоро проснусь. Будет прохладное солнечное утро.
За скромным завтраком с колбасками, яичницей и посыпанным сорго печеньем я расскажу Минерве и Элинор о своем сне: как меня сбил поезд Луисвилл — Нашвилл, а потом спасала целая орава призраков в белых саванах. «Причем сон был таким реальным, — скажу им я, — честное слово!»
МИНЕРВА ПРЭЙ
Стоило мне уснуть, как раздался телефонный звонок. Где тут было разобрать, связан он с тем стуком в дверь или нет. Да только сердцем я почуяла, что случилось неладное: кости у меня как-то странно заныли. Проживете с мое — тоже научитесь предвидеть, если только не выживете из ума. Я выбралась из постели и как была, босиком, заторопилась вниз, по этим скользким сосновым полам. А в груди-то уже так теснило, что я едва переводила дух.
Аппарат стоял на столике о трех ножках и звенел точь-в-точь как звонит печка, когда мои пирожки подрумянятся.
— Алло? — крикнула я и замерла.
Мне вдруг припомнились тысячи голосов, звучавшие в разные годы и в разных городах и сообщавшие о какой-то беде.
— Это резиденция Мак-Брумов? — пробасил какой-то мужчина.
На миг я задумалась. Мак-Брумов? Нет здесь таких. Все они давным-давно умерли. Тут только я, Минерва Прэй, да мои внучки. Но потом-то я опамятовалась. Мак-Брум — это фамилия моей дочки по первому мужу: Руфи вышла за Фреда в пятьдесят седьмом. Особо пышной церемонии не было, но торт был трехслойный и весь в розах (Фред был искусным кондитером и спек его сам). Еще, помню, был розовый пунш, мятные леденцы и свежий, как дыхание младенца, букетик невесты. Теперь, по прошествии стольких лет, от Руфи с Фредом остались лишь этот дом, закусочная и трое девочек. А от второго мужа Руфи, мерзавца Уайатта Пеннингтона, осталось и того меньше. Элинор теперь единственная Мак-Брум (сказать по правде, она у нас старая дева). Фредди давно замужем и живет далеко от дома, а у Джо-Нелл фамилий не меньше, чем пуговиц в шкатулке для шитья.
— Мэм? Вы еще тут? — окликнул меня все тот же бас. — Алло?
— Да-да, я тут. — Я вздохнула и задумалась, не он ли барабанил давеча в нашу дверь. Усевшись в кресле, я оперлась рукой о столик. И все-то мои мысли разбегаются. Чем дольше живу, тем чаще они разбегаются; совсем как коровы в Техасе, где каждая удирает акров на полтораста. Вот ведь беда, представляете? Конечно, места в моей голове не так-то много, но зато там сухо, пыльно и темно. Как в большом доме в полночный час или на старом чердаке. Так что затеряться нетрудно. Одно лишь прошлое нипочем не теряется, будто освещенное лампочкой в сто ватт, которая никогда не гаснет. Я помню даже больше, чем хотелось бы. Как родилась и выросла в Маунт-Олив, в Техасе, как потом столько времени провела в Теннесси, что теперь он мне как родной. И что кров, под которым я живу, купил когда-то Фред Мак-Брум.
— Да, здесь живут Мак-Брумы, — сказала я в трубку и вежливо закивала, словно этот молодой человек мог меня видеть.
— С кем я говорю, мэм? — спросил он.
— С Минервой Прэй, — ответила я, — моя дочка — урожденная Прэй, но потом взяла фамилию Мак-Брум. Затем ее звали Пеннингтон, а еще позже она едва не стала Креншо; вы же помните мистера Питера из лавки дешевых товаров? Он еще продавал цыплят и уточек на Пасху. Так вот, они были помолвлены. Ну а потом он уехал, моя дочка умерла и… Короче говоря, девочек вырастила я.
— Да, мэм. — Он откашлялся и, кажется, сплюнул. — Мэм, это Хойт Кэлхаун из дорожного патруля штата. Боюсь, у меня для вас плохие новости.
«Что ж, — подумала я, — выкладывай, не тяни».
Я так сильно стиснула трубку, что у меня даже пальцы захрустели. За пару мгновений, что пронеслись до его ответа, я изо всех сил старалась подготовиться к новому удару и заранее сообразить, что же стряслось.
Уж мне ли не знать, что такое беда! Я могла бы рассказать этому человеку о неурожайных годах, об эпидемиях гриппа, о мировых войнах и о том, каково зарывать собственных деток в сырую и студеную землю. Не раз мне говорили, что дьяволу так и неймется, если люди счастливы, и потому он все помешивает свой котел, всыпая туда целые пригоршни яда. И вот он подсыпал новую порцию горестей!
— Мэм, Джо-Нелл Мак-Брум приходится вам… дочерью?
— Внучкой, — прохрипела я. Мое старое сердце забилось так, что я едва могла вздохнуть. Разве Джо-Нелл не дома? Нет, я не припомню грохота ее маленькой машины. Обычно она подымает ужасный шум, повсюду зажигает свет, включает миксер и названивает кому-то по телефону. От всего этого просыпается Элинор, несется вниз и устраивает Джо-Нелл скандал.
— О господи, — сказала я в трубку, — что с ней?
— Авария.
— Авария?!
— Успокойтесь, мэм, — заторопился Хойт Кэл-хаун, — я слышал, она жива. Но в любом случае, вам нужно подъехать в центральную городскую больницу. Ее увезли туда на «скорой».
— Сейчас же еду! — крикнула я. И тут у меня затряслось колено. Я не смогла бы унять эту дрожь даже за тысячу долларов. Мой мозг словно начисто высох, и в голове колотилась одна-единственная мысль: «Она умрет, она точно умрет!» Трубка упала мне на колени, но я даже не подняла ее. Фланелевая ночнушка провисла под ее тяжестью, словно голубая в цветочек сточная канава. Так я и сидела пару минут, покачивая телефонную трубку, словно младенца в люльке. На языке вертелось столько вопросов, которые я не задала мистеру Кэлхауну. Может, перезвонить ему и выяснить, что за авария? Может, она врезалась в дерево? Или кто-то стукнул ее по голове пивной бутылкой? (Элинор уже несколько лет предсказывает, что этим и кончится.) Но я понятия не имела, кто такой этот Кэлхаун и какой у него номер телефона. Сейчас, наверное, он сидит в своей патрульной машине, привалившись пузом к рулю, и передает что-нибудь по рации. А затем сплевывает в бумажный стакан, в каких продают кофе на вынос.
Из комнаты Элинор послышалось медленное шарканье, с которым выбираются из постели древние и брюзгливые старухи. Стало быть, она встает. Через минуту она появилась в дверях, придерживая ворот халата конопатой рукой.
— Кто это звонил? — спросила она, щурясь от яркого света.
— Полиция. — Я подняла трубку и водворила ее на рычаг. — Джо-Нелл попала в аварию. Я еду в больницу.
— О боже… — Элинор нахмурила брови. — И сильно ей перепало?
— Уж, наверное, сильно, раз даже из полиции позвонили.
— Сейчас, я что-нибудь накину. — И она ушла в свою комнату, а я — в свою. Пальцы у меня словно одеревенели, и я бы вряд ли смогла застегнуться, а потому набросила нарядное платье без пуговиц. Едва я натянула колготки, как по нейлону со скрипом побежали стрелки. Да только мне было все равно, и, зажав под мышкой сумочку, я выскочила из спальни. Из коридора было видно, что Элинор еще сидит на постели и натягивает ботинки. Вообще-то, класть шляпы или башмаки на постель — очень дурная примета, но я не сказала ни слова.
Дело в том, что Элинор была у Руфи первенцем. А первый блин — он, как известно, всегда комом.
— Я тут подумала, — сказала она, — может, это совсем пустяковое ДТП и весь сыр-бор из-за того, что она набралась. Мы ведь обе знаем, какая она пьянчуга. Это было неизбежно.
— Полицейский говорил, что все очень серьезно, — возразила я.
— Они всегда преувеличивают, Минерва. Для них, кто проскочит на красный свет, тот уже и преступник.
— Зачем тогда везти ее в больницу?
— Да чтоб протрезвела.
Или взять кровь для теста. По закону штата так поступают со всеми, кто в пьяном виде садится за руль. По крайней мере, должны так поступать.
— Да с чего ты взяла, что она была пьяной?
— Минерва, полицейские не звонят по ночам просто так.
Что верно, то верно. Я ощупала свой живот и произнесла:
— У меня тут какое-то странное ощущение.
— Не иначе как отравилась, — предположила она. Теперь она натягивала второй башмак, покрякивая от натуги. — Говорила я тебе: тот майонез был с душком. Но куда там! Ведь ты вбила себе в голову, что хочешь куриного салатика.
В полутемной спальне ее глаза казались совсем желтыми, того же оттенка, что у моей сестры, которая умерла в Техасе в прошлом августе. Хэтти была помягче, хотя и не желала ехать в гости, утверждая, что Теннесси находится «почти на самом севере». И с места не желала двинуться. Между прочим, это она сочинила поговорку: «Если уж жизнь подсовывает тебе кислые лимоны, делай лимонад!», но кто-то из туристов подслушал и украл ее. «Надеюсь, она принесла ему счастье», — благодушно твердила Хэтти, а я так просто кипела от злости. Вот всегда так в жизни — стоит придумать что-то стоящее, и у тебя его тут же крадут. Словно и не твоя это придумка.
Элинор походила на Хэтти не только глазами: путешествовать она тоже не любила. Кое-кто назовет ее домоседкой, а по мне, она просто дикарка. Но стоит ей об этом сказать, она тут же устраивает посиделки для моих подружек-вдовушек. Стол так и ломится от десертов: слоеный кокосовый торт, заварное печенье, крошечные пирожки с лимоном и всякие милые пустячки вроде соломки с сыром. Пару лет назад она торговала косметикой «Эйвон», и даже довольно бойко, но потом ей надоело таскаться из дома в дом. Из нее бы вышла отличная жена, да только где ей кого-нибудь встретить?! У бедняжки ведь ни дружков, ни подруг, — только мы с Джо-Нелл да мои вдовушки. Поначалу я думала, что дело в ее робости, но потом смекнула, что все куда серьезнее. Она ведь крупненькая, ростом под шесть футов, причем вымахала такой уже к пятнадцати годкам. Но вместо того чтоб распрямиться во весь рост, она все горбилась да сутулилась. Мы с Руфи купили ей корсет с биркой «Крепкое хозяйство», но Элинор отказалась его носить. Постепенно и душа у ней как-то сгорбилась, словно у душ тоже бывает плохо с осанкой. Веселеет она только среди старушек, которые ее просто обожают.
Я все пытаюсь выставить ее из дома. Обвожу кружками всякие объявления в газетах вроде «Встречи юных сторонников демократической партии» или «Уроки танцев на центральной площади». А она знай себе твердит: «Меня это не интересует». «Но Элинор, — талдычу я ей, — в жизни есть кое-что получше, чем ветхий дом, старая закусочная да компания горьких вдовиц». «Моя жизнь меня вполне устраивает», — отвечает она, а затем начинает хмуриться. Во многом это вина сериалов. Слишком уж часто она смотрит «Озеро Рики» и «Мауру» (и так еще наладила, чтоб магнитофон сам записывал те серии, что она пропустила, работая в закусочной). Ну а в остальном виноват только злой рок. Ко всему прочему Элинор вдруг выдумала, что волна преступности движется прямиком на Таллулу, и даже завела специальный альбом, чтоб это доказывать. Она приносила мне статью, где пишут, что всякие зверства случаются в Америке каждые тридцать секунд. «А убийцы, как правило, мужчины», — сказала она. Она не доверяет даже старому доброму брату Стоуи, баптистскому проповеднику, чей портрет висит у нас в ванной. «Сними его, — все умоляет она, — он словно следит за мной. Не желаю я мыться под чьим-то взглядом». Я посоветовалась с Джо-Нелл, но эта-то не против: «Да плевать, мужики и так всегда глазеют на мою задницу». Вот я и не стала его убирать.
Вот я и не стала его убирать. И совсем даже он не мешает, наоборот, я с радостью чувствую, что уж в его-то святом присутствии я нипочем не поскользнусь. А Элинор я ответила: «Раз уж ты его стыдишься, можешь занавесить портрет туалетной бумагой». «Но кто посмотрит тебе в правую булку твою, обрати к нему и другую!» — крикнула Джо-Нелл и прямо покатилась со смеху, но, по-моему, Элинор эта шутка не понравилась.
Когда мы добрались до центральной больницы, у большого пандуса в форме подковы стояли полицейские машины. Двое офицеров слонялись туда-сюда, но ни один из них не подошел к нам и не представился Хойтом Калхауном. В больнице, глядя на указатели, мы нашли-таки зал ожидания, где с потолка свисал телевизор, а выстроенные рядами кресла были обиты той же колючей шотландкой, что и в кинотеатре. В зале было пусто. Двустворчатые двери вели из него в какую-то комнату, а над ними висела табличка с надписью: «Только для сотрудников скорой помощи». Мы с Элинор были совсем одни; я даже немного огорчилась, что в Таллуле никто не заболевает по ночам.
Элинор уселась поудобнее и принялась перелистывать старые журналы. Я села неподалеку и уставилась в телевизор, где шел выпуск новостей на канале Си-эн-эн.
— Нет, не могу я тут сидеть. — Элинор встала. — Я должна знать, что происходит.
Я ничего не ответила. На своем веку я побывала во многих больницах, в том числе и в этой, и теперь кое-что знаю о них. Все медсестры обожают командовать и держать нас в неведении. Когда моя сестра Хэтти лежала при смерти в Техасе, они расхаживали туда-сюда, словно командующие парадом: время есть, время купаться, время ехать на рентген. Единственное, что они пропустили, был смертный час моей Хэтти.
Элинор поплелась к дверям и нажала на красную кнопку, над которой значилось: «Осторожно! Механические двери». Что-то зашипело, и двери распахнулись. От неожиданности она отпрянула, а затем двинулась внутрь. При этом она так ссутулилась, словно тащила целый рюкзак с кастрюлями. Уж не знаю, откуда в ней эта робость — от Прэев или от Мак-Брумов, — но вот ростом-то она в моего Амоса. В нем было без малого шесть футов.
Минуты три спустя двери снова распахнулись и в зал влетела Элинор. Ее желтые глаза сверкали.
— Видать, плохи дела, — объявила она. — Народ снует туда-сюда, подвозит какие-то жуткие аппараты. Меня мигом выставили и при этом ничегошеньки не рассказали.
— Джо-Нелл ты хоть видела?
— Нет, хотя, поверь мне, изо всех сил старалась. Эти нахалки медсестры еще спросили, близкая ли я родственница. «Куда уж ближе, чем родная сестра?!» — сказала я им. — От волнения она покусывала ноготь. — Тоже мне! Неужто незаметно, как мы похожи?! Но меня все равно выгнали.
Бедняжка Элинор — вся сгорбленная, как миссис Бейли из дома престарелых. Говорят, это от нехватки кальция в костях, но я-то знаю, что недостаток молока тут ни при чем. Все началось с того, что она уже в детстве была страшненькой, а потом ее просто доконала смерть родителей. И разумеется, красота младших сестер только подливала масла в огонь. Джо-Нелл у нас прирожденная кокетка, а Фредди — большая умница. И, как всякая умная девочка, поскорее перебралась в места получше. А мне от моей внученьки остался только адрес с калифорнийским индексом. Сама-то я в жизни не видала никаких китов, но все же отлично понимаю ее: мне тоже нравится все большое. Моя заветная мечта — вернуться в Техас. Там осталась история моей жизни, мои радости и мои горести.
Да только жить надо там, где ты нужен. Нужно шевелиться. Вставать с петухами, варить кофе, поливать фиалки, печь пироги с черносливом, смотреть вечерние новости и ложиться спать. Говорят, жизнь — цепкая штучка. Как-то в семидесятые годы девочки починили наш парник, и у Фредди там прижился сухой черенок без единого корня.
Как-то в семидесятые годы девочки починили наш парник, и у Фредди там прижился сухой черенок без единого корня. Что-то из бромелиевых. Потом она же мне рассказывала, как в Египте нашли зерна пшеницы, пролежавшие в песках тысячи лет. Кто-то их посеял, и — что бы вы думали? — они дали всходы. А Дэн Рэзер говорит, что, возможно, и на Марсе есть жизнь, на этих мерзлых камнях. Я знаю, что и слабейший на вид, будь то пшеничное зерно или человек, может оказаться сильным. Главное, чтобы условия были подходящие.
Тут из дверей вышел какой-то усталый врач в сопровождении двух толстух медсестер. Увидав его, Элинор открыла сумку, выхватила два бумажных платочка и протянула один из них мне.
— Простите, что заставили вас ждать, — сказал нам доктор, взяв у сестры охапку бумаг. На вид ему было едва за двадцать; у него была модная стрижка и широкая лоснящаяся физиономия. — Я доктор Грэнстед, хирург-ортопед, лечащий врач мисс Мак-Брум.
Он пожал мне руку, а потом посмотрел на бумаги.
— У мисс Мак-Брум переломы тазобедренного сустава и бедренной кости. Но возможно, дело не ограничивается этими внешними повреждениями.
— А что с ней случилось? — Элинор даже рот разинула.
— Счастье, что она выжила. — Доктор нахмурился. — Возможно, у нее есть и более тяжелые внутренние повреждения. Артериальное давление и гематокрит постоянно падают, так что я подозреваю внутреннее кровотечение. Скорее всего, это разрыв селезенки: я консультировался с терапевтами. Плюс, я уверен, имеется сотрясение, а то и отек мозга. В реанимации нет штатных нейрохирургов, но, если появится мозговая симптоматика, мы переправим ее в Нашвилл.
— Как она? — спросила я, стиснув платок.
— Не понимает, что вокруг нее происходит, — ответил доктор.
— О господи! — Элинор замахала руками. — Не обращайте внимания! Она никогда этого не понимает и при этом еще дразнит меня. Обычная история.
Доктор моргнул.
— Она ведь не умрет, правда? — Мне снова стеснило грудь.
— Мы постараемся этого не допустить. — Он пристально посмотрел на меня. — Чем скорее начнем операцию, тем больше у нее шансов.
— Операцию? — Элинор снова разинула рот.
— Нужно вправить вывихи, сопоставить отломки и, возможно, зафиксировать их при помощи спиц. Не исключено, что потребуется протез сустава. Кто из вас может подписать документы?
— Наверное, я, — ответила я, поднимаясь.
Я нацарапала подпись, а доктор тем временем уставился в телевизор, где шел очередной блок новостей. В Южной Америке разбился самолет, и это навело меня на странную мысль: вероятно, многие люди становятся жертвами проклятий, даже не подозревая о них. Они живут себе, ни о чем не подозревая, и не видят, что неприятности просто преследуют их: засоренные унитазы, авиакатастрофы, сердечные приступы, крушения поездов.
— Ей ведь уже не поправиться, да? — Я заглянула ему прямо в глаза. Шариковая ручка скользнула из моих рук и покатилась по кафельному полу. Поднимая ее, одна из толстух присела на корточки, и ее колготки затрещали, как сухое полено. «Если наберешь еще хоть фунт, то просто лопнешь! — подумала я. — Хорошо, хоть работаешь ты прямо в скорой помощи».
— Я делаю все возможное, — ответил доктор, с трудом отрываясь от телевизора, — но вам все же стоит оповестить родных. Аварии бывают и похуже, и ей чертовски повезло, что она осталась жива. И все же прогноз не слишком радужный. Знаю, все это очень неприятно.
— Да уж, еще бы, — отозвалась Элинор и приосанилась. — А что за авария?
— Так вам не сказали? Ее машину сбило поездом. — Он переводил взгляд с меня на Элинор, словно прикидывая, насколько подробно можно рассказывать.
— Он переводил взгляд с меня на Элинор, словно прикидывая, насколько подробно можно рассказывать.
Элинор зажала рот руками и стала раскачиваться взад-вперед.
— Сбило по… — просто язык не поворачивался это выговорить. Я рухнула обратно на стул, и у меня снова затряслось колено. А доктор все посматривал в телевизор, шурша своими бумагами. Ему не терпелось отвезти Джо-Нелл в операционную и поскорее искромсать ее. В старину доктор Чили Маннинг узнавал все о моем сердце, лишь пощупав мое запястье. «Может, укольчик успокоительного? — спросил бы он сейчас. — Не то вы, моя голубушка, вся издергаетесь от этой аварии». Это был доктор старой закалки, теперь таких уже нет. Отбывая во Флориду, он предупреждал меня о странностях новомодных врачей. Говорил, что они лечат по книжкам, что им нужна машина стоимостью в миллион долларов, чтобы понять, зачастило ли сердце. Его собственный сын, Джексон, работал в этой самой больнице. Когда-то он ухаживал за Фредди, «ухаживал» не то слово — они даже были помолвлены. Фредди так и не сказала нам, почему у них вдруг разладилось. Я все надеялась что-нибудь выведать, но Фредди укатила в Калифорнию. Думаю, их размолвка как-то связана с тем, что ее выгнали из медицинского колледжа.
— Как же это произошло? — кричала Элинор, округлив глаза.
— Спросите лучше полицейских, — ответил доктор, — и давайте поговорим после операции.
Он развернулся на каблуках и скрылся за двустворчатой дверью, а обе медсестры заколыхались вслед за ним. Едва лишь двери захлопнулись, как Элинор высунула язык.
— Вот ведь хам, — прошипела она, — и как две капли воды похож на хирурга из «Дней нашей жизни», который оказался маньяком.
— Детка, это не мыльная опера, — возразила я, — это жизнь.
— Сама знаю, — буркнула она, а затем взяла журнал и стала рассеянно листать его.
— Который теперь час в Калифорнии? — Я раскрыла свой ридикюльчик и поискала монетку в двадцать пять центов.
— Зачем это тебе? — Элинор бросила на меня подозрительный взгляд и опустила журнал.
— Надо позвонить Фредди, — ответила я.
— Чего ради? Она ведь даже не дома, а в Мексике. Надо подождать, пока откроется офис «Вестерн юнион» и мы сможем послать телеграмму.
— Негоже сообщать о таком телеграммой, — сказала я.
— Негоже, что такое вообще происходит! — Ее глаза стали кисло-желтыми, цвета маринада от кошерных огурчиков. И вдруг она вся скрючилась и зарыдала.
— Ах, деточка, — вскрикнула я и пересела поближе к ней. Я хотела сказать ей что-то очень верное про то, как вся семья сейчас должна сплотиться, но так и не подыскала нужных слов. Не хотелось огорчать ее, но мне казалось, что родовое проклятие снова принялось за дело. Это моя вина, что оно тяготеет над нами. Хэтти, конечно, не верила в него, хотя и слушала, затаив дыхание, мамины рассказы о легендах старого Техаса — о затерявшихся путниках, таинственных исчезновениях, убийствах и привидениях. Эти истории мы любили даже больше, чем мамин персиковый пирог, за который ей девятнадцать лет подряд присуждали голубую ленту на ярмарке округа Брэбхем. Я никогда не думала, что проклятие так могущественно, что из-за него я схороню всех, кого люблю. Судьба отнимает их у меня одного за другим. Люди советуют не тужить, ведь умершим теперь хорошо. Но нам-то откуда знать?! Или кто-то уже наведался в рай и проверил? Смерть близких — это страшная кара, которую посылает мне небо, кара жуткая и таинственная, как закрытые двери реанимации.
«Жизнь — беспощадная штука», — подумала я, закрывая глаза. Будь здесь Джо-Нелл, она бы тут же захохотала: «Кривишь душой, Минерва! Ведь про себя-то ты думаешь: «Жизнь — дерьмо», а говоришь: «Беспощадная штука»».
Не люблю я всякие грубости, но все же должна признаться: Джо-Нелл умеет рассмешить меня. А смех — это просто дар Господень. Он исцеляет душу и прочищает мочевой пузырь. А в моем возрасте, даже при склонности к недержанию, это ой как полезно.
ФРЕДДИ
Мы с Сэмом остановились в отеле «Мирабель», в самом центре Герреро-Негро, и всю ночь мне снился тот кит. То я видела, как водоворот швыряет меня о скалу, то — как уплывает моя маска. Один раз я с криком проснулась, и Сэм принялся обнимать меня.
— Ш-ш-ш, успокойся, — твердил он, целуя мои волосы.
— Но я задыхаюсь, — кричала я.
— Ничего подобного. Это сон, — сказал он и чмокнул меня в ладошку. — Всего лишь сон.
Я перевернулась на бок, прихватив с собой его руку, а он прижался ко мне и, вытянув ноги, пощекотал пальцами мои ступни. От него исходило тепло, которое чувствовалось даже сквозь ночную рубашку. Мне хотелось сказать ему: «Сэм, меня мучают страхи. Помоги мне прогнать их», хотелось объяснить, что у меня ужасная наследственность, ведь все женщины в нашей семье — настоящие паникерши. На Джо-Нелл это почему-то не сказалось, зато Элинор превратилась в пугливую клушу, которая постоянно следит за статистикой преступлений. Меня же просто мучают страхи. Каждую осень, когда мы с Сэмом едем в Мексику, я боюсь подводных течений, мелководья, бурь, волн прибоя, контрабандистов и непонятных щелчков в моторе. Меня пугает целый ряд потенциально опасных (хотя и вполне заурядных) вещей, например: ночные плавания, туманы на дорогах, непрожаренные бифштексы, возможно зараженные кишечной палочкой, или не проверенные на сальмонеллы моллюски.
Но больше всего я дрожу за наш брак. У нас с Сэмом общая постель, общая профессия, общие политические убеждения, но в мелочах мы удивительно разные. Я ненавижу беспорядок, грязь просто сводит меня с ума. Вероятно, это напоминает мне тот хаос, что царил вокруг меня в детстве. Моя мать, Руфи, перед смертью стала копить всяческий хлам. В пузырьках из-под ополаскивателя для рта она держала виски и прятала эти запасы в старых обувных коробках. На кухне громоздились целые батареи пустых майонезных банок, горы бумажных пакетов и кипы газет. Все это лежало кучами вдоль стен даже в столовой. Газеты она собирала для запасной спальни, где порхали ее обожаемые попугайчики, то и дело взлетавшие на карнизы или врезавшиеся в оконное стекло. Весь пол там устилали намокшие газеты, а в воздухе вились ленивые и мохнатые мошки, которые размножались в корме для птиц.
И вот я выросла педантичной чистюлей. Разумеется, это что-то вроде защитной реакции, но к чему мне с ней бороться? Порядок помогает мне не сойти с ума. Поверхность моего письменного стола всегда абсолютно пуста и так и сияет полировкой. Свои письма я вскрываю над мусорным ведром и так и норовлю разложить все продукты и кухонные принадлежности в алфавитном порядке: соус «Тамари» рядом с туалетной бумагой, тортеллини и трюфелями. Моя бабка коллекционирует солонки и перечницы, сделанные в Японии в период оккупации, а я вот не коллекционирую ничего. Зато в еде, как ни странно, я совсем не такая спартанка. Люблю поесть мяса каждый день, особенно жареного или запеченного в гриле, а на десерт — по два рожка шоколадного с арахисовым маслом мороженого «Баскин-Роббинс». А больше всего на свете мне нравится просто сидеть сложа руки! Нет, я серьезно: просто сидеть у окна и разглядывать залитый солнцем залив Томалес.
Сэм же неутомим, как заводной волчок. Он работает за шведским бюро с выдвижной крышкой, все полки которого забиты старыми квитанциями «Американ экспресс», фотографиями китов, нераспечатанными письмами из «Паблишерз клиринг-хаус» и даже чеками из продуктовых магазинов. И он коллекционирует свои трофеи, добытые под водой. По большей части это ракушки, в которых он хранит скрепки для бумаг и липкую ленту.
И он коллекционирует свои трофеи, добытые под водой. По большей части это ракушки, в которых он хранит скрепки для бумаг и липкую ленту. Его журнальный столик завален научной периодикой, книгами о китах и старыми выпусками «Тайм» и «Нью рипаблик». Для ученого он невероятно хозяйственен: сам меняет плитку на кухне, прочищает засорившуюся раковину и зашпаклевывает трещины в потолке. Мистеру Эспаю он помогает считать и даже клеймить овец. Но его подлинный конек — это ремонт автомобилей. Жители Дьюи постоянно обращаются к нему с просьбой устранить неполадки в лодочных моторах.
Я просто без ума от него. Он такой талантливый, энергичный, разносторонний, оригинальный и преданный работе. И все же (на мой взгляд) Сэм частенько перегибает палку. Вот, например, питание: ему недостаточно быть просто вегетарианцем. Нет, он веган, то есть не приемлет никакой животной пищи, включая молоко, яйца и сыр. Он даже не притронется к вполне безобидному на вид капустному салату, если вдруг заподозрит, что тот заправлен майонезом. Я-то буквально жить не могу без жареных бараньих ребрышек, салата «Цезарь» и лимонных меренг. А рацион Сэма состоит из шпината, чечевицы, тушеной капусты, вегетарианского творога на основе тофу[3], яблочного сока, питательных дрожжей и йогурта из соевого молока. Каждый раз, когда мы едем в Мексику, он просто морит себя голодом. «Важно не то, чем жертвуешь, — говорит он при этом, — а то, что благодаря этому открываешь».
Вегетарианство для него — дело принципа. Киты сейчас почти на грани исчезновения, и своим образом жизни Сэм старается сделать мир пусть не идеальным, но хотя бы чуточку менее хищным. Он активный борец за права животных и носит пластиковые ремни и кроссовки даже на официальных приемах. Кожу, шерсть или шелк он не наденет даже под пытками и ни за что не попробует меда. Он отнюдь не буян, но так и мечтает окатить чью-нибудь норковую шубку кислотно-зеленой фосфоресцирующей краской. Целый угол в нашей кухне в Дьюи он отвел под контейнеры для различных сортов мусора и регулярно перерывает их, вытаскивая все, что я по рассеянности бросила не туда. «Как ты, такая патологическая чистюля, — говорит он при этом, — можешь бросать пластиковую штуковину в органические отходы?»
И мое молчание в таких случаях кажется проявлением пассивной агрессии. Не знаю, много ли пар ссорится из-за еды, но наша кухня как-то раз превратилась в настоящее поле боя. Поскольку я выросла среди профессиональных кондитеров, мне ужасно хотелось испечь ему на день рождения нормальный праздничный торт, но из-за его изуверской диеты это было невозможно. В итоге я соорудила «торт» из куска тофу и украсила его одной-единственной свечкой. Но, поскольку преподнесла я его с мрачным видом и обозвала Сэма фанатиком-экстремистом, он начал захламлять наш дом кулинарными каталогами. Я все боялась, что одна из огромных стопок опрокинется и раздавит кого-нибудь из нас насмерть.
Сейчас я стараюсь не вспоминать об этом, но два года назад Сэм отчаянно влюбился в другую женщину. Я не шучу. «Отчаянно», потому что толкование этого слова, данное в Вебстеровском словаре, наиболее точно соответствует тому, как он влюбился: чрезвычайно сильно, стремительно и совершенно безоглядно. Эта женщина была моей ровесницей, но в остальном мы с ней абсолютно непохожи. Эта белокурая и голубоглазая лактовегетарианка работает художницей и живет в Сан-Франциско. Ее зовут Андреа, и у нее две дочери от первого брака. При мысли о ней мне всегда представляется худышка, которая поливает кусок холста соевым йогуртом, в окружении детей, уплетающих проросшие бобы. Она обвивает Сэма длинными, тонкими руками, пальцы которых перепачканы жженой умброй.
Не могу понять, что он в ней нашел, — это и по сей день остается пробелом в наших отношениях. Знай я, чего ему не хватало, постаралась бы дать это. Но похоже, Сэм и сам уже не помнит, в чем было дело.
Знай я, чего ему не хватало, постаралась бы дать это. Но похоже, Сэм и сам уже не помнит, в чем было дело. Хотелось бы свалить все на еду, но проблема, конечно, глубже. Праздничный торт из тофу не может разрушить брак, хотя, если ты придала этому торту непристойную форму, он, безусловно, превращается в провокацию. Оглядываясь назад, я понимаю, что из наших отношений ушла нежность. Мы все время соперничали: кто из нас экологически более корректен, Сэм или Фредди? Кто талантливей как ученый? Кто лучше знает китов? Любовь не терпит таких условий, как дрожжи не терпят холодной воды.
Но вот что странно: стоило Сэму уйти, как он стал еще желаннее. Я звонила сестрам по междугороднему и ныла, что мечтаю вернуть его.
— В мужчине, который профессионально изучает китов, есть что-то ужасно скользкое, — ворчала Элинор.
— Уж в чем я разбираюсь, так это в психологии бабников, — твердила Джо-Нелл. — И мой тебе совет: на всякий случай упакуй чемоданы. Потому что — попомни мои слова! — он сделает это снова.
Именно этого я и боялась. Он врал мне, он обманул мое доверие — с какой же стати я должна его прощать? Но из-за китов нам приходилось общаться; мы были как пара сиамских близнецов с одним мозгом на двоих. Мои сестры считали, что его измена подкосила меня, нанесла глубокую травму, но это было не совсем так. Я просто сильно испугалась и осознала, насколько хрупка наша любовь.
В ту ночь, когда Сэм вернулся, я откупорила бутылку «Пино нуар» урожая 1993 года. Пока я разливала вино, он каялся в своем ужасном поступке и уверял, что любит меня. Любит, и ничего тут не поделать! Меня же интересовала художница: прогнала ли его она, или он и вправду оставил ее ради меня? Я потягивала вино, вдыхая ароматы малины и вишни. А затем объявила ему, что не собираюсь быть обманутой женой. Еще один такой номер — и я уйду. Уйду, и вот тогда будет действительно ничего не поделать. Сэм говорил, что понимает меня, но что он, мол, оступился лишь однажды и что теперь-то он станет образцовым мужем. Мол, ему так хочется доказать мне свою любовь. От вина у меня немного кружилась голова, но я тут же отреагировала:
— Да ты хоть знаешь, что такое любовь?
— Не знал, пока не потерял ее.
Я полюбопытствовала, обо мне он говорит или о художнице, но он клялся и божился, что обо мне. Затем, после еще одной порции вина, мы вдруг ужасно развеселились. (Пить мы оба не умеем.) Нам стало ясно, что жизнь влюбленных — сплошной риск: они либо занимаются любовью, либо сводят друг друга с ума. И мы открыли еще одну бутылочку. Он поднял тост за мои карие глаза, а я — за его тофу, торжественно пообещав никогда больше его не кромсать. Начало получалось совсем неплохое. И я снова пустила его в свою постель и в свою жизнь, хотя тревога так и не ушла.
Дыхание Сэма согрело мне затылок. Затем он погладил меня по бедру и спросил:
— Ты спишь?
— Нет.
— И я — нет, — его губы приникли к моей шее, но вскоре он наткнулся на сорочку. — Нельзя ли это снять?
Через пару минут мы уже вовсю барахтались в постели, а мои ноги болтались у него за спиной. Я забыла и о случае с китом, и о художнице-вегетарианке, и о Нине, и обо всем на свете и мечтала лишь о завтрашнем завтраке с Сэмом.
Проснулась я не сразу. На противоположной стене большая игуана охотилась на муху. Да, я безмерно люблю Сэма и китов, да, я хочу уберечь и их, и его от плотоядных хищниц, но отель «Мирабель» мне все же не по вкусу. Это не лучшее место в Герреро-Негро, пусть даже чистенькое и недорогое. В этом домишке, покрытом крошащейся желтой штукатуркой, горячую воду дают с семи утра по час ночи. В посыпанном песком дворике растут опунции и чахлая пальма, а стены заросли красной бугенвиллией, в тени которой дремлют кверху брюшком несколько ящериц.
Вокруг одного-единственного миндального дерева стоят два каменных стола, за которыми мы иногда ужинаем. В своем номере мы установили черный телефон, взятый в аренду у отеля, а к его трубке приклеили список: телефоны Красного Креста, Института океанографии и адвоката из Общества защиты туристов.
Иногда мне хотелось позвонить по этому последнему номеру с анонимной жалобой. «Помогите, — сказала бы я по-испански, — моя личная жизнь под угрозой! Нам нужна защита и усиленный охранный режим». Угроза была тем явственней, что номер Нины ван Хук находился ровно через двор от нашего. Как правило, она не задергивала шторы и щеголяла своим упругим телом, бюстгальтерами с поролоновыми вставками и кружевными трусиками цвета фруктовых леденцов. Мое стандартное белое белье из универмага «Джей Си Пенни» буквально вгоняло меня в краску. Следовало либо прикупить себе что-то поэротичнее, либо задергивать собственные шторы.
Я взглянула на Сэма, который как раз натягивал джинсовые шорты. Наши взгляды встретились.
— Я сказал Нине, что мы завтракаем в семь в кафе «Магдалена».
— Так рано? — Я прикрыла глаза рукой и плюхнулась обратно в постель. — Нет, давай еще поваляемся.
— Воскресный завтрак в «Магдалене» — это уже традиция, — возразил он, — к тому же у нас куча работы.
Он поднял простыню, поймал мою ногу и ущипнул меня за большой палец.
— А я-то думал, ты мечтаешь о своих huevos con chorizo[4].
Но, как ни глупо, в тот момент я мечтала лишь о том, чтобы позвонить домой и поведать сестрам, как я дважды рискнула жизнью: 1) нырнув в одиночку, 2) рассердив сорокафутового кита. Сестры у меня верные: они бы во всем обвинили Сэма и Нину. «Избавься от этой сучки», — сказала бы Джо-Нелл. Но этого я не умею: я всегда недооцениваю своих врагов. Много лет назад в Мемфисе у меня на кухне завелась мышка. «Не беда», — подумала я. Положив в ловушку кусочек итальянского сыра, я все ждала, когда раздастся ее отвратительное клацанье. Но чертова мышь стащила сыр вместе с мышеловкой!
Через десять минут мы втроем уже шагали по авениде Нижней Калифорнии, улице с двусторонним движением в центре Герреро-Негро, всего в четырех кварталах от главного здания соляной компании «Экспортадора дель Саль». Мы прошли мимо маленького почтового отделения, автобусной остановки, кофейни Марсело и мотеля «Гамес», выкрашенного в персиковый цвет. Примерно в пятистах ярдах от почтового отделения находится крошечное здание телеграфа. Обычно по воскресеньям оно закрыто, но сейчас из него выбежала растрепанная темноволосая девчонка, махавшая каким-то листком. Это была официантка из кафе «Магдалена» — Лус Мартинес, младшая дочь хозяина заведения.
Пока я глазела на нее, Нина обогнала меня и спросила Сэма, можно ли ей выйти в лагуну на лодке: она бы хотела заснять под водой молодую самку с детенышем. Сэм, казалось, задумался; он снял очки и потер глаза. Я знала, о чем он думает: «Сегодня пасмурно, и видимость будет хуже некуда». Но прежде чем он ответил, Лус Мартинес заголосила:
— Se~nor Espy![5] — Едва переводя дух, она догнала нас и протянула смятую бумагу.
— Tr'agico[6], — восклицала Лус, прижимая ладонь к щеке и обдавая нас ароматом перца, мяты и кориандра. — Tel'egrafos[7], — пояснила она и сунула бумажку мне в руку.
Я развернула ее и, опустив глаза, прочитала:
«ПРИЕЗЖАЙ ТЧК БОЛЬШАЯ БЕДА ТЧК ДЖОНЕЛЛ СБИЛО ПОЕЗДОМ ТЧК СОСТОЯНИЕ КРИТИЧЕСКОЕ ТЧК ВЫЖИВЕТ ВРЯД ЛИ ТЧК ЦЕЛУЮ ТЧК ЭЛИНОР ТЧК».
— А кто эта Джонелл? — поинтересовалась Нина, заглядывая мне через плечо. Она произнесла это имя, скомкав его в одно слово. Я хотела было поправить ее, но почувствовала, что вряд ли смогу говорить.
Я хотела было поправить ее, но почувствовала, что вряд ли смогу говорить. Перед глазами у меня стояла безумная картина: старинный локомотив врезается в малюсенькую машинку.
— Ее сестра, — ответил Сэм, обняв меня.
— Ее сестру протаранило поездом? — заморгала Нина. — Господи!
Я взглянула на Сэма и протянула ему телеграмму. У меня кружилась голова, и я почувствовала, что меня вот-вот вывернет прямо посреди этой песчаной улочки. Схватила Сэма за руку, все надеясь, будто что-то не так поняла: прочла tren[8]вместо trenza[9]. Лус Мартинес гладила меня по голове, ероша стриженые волосы, и с ужасом в глазах бормотала:
— Lo siento mucho[10].
— Боже мой, Фредди, — воскликнул Сэм, прижимая меня к груди, — мне так жаль.
— Может, это ошибка? — спросила я. — Может, не так перевели?
— Надо позвонить твоей сестре. — Он повернулся к Лус и указал на кафе. — Me permite usar el tel'efono?[11]
— Si, se~nor[12]. — Она схватила его за руку и потащила вперед. — Por aqui[13].
Сидя в кафе «Магдалена», я сжимала трубку старого черного аппарата и слушала рассказ Элинор. От запаха кориандра у меня слегка кружилась голова, и я то и дело машинально ощупывала засохшую корочку над левой бровью. Голос Элинор казался далеким, словно шум прибоя внутри морской раковины.
— В каком она состоянии? — спросила я. — В коме?
— Не знаю. Спит как убитая. Доктор говорит, это из-за операции и того лошадиного наркоза, что ей вкатили.
— Операции?!
— Да. Все думали, что она переломала себе все кости, но ей повезло. Сломаны только бедренный сустав и нога, кажется левая. Она уже в гипсе. — Голос Элинор заглушали какие-то щелчки в линии. — Но теперь они поняли, что у нее лопнула селезенка. Если это так, то придется ее удалить. Фредди, я так волнуюсь, просто с ума схожу! Она потеряла уйму крови. Я предложила перелить ей мою, но у меня кровь второй группы с положительным резусом, а у нее — первой и резус-отрицательная.
— У меня первая группа и отрицательный резус, — сказала я.
— Ну слава богу. — Она помолчала. — Я знаю, что такое печень и почки, но понятия не имею, для чего нам селезенка. Зачем она нужна?
— Это такой фильтр для крови. — Я прикрыла глаза и попыталась представить себе Джо-Нелл с огромным шрамом, который тянется вдоль ее живота, словно застежка-молния. Кто знает, какие еще повреждения они обнаружат, вскрыв ее брюшную полость?
— Ее сбил поезд Нашвилл — Ноксвилл, — произнесла Элинор удивительно спокойным голосом. — По крайней мере, я так думаю, хотя, может быть, не он, а Луисвилл — Нашвилл. Какой-то подозрительный адвокат позвонил нам сегодня и посоветовал подать иск. Он говорит, что между паровозным гудком и столкновением проходит лишь двадцать пять секунд. Не слишком много, согласись?
«Двадцать пять секунд?» — с ужасом подумала я. Успела ли Джо-Нелл ощутить что-либо кроме испуга? Я представила, как ее душа вылетает из машины и, кружа словно птица, исчезает в небесной синеве.
— Ну, надеюсь, ты приедешь? — спросила Элинор.
— Да-да. Конечно. — Я зажмурилась от звука собственного голоса, повторявшего одно и то же. Мне всегда говорили, что повторять одну фразу по многу раз — это своего рода семейная черта Прэев — Мак-Брумов в частности и южан в целом. Сейчас мне пришло в голову что все не так просто, что эта привычка — особая неврологическая реакция, помогающая справиться с шоком, с чем-то страшным и непоправимым. — Но я не знаю, когда смету выбраться с полуострова. Понимаешь, в Герреро-Негро нет настоящего аэропорта, а только маленькая взлетная полоса.
Понимаешь, в Герреро-Негро нет настоящего аэропорта, а только маленькая взлетная полоса.
— А это не опасно?
— Нет, — ответила я, хотя и не была в этом уверена. Ближайший аэропорт был в Ла-Пасе, в пятистах милях к юго-востоку. Я, правда, видела, как в лагуне Сан-Игнасио садятся какие-то кукурузники, доставляющие наркоторговцев и агентов по переписи населения, но, говорят, они частенько разбиваются в пустыне. — Кого-нибудь уломаем или подкупим, но я приеду.
— Но тогда… — Голос Элинор растерянно прервался. — Как же я узнаю, когда тебя ожидать?
— Я позвоню из аэропорта.
— Но как ты доберешься из Нашвилла?
— А что, ты меня не встретишь?
— Ну, в принципе, могу, конечно… Но доктора говорят, что Джо-Нелл может в любую минуту… — Она помолчала, шумно дыша в трубку. — А, подожди-ка! Теперь же есть такси-лимузины, мне рассказал о них один клиент. Там есть и настоящие лимузины, но в основном это обычные микроавтобусы. Это просто название такое — «такси-лимузины». И не волнуйся — они не слишком дорогие.
— Они ходят до Таллулы?
— И до всех остальных поселков между Нашвиллом и Ноксвиллом: до Лебанона, Картиджа, Куквилла. Удобно, правда?
— Безусловно. Я позвоню, когда приеду в Таллулу.
— Ты приедешь одна?
— Вероятно, — я вздохнула и глянула на Сэма. — А Минерва-то рядом? Могу я с ней поговорить?
— Она в больнице, караулит врачей. У Джо-Нелл целых три хирурга: специалист по мозгам, специалист по крови и еще один, который следит, чтобы не было застоя в легких. Я даже и не знала, что в центральной городской больнице столько врачей! Вообще-то говоря, я как раз туда и еду. Со мной тут три Минервиных подруги, и мы уже немного опаздываем. Но Фредди!
— Что?
— Береги себя.
Элинор уже дала отбой, а я все еще прижимала трубку к уху и слушала странные мексиканские гудки. Большинство людей заканчивают разговор обычным «пока!», но моя сестра просит всех беречь себя, словно этот призыв может предотвратить катастрофу. Я задумалась, сколько раз мои бабка и мать произносили такие же предостережения, стараясь отвести грозящую опасность. Я повесила трубку и обернулась к столику, за которым сидели Сэм и Нина. Между ними стоял наш завтрак: молоко и huevos rancheros[14] для Нины, пшеничный тост, острая приправа с перцем халапеньо и бутылка папайевого сока для Сэма и нетронутая тарелка huevos con chorizo, ожидавшая меня. Но похоже, есть я была не в состоянии. Подходя к столику, я услышала Нинины слова:
— Надо же, сбило поездом! Жуть да и только. Стало быть, Фредди придется уехать, да?
МИНЕРВА ПРЭЙ
Не прошло и шести часов после первой операции, как Джо-Нелл уже покатили на вторую — удалять селезенку. Доктора сказали, что это большой риск. Я сидела в холле и, глядя в узкое окошко, обращала к небу свои молитвы. Элинор все на свете проворонила: она уснула прямо в темно-бордовом пластиковом кресле. Голова у бедняжки запрокинулась, и она сразу стала похожа на своего отца и всех прочих Мак-Брумов. Подбородки у них были крутые, но носы и скулы выдавали слабину. Вот и у Элинор характер не без слабостей. Она и всегда-то была нервной девчушкой, а после смерти Руфи и вовсе расклеилась, словно все время ждала какой-то новой напасти. Недавно я подметила, что она никуда не ездит одна. Я, конечно, ни словом об этом не обмолвилась, а просто стала наблюдать. По-моему, если б не закусочная, то она бы день-деньской сидела дома, на Ривер-стрит. По выходным она все смотрит телевизор: передачи для кулинарок по каналу «Дискавери», «Стиль жизни от Марты Стюарт» и сериал «Дерзкие и красивые».
Потом она прерывается на обед, перехватывает сэндвич с майонезом и бежит смотреть «Живем только раз». А там уже до самого вечера что-то стряпает и вклеивает вырезки в свой альбом. И все это время — нет, вы только подумайте! — она расхаживает в ночной рубашке. Ног она по выходным не бреет, так что они зарастают густой-прегустой щетиной.
Уж как я за нее переживаю! Однажды, в программе «Доброе утро, Америка!», какая-то докторша рассказала, что есть такая болезнь — ангорафобия. Я-то сперва решило, что это когда боишься шерстяных фуфаек, но докторша пояснила, что это хворь, при которой боязно выйти из дому. Вначале больные еще нет-нет да выходят, но потом становятся сущими затворниками. Некоторые не ступят за порог, даже если начнется пожар!
Я тогда так перепугалась за Элинор, что выдумала целый план: упросила ее отвезти меня в клуб пенсионеров и заставила поиграть с нами в «угадайку» и «холодно-горячо». А после игр взяла да и объявила старушкам, что мы с Элинор едем на распродажу в универмаг «Биг лоте». «Кто с нами?» — спросила я их. Элинор — добрая девочка и не стала огорчать бедных старух. Вот так-то все и началось. Теперь она повсюду таскает за собой пару-тройку вдовиц. По вечерам в воскресенье, закрыв закусочную, мы садимся в наш фургон, и Элинор везет нас со старушками куда угодно, лишь бы в черте города. Выехать за город она никогда не соглашается.
Прошло уже немало времени, когда один из докторов — фамилию я не разобрала — отвел меня в палату. На нем была зеленая шапочка, из-под которой топорщились рыжие волосы, а на груди болталась бумажная маска. Я старалась прочесть что-нибудь по его лицу. Уголки рта у него были опущены, а лоб — весь в морщинах: такое выражение лица бывает у водопроводчика, когда он говорит вам, что корни деревьев вросли в водопроводные трубы и спиливать их уже поздно.
— Ей удалили селезенку, — произнес доктор. — Но в остальном все в полном порядке.
— Она жива? — Я ухватила его за локоть.
— Да. — Он похлопал меня по руке. — Она сильная девушка.
— Когда я смогу ее видеть?
— Да хоть сейчас. — Он указал мне на двери, над которыми было написано «Реанимация». И я пошла одна, решив, что Элинор будить ни к чему. Я постучалась, и какой-то медбрат отвел меня в крошечную комнатку со стеклянными стенами. Джо-Нелл спала, утыканная со всех сторон какими-то трубочками. На животе у нее была широкая, но очень тонкая повязка в буровато-красных пятнах. Сама Джо-Нелл была белее простыни, словно вместо крови ей в жилы напустили отбеливатель. Даже не верилось, что живая девочка может быть такой белой.
— Простите, она еще не отошла от наркоза, — сказал мне медбрат.
— Не извиняйся, миленький, это не твоя вина, — ответила я ему, а про себя подумала, что вина-то моя и ничья больше.
ФРЕДДИ
На восходе я вылетела в Ла-Пас с пилотом, проводившим перепись китов. Самолет оказался крохотной двухмоторной развалюхой, которая скорее походила на москита, чем на аэроплан. Одно крыло было залатано чем-то подозрительно похожим на фольгу. Хотя мне и самой периодически приходилось проводить переписи, я терпеть не могла летать на маленьких самолетах. Вместе с тем время на панику вышло: этот был самый быстрый способ выбраться из Нижней Калифорнии. Вообще, из всех неприятностей я выбираюсь так же быстро, как из неудачных отелей. В свое время я удрала в Калифорнию, чтобы оправиться от двойного краха — карьеры и помолвки; теперь же, на пути домой, мне стало казаться, что я убегала тогда от чего-то другого — от своего странного и несчастливого детства на Юге.
Подойдя к грязной взлетной полосе, я стала на цыпочки и обняла Сэма. Мы едва не столкнулись носами.
Мы едва не столкнулись носами. Он высунул язык и слизнул слезинку с моей щеки.
— Я буду скучать, — сказал он.
— Тогда поезжай со мной, — ответила я, хотя знала, что уговаривать бесполезно: он не бросит китов. Мысль, что он останется с Ниной, наполняла меня первобытным ужасом.
— Не могу. — Сэм пожал плечами.
— Даже на пару дней? — спросила я и про себя прибавила: «Даже если случилась беда?»
— Не могу.
— Да, знаю. — Я приподнялась и поцеловала его на прощание. — Береги себя.
— Постараюсь.
Я побежала к самолету и невольно задумалась, за кого из нас боюсь — за себя, за Сэма или, может быть, за обоих сразу? Мою сестру только что сбил поезд, а у меня не было ни единого дурного предчувствия. И видимо, у Элинор тоже. Неужели семейное проклятие снова начинает действовать? Минерва всегда уверяла, что наш род проклят…
Забравшись в самолет, я глянула на пилота, пытаясь оценить его стаж. Он зажал в зубах малюсенький фонарик и светил им на панель управления. Бормоча экспрессивные испанские ругательства, он все жал на какие-то кнопки и переключатели. А когда вздохнул, меня обдало густым запахом перегара (по крайней мере, я надеялась, что это перегар, а не запах свежего виски). Прожекторы самолета вспыхнули и озарили двух койотов, притаившихся за кустом. В их глазах полыхнули красные огоньки, а затем они развернулись и ускакали в пустыню. Перед нами лежала мощеная взлетная полоса, со всех сторон окруженная вязкой грязью. Пропеллеры фыркнули и начали вращаться.
— Готовы? — спросил пилот, и я кивнула.
На нем была белая рубашка с короткими рукавами и черная с золотом безрукавка. По виду он скорее напоминал метрдотеля: «Подождите, сеньорита, сейчас подойдет ваш официант. Что пожелаете: «Маргариту», сангрию, текилу или наш фирменный напиток — «Крушение в пустыне»?» Нет, все было бы ничего, не боли у меня так голова. Прямо перед пилотом мигал огонек, а на табло бешено вращалась какая-то стрелка. Пропеллеры снова фыркнули и завертелись, как бобины на старом «Зингере». Я представила, как пилот выжимает педаль, запуская стрелку все быстрее и быстрее. Когда самолет тронулся с места, я невольно откинулась назад. Машина поскакала по полосе на своих видавших виды колесах, постепенно набирая скорость, причем каждый камешек или выбоина отзывались неприятным дребезжанием во всем корпусе. Пилот чертыхался то по-английски, то по-испански и дергал переключатели. В конце грязной полосы гремящий и подрагивающий самолет оторвался-таки от земли, прибив к ней слои креозота.
Едва мы поднялись в воздух, как пилот перестал ругаться. Лицо его стало серьезным, и он принялся за какие-то хитрые маневры с инструментами. Я прижалась к своему окну, и на толстом стекле образовалось влажное пятнышко. Глянув вниз, я увидела Сэма, взятый напрокат джип и бескрайние просторы пустыни. Небо затянулось лиловыми тучами, а гряды дюн приобрели оттенок сырого цемента. Я с ужасом подумала, что солнце вот-вот взойдет и для Сэма наступит долгий и одинокий мексиканский день. Самолет накренился, и я увидела голубую гладь лагуны Маньюала, незаметно переходившей в Тихий океан. Затем самолет качнуло в другую сторону, к востоку, в сторону соляных равнин. Пока мы петляли над пустыней, из-за облаков стали пробиваться первые лучи. Где-то к северу от нас Америка уже просыпалась и приступала к утреннему кофе и к чтению воскресных газет. В самых разных временных зонах люди уплетали круассаны и печенье, а кое-кто готовился нежиться в постели до полудня, в то время как я летела навстречу полному хаосу. У меня было мрачное чувство, что я уже никогда не увижу этих мест, что я навеки теряю Сэма, полуостров Нижная Калифорния и китов и что для семейства ясновидящих я просто позор.
За всю жизнь ни разу не почувствовала приближения беды.
— Может, пропустим по стаканчику в Ла-Пасе? — Пилот с трудом перекрикивал рев мотора и, щурясь, поглядывал на меня.
— Что-что? — откликнулась я, притворяясь, что не расслышала.
Нет, с этим человеком я ничего не хотела «пропускать», мне бы добраться живой до Ла-Паса. Я задумалась, как бы ответить, чтобы он не обиделся. Если я соглашусь, он, вероятно, неправильно поймет и решит, что понравился мне. А после наверняка не обратит внимания на индикатор горючего или на какой-нибудь сигнальный огонек. С другой стороны, если я откажу ему, он расстроится и погубит нас обоих с горя. Мне представлялось, как он в любом случае забывает про кнопки и индикаторы, самолет пролетает мимо аэродрома и тонет где-то на границе моря Кортеса и Тихого океана.
— Наверное, не стоит, — прокричала я, старясь выглядеть как можно невиннее.
— Нет? — Он приподнял брови. — А по мне, вам отнюдь не повредит. Вы ведь такая бледная, сеньорита.
— Неудивительно. Моя сестра сейчас при смерти, — закричала я и через пару секунд прибавила: — Ее сбило поездом.
— Tren? — Он захлопал глазами и наскоро перекрестился.
— Возможно, я спешу на ее похороны, — пробормотала я.
Тут он энергично затряс головой, словно требуя, чтоб я замолчала. Хотя мы летели на юг, я думала о краях, остававшихся за спиной, о Калифорнии. На севере, у самого устья реки Колорадо, начинался разлом Сан-Андреас, дно которого лежало ниже уровня моря Кортеса. Изломанные очертания этого разлома знакомы любому обитателю западного побережья. Залив Томалес, ставший мне таким родным, возник, вероятно, в результате землетрясения. Элинор называет Калифорнию родиной катастроф, но я-то считаю, что это Теннесси — «страна несчастий». На мою долю там выпало немало бед.
На западном берегу мне как-то легче. Наш Дьюи — провинциальный, но вовсе не глухой городок. В некотором смысле он напоминает мой родной город в Теннесси, только тут океан, а там — старомодные суеверия. Мое любимое место в Дьюи — белоснежный продовольственный магазин «Ханидью», что в одном здании с автозаправкой. На скамеечке перед ним вечно дремлет унылый блохастый пес. В «Ханидью» можно найти такие божественные лакомства, как паштет из куриной печени, каперсы, уксус на малине и тимьяне и свежий ржаной хлеб.
А в Таллуле не сыскать даже фигурного печенья, если, конечно, там не произошло каких-то радикальных перемен. Я всегда говорила, что жизнь в тамошней глуши подготовила меня к Нижней Калифорнии и атмосфере третьего мира. Каждый год, когда мы приезжаем в Мексику, Сэм ставит нашу лодку в док для промысловых судов. На каждом шагу тут мешают ограничения правительства, и к тому же на лодке крайне трудно проплыть в лагуну, так как вход туда блокирует огромная песчаная насыпь. Все вылазки должны быть четко приурочены к ветрам и приливам. Сэм — один из немногих ученых, которых пускают в этот док, и то благодаря его таланту механика. Однажды он починил мотор рыболовного катера при помощи скрепки для бумаг, чем снискал глубокое уважение его хозяина; в другой раз нашел сломанный шарикоподшипник в распределителе зажигания. Он настрогал щепок перочинным ножиком и с помощью лески как-то прикрепил их к подшипнику, чтобы тот передавал давление во все стороны.
Я попыталась жить на лодке, но мне тут же стало не хватать вещей, о которых обычно я и не вспоминаю, например водопровода и романов восемнадцатого века. В доке воняло креветками и бензином. На огромном крюке возле помпы фирмы «Пемекс» висели вниз головами туши песчаных акул, а их алые кишки поблескивали на полу. Как-то раз, побежав за Сэмом через док, я поскользнулась на их крови, упала и заработала кучу синяков.
В тот же вечер Сэм подыскал нам убогую комнатушку в мотеле на Маларримо-Бич. По ее кафельному полу скользили водяные клопы, а стены были выкрашены высохшей зеленой краской, ошметки которой осыпались на нас всю ночь. Проснулась я вся в зеленых хлопьях; особенно много их прилипло к волосам, подмышкам и подколенным ямкам. Матрас, на котором мы спали, скрипел всякий раз, как я поворачивалась. Утром на нашем колченогом столике красовались дымящаяся тарелка, чайник, коробка чая и пакетик фисташек — подарок от заботливой администрации. В квадратной стеклянной пепельнице кто-то забыл розовые скорлупки.
К несчастью, наш матрас оказался настоящим рассадником вшей. Проснувшись, мы стали исступленно чесаться обо все подряд: в ход шли зубочистки, скорлупки от фисташек и даже бугристые зеленые стены. Сэм порылся в рюкзаке и выудил оттуда бутылку лекарственного лосьона «Квелл». Мы принялись натираться этой жемчужной жидкостью, а Сэм убеждал меня, что могло бы быть и похуже. Живи мы в прошлом веке, до изобретения «Квелла», исчесали бы себя до полусмерти. А будь у нас другая специальность, скажем орнитология, нас бы либо пожрали каннибалы, либо скосила тропическая лихорадка, что свирепствует в Новой Гвинее — излюбленном месте гнездовья больших и малых райских птиц. Педикулез, уверял он, это всего лишь милое приключение.
Тут самолет попал в воздушную яму и нырнул на несколько футов вниз. Я взвизгнула, а пилот покосился на меня, приподняв мохнатые брови.
— Я не боюсь, — крикнула я, но при этом так ухватилась за рваную виниловую обивку сиденья, что он рассмеялся.
Теперь мы летели над пустыней, и даже в сумеречном освещении самолет отбрасывал тень на пересохшие речные русла, поросшие болотной травой и усеянные валунами. Если мы упадем и не разобьемся насмерть (что маловероятно), нам будет даже негде укрыться. Я представила себе самолет, весь искореженный и дымящийся, и пилота, бегающего вокруг него кругами, как койот. Прикрыв глаза, я стала думать об отце Сэма, мистере Эспае, о том, как он считает овец; как Дейзи, его австралийская овчарка, носится вокруг стада широкими кругами и кусает овец за ноги. Затем я подумала об Элинор, которая уже, наверное, готовится к самому худшему и собирает для похорон серебряные сережки Джо-Нелл, ее черное платье и белые кружевные перчатки. И наконец, промелькнула мысль о Сэме, который мчится в отель «Мирабель», где поджидает Нина с бутылкой текилы в руках и развратных бикини на бедрах.
Самолет угодил еще в одну воздушную яму, и глаза мои невольно открылись. Я так сильно вцепилась в сиденье, что продырявила ногтями старенький винил. Трудно сказать, за что я больше ненавидела этот самолет: за хлипкость или за то, что он нес меня в постылое место. Уехав из Теннесси, я постоянно обещала себе никогда не возвращаться туда. Когда сестры и Минерва зазывали меня на Рождество, я отговаривалась работой, уверяя их, что обязана каждую зиму ехать в Нижнюю Калифорнию из-за китов. Отчасти так оно и есть. Но все самое темное и уродливое в моей душе радовалось такому предлогу — экзотичному и загадочному с их точки зрения. Себя же я уверяла, что сотни, а то и тысячи людей уезжают от своих близких и даже не вспоминают о них.
Мне очень хотелось обвинить в своих горестях пилота, но он был ни при чем. В моей разлуке с Сэмом и китами виноват не он, а треклятая авария, в которую угодила моя сестра. Подобные неожиданные повороты происходили в моей жизни не раз; можно сказать, они-то ее и направляли; ведь с Сэмом я встретилась после того, как выкрала злополучные органы из лаборатории.
В тот день, когда меня вышвырнули из медицинского колледжа, я села на поезд и к ужину вернулась в Таллулу. Несмотря на постигший меня позор, родные были в полном восторге от моего приезда. Минерва раскрыла холодильник и извлекла оттуда куриный бульон и шоколадные пирожные с орехами. Джо-Нелл вытащила серебряные приборы с вензелями в виде буквы «П», которые мама унаследовала от своего второго мужа.
Джо-Нелл вытащила серебряные приборы с вензелями в виде буквы «П», которые мама унаследовала от своего второго мужа. Элинор приготовила мне мою старую кушетку, застелив ее накрахмаленными кружевными простынями, пахшими лимоном (бабушка перекладывала их саше).
— Не волнуйся. Будешь работать в закусочной, вместе с нами, — утешала Джо-Нелл.
— Я научу тебя печь булочки с повидлом, — вторила ей Элинор.
— Говорят, в телефонной компании набирают работниц, — старалась ободрить меня Минерва.
Я даже не знала, как сказать им о своем отъезде. Начать с того, что я и понятия не имела, куда поеду, а просто точно решила, что здесь мне делать нечего. Я отучилась два года в медицинском колледже, и у меня была степень по химии. Но, поскольку в свое время я твердо решила, что буду врачом, сертификат преподавателя химии я получать не стала. Так что на тот момент, выражаясь языком малышки Джо-Нелл, мои дипломы годились лишь на оклейку сортиров. В тот же вечер я достала атлас мира и открыла карту Соединенных Штатов. Зажмурившись, я ткнула в нее наугад и увидела, что жребий пал на побережье Мендосино, которое обнаружилось в нескольких дюймах над Сан-Франциско. И я решила, что это судьба. Дикий Запад — праотец всех наших легенд, великая американская мечта.
На следующее утро Минерва и сестры толпились на крыльце и наблюдали, как я складываю пожитки в старенький отцовский «фольксваген-валиант».
— Минерва, не отпускай ее! — ревела Джо-Нелл, обливаясь слезами.
— Она и не уедет, — цедила Элинор, глядя, как я запихиваю в багажник охапку линялых джинсов, — не тут-то было. Она не решится ехать в одиночку через всю страну.
— А вот и решусь. — Я нагнулась за новой порцией джинсов.
— Хватит набивать эту чертову тачку! Посмотри на меня! — кричала Джо-Нелл.
— Ну что? — повернулась я к ней.
— Совсем еще дитятко, — промолвила Минерва. При этом она обнимала Джо-Нелл, но я-то знала, что слова адресованы мне.
— На дорогах очень опасно, — стращала Элинор. — Что, если машина сломается? Она и так-то на ладан дышит.
— Я не могу здесь остаться.
— Но почему?
Я не ответила, а только нагнулась за кучей поношенных блузок.
— Трусиха! — завопила Элинор.
— Вовсе нет! Ей просто грустно, — огрызнулась Джо-Нелл. Она пулей слетела с крыльца и бросилась мне на шею. — Ну останься! Ну, пожалуйста, останься!
Я высвободилась из ее объятий и мягко отстранилась.
— Да не реви. — Я провела пальцем по ее щеке. — Гляди, уже тушь потекла!
Она рассмеялась и отерла лицо.
— Но я серьезно. Останься!
— Послушай, ну чего вы разгалделись? — Я пожала плечами. — Ведь я вернусь.
— Правда?
— Еще бы.
— Поклянись.
— Клянусь.
Выполнять эту клятву я, естественно, не собиралась. Я планировала ехать и ехать, пока не доберусь до Мендосино или пока не сломается моя машина. И очень скоро я убедилась, насколько Запад не похож на Юг. У тамошних жителей, видимо, даже вкусовые рецепторы устроены иначе. Мне все казалось, что я попала в какую-то другую страну. В обычные сэндвичи с беконом, салатом и томатами там добавляют авокадо, а уху варят густой и невероятно вязкой. В одном из попавшихся мне по пути заведений предлагали салат из лапши и грибов шитаки под соусом васаби с лимоном. В другом кафе на вывеске значилось: «Сосиски под соусом чили — шикарнее вас не кормили!» В «Фог-Сити дайнер» я заказала омлет с халапеньо, авокадо, беконом, сыром «Монтеррей Джек» и сметаной.
Мне сразу вспомнилась наша закусочная, где подают лишь булочки с глазурью и повидлом. Иногда, правда, в порыве кулинарного вдохновения сестры добавляют в глазурь шоколада и карамели. В 1979-м в нашем городском кафе появились омлеты, плоские, как камбала, а из добавок в них был лишь сыр чеддер фирмы «Крафт». Если кто-то в Таллуле и догадывался, что это ненастоящие омлеты, то помалкивал об этом. По-видимому, все радовались хотя бы экзотическому названию блюда. И в этом, и во многих других отношениях мне казалось, что я убежала от местечковой ограниченности и собственных глупых ошибок. Если бы побережье Мендосино оказалось похожим на Таллулу, я бы пустилась дальше на север, хоть на Аляску, хоть за Полярный круг.
Переехав мост Золотые Ворота, я свернула на серпантинную дорогу через гору Тамалпайс, с которой долго любовалась заливом. По радио все время крутили «Дикий мир» Кэта Стивенса. День был нежаркий и туманный. Время от времени сквозь просветы в тумане я видела океан. Казалось, что у горизонта вода перегибается и течет на небосвод, отражаясь сама в себе. Ничего подобного я в жизни не видала. Я молила судьбу, чтоб машина сломалась здесь, в округе Марин, но она продолжала упрямо пыхтеть. Пару раз я чуть не разбилась, подъезжая поближе к обочине, чтобы как следует рассмотреть залив и зеленые холмы, сбегающие к самой воде. Сан-Франциско отсюда казался грудой старых обувных коробок с торчащими посреди них небоскребами. Я даже вылезла из «валианта» и попинала его шины, мечтая, чтоб хоть одна из них спустила. Просто так остановиться или вернуться в Сан-Франциско мне даже в голову не приходило. Но машина, упрямо жужжа, преодолевала крутые повороты и юрко проскакивала мимо груженых лесовозов. Я была готова поклясться, что мы дотянем до Спокана, а то и до самой Аляски.
Коробка передач сломалась лишь у национального побережья Пойнт-Рейс. Когда она перестала дымить, я вышла из машины и очутилась в облаке тумана. Сперва я думала, что это просто остатки дыма, но оказалось, что туман пахнет морем. Из-за белой пелены доносилось щебетание птиц и сигналы буйков. Я вскарабкалась на крышу «валианта». С обеих сторон дорога резко исчезала в густой дымке. Я не знала, где нахожусь, но надеялась, что не рядом с каким-нибудь маленьким городком. Ведь в этом случае пришлось бы починить машину и ехать дальше. Городишки вроде Таллулы есть повсюду, но я не собиралась застрять в таком болоте еще раз. Мне просто опротивело жить в крохотном мирке, где твои самые сокровенные тайны становятся известны окружающим чуть ли не раньше, чем тебе самой.
Рядом со мной остановился черный джип, и какой-то парень с рыжеватой гривой, собранной в хвостик, опустил стекло. На бампере джипа красовалась наклейка: «Люблю китов». Я соскользнула с крыши и подошла к машине.
— Любуетесь видом, или вас куда-то подвозят? — спросил он, глянув на мою машину.
— У меня сломалась машина.
— Может, подкинуть куда-нибудь? — Он перегнулся через пассажирское место и открыл мне дверцу.
Я молча уставилась на него, покусывая губу. Хотя Элинор предупреждала меня о калифорнийских психопатах, этот парень казался вполне вменяемым, но, с другой стороны, как знать.
— А тут есть какой-нибудь город? — спросила я, стыдясь своего южного акцента.
— Ага, мы в трех милях от Дьюи. И кстати, я там живу.
Туман рассеивался. Я оглянулась вокруг и увидела зеленую долину, поросшую калифорнийскими лаврами и черничником, среди которого паслись коровы. Высокий утес вдали был все еще окутан облаками. Проследив за моим взглядом, парень пояснил:
— Это гора Виттенберг.
— С горой-то понятно, а вот ты кто такой? — Я прикинулась грубиянкой, чтоб отпугнуть его, если он все-таки псих.
— О, простите. Мое имя — Сэм Эспай.
— О, простите. Мое имя — Сэм Эспай. — Он перегнулся через сиденье и протянул мне руку.
— Фредди Мак-Брум. — Мы обменялись рукопожатием. Я села в машину, стараясь не свалить на пол его блокноты и бинокли. Подняв одну из книг, я прочла: «Практическое руководство по океанологии». Так, на скалистом побережье, под которым бурлит кишащий акулами океан и таинственно дремлет разлом Сан-Андреас, я встретила свою судьбу.
Долгое время после переезда в Калифорнию мне было стыдно, словно я бросила Минерву и сестер на произвол судьбы. Я представляла их за домашней работой: как они заполняют квитанции, откладывают куриные косточки для бульона и задыхаются в этом тесном мирке, будто пирожки в полиэтилене. Меня мучало раскаяние, словно мой долг был пластаться вместе с ними в закусочной, а я вместо этого фотографировала китов, плавала на байдарках, ловила форель в Рашен-Ривер, летала в Японию протестовать против истребления китов и ездила в круиз на Галапагосские острова, где на кашалотов не охотятся со времен Чарльза Дарвина. Я не желала жить в Теннесси, но меня очень пугало, что Минерва может упасть на нашей узкой и кривой лестнице, а никто даже не услышит ее криков. Меня тревожило, что Элинор и Джо-Нелл и не думают страховать закусочную и что, сгори она вдруг, останутся без гроша.
Мне все представлялось, как поезд врезается в машину Джо-Нелл. Отделаться одной лишь сломанной ногой было бы просто невероятно. Быть может, доктора еще чего-то не обнаружили: смещений позвонков, переломов черепа и таза, повреждений аорты. Элинор ни о чем таком не упомянула, но, и не будучи патологоанатомом, я хорошо представляла, во что поезд может превратить человеческое тело. В детстве мы с Джо-Нелл клали монетки на рельсы и, спрятавшись в кустах, ждали, пока поезд их расплющит. Меня не покидало чувство, что я еду на похороны, но при этом мне казалось, что это я умерла, а не она. Я не слышала биения собственного сердца; оно казалось холодным, неподвижным и усохшим до размера перечного зерна.
МИНЕРВА ПРЭЙ
Мы с Элинор, почитай, поселились в городской больнице. Притащили туда кофейник, пакетики сахарина и пластмассовые ложки. Там, конечно, были автоматы, но кофе в них оказался горьким и густым, а стоил целое состояние. Вот мы и навезли всего домашнего, включая одеяла и пуховые подушки. Мы сидели в зале ожидания и, как и велит его название, ожидали — ждали, пока наша девочка проснется и пошлет всех врачей к чертовой матери. Моя внученька еще насмешит нас всех до упаду, рассказывая об этой аварии! Она с малолетства острячка, и без нее мне не мил весь белый свет. «Господи, — хотелось мне крикнуть, — неужто Тебе все еще мало? Неужто Ты отнимешь и ее?!»
Да куда я без Джо-Нелл?! Она отвезла меня в Нашвилл, когда созрела моя катаракта, чтобы доктор удалил ее лазером. А год назад, в августе, когда моя сестра упала и сломала тазовую кость, Джо-Нелл свозила меня в Техас. Как я тогда поняла, Хэтти встала на заре и отправилась кормить цыплят. Накануне прошел сильный ливень, что не часто бывает к западу от девяносто восьмого меридиана. И вот Хэтти колготилась с цыплятками, хлюпая по грязи в резиновых шлепках, а затем вдруг поскользнулась и рухнула на спину, прямо посреди куриц. Она сразу поняла, что сломала какую-то кость: хруст был такой, словно кость эта раскололась надвое.
Так Хэтти и лежала в грязи, среди рассыпанного зерна, глядя в безоблачное синее небо. Старая ветряная мельница, которую мой Амос выстроил в тридцать седьмом году за четыреста двадцать долларов, мерно вертела своими крыльями. Куры тихонько квохтали и клевали зерно вокруг Хэттиных белых носков и резиновых шлепанцев. Кролик, что носился, прижав уши, по двору, едва не проскакал прямо по ней, а затем унесся во влажную от дождя рощицу. Но Хэтти ничто не тревожило, покуда не появился канюк, решивший взобраться на старое мескитовое дерево.
Она хотела прогнать его, но двигаться было больно. «Пшел!» — велела она канюку, но тот не послушался, а только уставился на нее, словно говоря: «Наверное, не стоит и возиться с тобой, тощая старушенция. Мяса в тебе все равно не больше, чем в курином крылышке».
Около полудня ее обнаружил мельник и позвонил в службу спасения. Семьи у Хэтти не было (она так и осталась бездетной), зато было много приятельниц среди прихожанок местной церкви. Одна из них, ходившая с Хэтти в воскресную школу, набрала мой номер и поднесла телефонную трубку ко рту Хэтти.
— Я упала и сломала тазовую кость, — пролепетала Хэтти своим тоненьким надтреснутым голоском, — она раскололась пополам.
— Я срочно выезжаю к тебе, — пообещала я.
— Стара ты уже для поездок, — возразила она.
— Мне всего лишь семьдесят девять.
— Вздор, уже все восемьдесят.
— Я выезжаю, — отрезала я, — и скоро буду у тебя.
— Но это же сущий пустяк, — не унималась она. — Доктор Дэнверс говорит, что через шесть недель я буду как новенькая.
— Рада слышать, — кивнула я, — но пока эти шесть недель не пройдут, я не отойду от тебя ни на шаг.
— Вздор! — снова крикнула она. А затем гораздо тише прибавила: — Знаешь, Минерва, я так рада, что ты наконец-то вернешься домой.
Я рассказала Джо-Нелл, что стряслось, и она согласилась:
— Нет проблем, я свожу тебя. Когда выезжаем?
— Сегодня, — сказала я. — Вот только как быть с закусочной? Думаешь, Элинор справится?
— «Булочки Фреда» — это всего лишь ничтожная забегаловка, Минерва. Заказы на праздничные торты можно пока не брать, а те четыре вида булочек, что мы продаем, Элинор нашлепает одной левой.
Я все же попросила Уинни Дэниелс заходить к Элинор — просто чтоб составить ей компанию. И вот мы с Джо-Нелл сели в ее желтый автомобильчик и поехали. Мы добрались до Маунт-Олив за два дня и одну ночь и сразу же помчались в больницу. Хэтти полусидела в постели, а ее седые волосенки напоминали пушинки одуванчика.
— Мэм, — пропищала она, вопросительно глядя на меня, — что вам принести: кукурузных лепешек или печенья?
Сидевшая на стуле пожилая дама подалась вперед. На ней было туго накрахмаленное хлопковое платье в желтый цветочек.
— Она не в себе, — пояснила нам дама.
— Вы ее медсестра? — спросила Джо-Нелл.
— Нет, солнышко. Я — Мира Хоффстедер, мы с Хэтти из одного прихода. Все наши дамы из воскресной школы по очереди ухаживают за ней, как когда-то, Господь тому свидетель, она сама ухаживала за каждой из нас. А вы, вероятно, ее сестра?
— Я Минерва Прэй.
— О, она постоянно говорит о вас.
— А это моя внучка, Джо-Нелл.
— Очень приятно, — отозвалась Мира, — хотя мы и знакомимся при таких печальных обстоятельствах.
— И давно это с ней? — спросила я.
— Со вчерашнего вечера, — сказала Мира.
— А врач ее осмотрел? — Я погладила запястье Хэтти. — У нее ведь жар.
— О да, моя милая, осмотрел, — закивала Мира. — Доктор Дэнверс сказал, что не знает, в чем дело. Вчера все было в порядке, а теперь этот жар ничем не снять.
— Хэтти! — Я взяла ее за руку. Ее косточки казались куда тоньше, чем прежде, почти как у ребенка. Кожа была сухой и горячей, и я вспомнила, как у моих деток был жар.
— Бык вырвался из загона! — завопила она, глядя на меня с ужасом. — Скорее спасайте Джози!
— Это просто жар, — сказал Мира, взглянув на Хэтти.
— Она сама не знает, что говорит. Только вчера она сидела и записывала рецепты для будущего праздника. Сколько себя помню, она каждый год запекает бобы для праздничного ужина. Она так волновалась, что из-за перелома не сможет готовить, и потому дала мне рецепт бобов и заставила пообещать, что я сама их запеку.
— Хэтти, — позвала я, — это я, Минерва!
Похолодевшими руками я сжала ее горящую ладонь. Она открыла один глаз, посмотрела на Джо-Нелл и проворчала:
— Смотри, Джози, я знаю, что ты наделала, но, так и быть, не скажу твоей маме. Ведь это ты не закрыла банку с вареньем! Гляди, туда залезли муравьи!
— Бедняжка, — прошептала Мира и подошла к ее постели.
— Варенье испорчено, — всхлипнула Хэтти, и глаза ее увлажнились. — Уж раз муравьи залезли, назад их больше не вытащишь. Придется выбросить всю банку и варить все заново. Джози! Ты понимаешь, что тебе говорят?
— Простите меня, — отозвалась Джо-Нелл, стараясь порадовать Хэтти. — Я больше так не буду.
— Вот и умница! — согласилась Хэтти. — Не бойся, мы откроем новую банку, никто и не заметит.
Мы поехали на ранчо Прэев, к дому, сложенному из грубо вытесанных глыб известняка. Его высокое деревянное крыльцо было сплошь увито виноградом, спелые гроздья которого свисали до самых перил. В глубине двора я отыскала перевернутую банку из-под кофе «Максвелл хаус» и рассыпанное повсюду зерно. Рядом, в грязи, виднелось место, где Хэтти упала, и я невольно прослезилась. Все это время она жила одна, а могла бы быть рядом со мной. У меня было чувство, словно меня обокрали; интересно, приходили ли и Хэтти подобные мысли?
— Я проголодалась, — сказала Джо-Нелл.
— Что ж, пойдем-ка в дом. — Я открыла стеклянную дверь. — Посмотрим, что тут можно наскрести.
На кухне я нашла горькие перцы, сыр, зеленый лук и маисовые лепешки. Джо-Нелл же отыскала банку домашней сальсы и горшочек бобов.
— Вот в этом ковшике разогрей оливкового масла, — велела я ей, — и подай мне бобы. Вся хитрость в том, чтобы время от времени хорошенько их разминать.
— А что ты готовишь? — Джо-Нелл заглянула в горшочек и сморщила нос.
— Начос, деточка, да такие, что пальчики оближешь. Начос и кесадиллас. — Я немного волновалась, сможет ли мой старый желудок все это переварить. Джо-Нелл посмотрела, как я мну бобы, а затем пошла бродить по прихожей. Я слышала, как она открывает узорчатые дверцы бюро и выдвигает обитые зеленым фетром ящички. На всех диванах, стульях и кроватях в доме валялись лоскутные одеяльца. Они были сшиты из крошечных частичек наших с Хэтти жизней: из детских платьиц, шерстяных рубашек наших мужей и застиранных ситцевых блузок. Оглядев одеяла, Джо-Нелл пошла рассматривать мексиканский шкаф-буфет. Взяв с одной из полок фотографию друзей Берла, она воскликнула:
— Какие симпатяги! Вообще все место такое клевое.
— Не знаю, милая, — ответила я, — но мужчины говорят, что клев здесь и правда неплохой.
— Да нет же, я говорю, что здесь здорово. — Она села за стол. — И даже пахнет не так, как в Теннесси.
— О, это просто сыр халапеньо, — ответила я, зачерпывая ложкой сальсу.
Она лишь усмехнулась. За ее спиной виднелись толстые оконные стекла, голубовато-зеленого оттенка, холодного, как ключевая вода.
— Тебе здесь нравилось, Минерва?
— Ох, детка, да где ж теперь упомнить. Давно все это было, давным-давно.
Я вздохнула и подумала, что воспоминания и правда кажутся далекими, словно чья-то чужая жизнь или чей-то чужой сон.
— А мне здесь нравится, — заявила она. — И как это ты уехала из Техаса, Минерва?
— Так уж вышло.
— А мне здесь нравится, — заявила она. — И как это ты уехала из Техаса, Минерва?
— Так уж вышло.
— Я б, наверное, не смогла.
— Ну, порой приходится делать то, что нужно. — И я поставила перед ней тарелку с начос. Мне очень не хотелось обо все этом говорить.
— Кушай, детка, — сказала я ей, — а то ведь вконец отощаешь.
Как это я уехала из Техаса? Да как тут не уехать: мое сердце было разбито; я надеялась, что хоть в других краях мои раны заживут и мне вновь улыбнется удача. Люди говорили, что не стоит принимать важных решений, покуда не оправишься от беды, да только я их не слушала. Поступив в медицинскую школу, Фредди мне как-то объяснила: «На стресс организм реагирует либо борьбой, либо бегством».
И я с ней согласилась. В то далекое время я свое отборолась сполна, так что потом уже могла только убегать. Но судьба меня долго ломала, ведь уродилась я сильной да задиристой. Как я уже рассказывала, мы с Хэтти в один день венчались с братьями Прэй. Мой Амос, как старший, поселился на ранчо, а Хэтти с Берлом жили в городе, в квартире над почтовым отделением. Мои первые роды пришлись на десятое января тридцать четвертого года. Доктор сказал, что ребенок застрял у меня в родовых путях. Я тогда приподнялась на кушетке и пристально на него посмотрела.
— Что-что вы сказали? — переспросила я, представляя себе все виденные мною пути: и узкоколейные, и широкие, для крупных составов. Но тут меня скрутила такая боль в пояснице, что я не расслышала ответа доктора Дэнверса. Я корчилась на кушетке, практически не слыша голоса сновавшей вокруг меня Хэтти. Мне казалось, что доктор все перепутал: мое тело — не какие-нибудь пути, а потому моему первенцу, этому вредному паровозику, который каким-то чудом там застрял, уже нипочем не выбраться наружу, если только мне не вспорют живот.
Когда Амос-младший все же родился, я сказала себе: «Одного малыша вполне достаточно. Хватит с меня этих застрявших паровозиков! Мои бедные пути уже и так намучились». Но потом, летом тридцать седьмого года, у меня снова пропали женские дела, и я подумала: «Что ж, Господу виднее, как надо. Без Его соизволения не упадет и волосок с моей головы, и, стало быть, Ему так угодно. А значит, этого ребенка я буду любить не меньше Амоса-младшего». Старший же Амос сказал, что не прочь наплодить хоть целую ораву. «Хоть сколько! — сказал он мне. — Наводним ими весь дом, сверху донизу!»
Через неделю после этого мы отправились на барбекю на ранчо Раунд-Лик. Сидя в теньке с Люси Джейн ван Хузер и Мартой Тильман, я уплетала персиковое мороженое. И вдруг они стали ко мне приглядываться, а Люси Джейн мне и говорит:
— Золотце, что-то тебя обсыпало.
— А я и не чувствую. — Я ощупала лицо и заметила, что оно все в мелких прыщиках.
— Быть может, аллергия на персики? — предположила она.
— Раньше вроде не было, — ответила я.
— Тогда, видать, ты перегрелась на солнце.
— Нет, это корь, — сказала Марта. — Обожди три дня, и если не пройдет, то это точно она.
— Брось, это от солнца, — отмахнулась я, — просто перегрелась, и все.
На сей раз роды были легкими, и я произвела на свет девочку, на крохотной головке которой вились светло-каштановые волосики. Я назвала ее Жозефиной, вычитав это имя в модном в Сан-Антонио журнале. Как оказалось, девочка родилась совершенно глухой. Малышка была красавицей, но не слышала ни слова! И ведь такая умненькая (я-то знала, какая Джози умница), да только какой же ум поможет, если не слышишь ни маминого голоса, ни шипения змеи, ни грома? Как тут уберечься от опасностей, подстерегающих на каждом шагу? Я не спускала с нее глаз, потому что ее так и тянуло к Лягушачьему ручью, впадающему в реку Гуадалупе.
Порой она залезала в курятник и засыпала там, а я звала ее до хрипоты, да все без толку. Амос сказал, что надо было назвать ее Бредди, потому что она все время куда-то забредает, но разве же такое предусмотришь?
Бегая за Амосом-младшим и Джози, я безумно выматывалась и постепенно стала сдавать. Три года спустя, двадцать седьмого января сорок первого года, уже окончательно вымотанная, я родила третьего ребеночка. Я была тогда худющей, и девочка уродилась совсем крошкой: уместилась бы в коробке из-под туфель. Я назвала ее Руфи, в честь своей мамы. К нашей всеобщей радости, слух у малышки был удивительно острый.
В тяжкие годы депрессии мы перебивались как могли. Берл и Хэтти поселились у нас, на ранчо. Бог не послал им детей, но мы надеялись, что все еще впереди. Государство обучило Берла, как правильно обрезать фруктовые деревья, а Хэтти помогала мне по дому. Времена тогда были тяжелые; одно время мы думали, что Амоса призовут на строительство к озеру Браунвуд, но его не призвали. Мы опаливали над костром опунции, чтобы сжечь колючки, а потом кормили ими скот. Я готовила подливку из муки, молока и смолы деревьев, и все уплетали ее с овсяными лепешками. Все двадцать коров мы доили вручную при свете керосиновой лампы, которую специально выписали из универмага. В переполненной паром кухне мы до седьмого пота чистили и варили персики. Казалось, деревянная печь вот-вот вспыхнет огнем. Хэтти и я то и дело выбегали во двор и сидели под тополями, обмахиваясь фартуками.
Сказать по правде, люди, заселившие когда-то холмистый край, были вовсе не плантаторами, удравшими с Юга после Гражданской войны. Нет, это были мелкие, бедные фермеры. Терять им было нечего, так что они просто вешали на заборы табличку: «УВТ: ушли в Техас». Прэй пришли из Луизианы и Теннесси, а мои предки, Мюрреи, переселились из Алабамы. Так что люди мы были крепкие, неизнеженные. О родовых проклятиях я в то время и не думала; не до них тогда было. А между тем в те дни удача явно отвернулась от Техаса, да и вообще от всей Америки. Но я, как и все остальные, целиком полагалась на Иисуса и на Франклина Делано Рузвельта.
Затем пришла весна, воздух стал жарким и пыльным, и у моих деток началась лихорадка. Мы с Хэтти по очереди их укачивали. У Амоса-младшего так разболелось горло, что он отказывался пить молоко, а Джози просто выплевывала свою порцию на пол. И только младшенькая, Руфи, спала крепким сном младенца. Иногда она с криком просыпалась, вся красная и с распухшим ротиком, но, похоже, грудное молочко было ей самым лучшим лекарством. Доктор говорил, что у них скарлатина, что эта болезнь развивается циклами и что остается только ждать.
На одиннадцатый день Джози уже шла на поправку и вовсю топотала по комнате, лишь изредка покашливая. Спал жар и у Руфи. А вот Амос-младший был все такой же красный и горячий и от слабости не мог даже встать с постели. Он попросил у меня ложечку льда, но у нас его, конечно же, не было. Я тогда отдала бы собственную душу за кусочек льда для моего мальчика. В тот день Амос пас скот, и поэтому Берл сам поймал машину и помчался в город на холодильный завод. «Я привезу ему целую глыбину», — пообещал он. Но пока ездил, у малыша Амоса начались судороги. Он уже не мог разжать зубы и закатывал глазки. А потом вдруг замер. Когда Берл возвратился со льдом, было уже слишком поздно.
Хэтти убирала тельце моего малыша для похорон, а я лежала ничком на кровати и рыдала. «Этого мне не пережить, — думала я, — эту боль не заглушит уже ничто на свете». Я слышала, как входная дверь открывалась и снова захлопывалась, как люди приносили угощение для поминок. Иногда они заглядывали в темную спальню и говорили, что им жаль, страшно-страшно жаль. Что, если мне хоть что-то понадобится, они всегда готовы помочь.
Но мне хотелось прогнать их всех прочь. «Ничего мне не нужно, кроме моего маленького Амоса, верните мне его!» Но они были ни в чем не виноваты, и вскоре мне стало стыдно.
Но мне хотелось прогнать их всех прочь. «Ничего мне не нужно, кроме моего маленького Амоса, верните мне его!» Но они были ни в чем не виноваты, и вскоре мне стало стыдно. Многие из пришедших сами потеряли и детей, и внуков. В дни чьей-то чужой беды я просто говорила Хэтти: «Поймай цыпленка и зажарь его так-то и так-то», а потом возвращалась к обычным делам. Еду на их поминки мы приносили почти машинально и жили себе дальше, как ни в чем не бывало. Все мои близкие были тогда со мной, и чужое горе нас, в общем-то, не касалось.
Теперь же, когда горе пришло ко мне самой, я получила жестокий, но важный урок. Я долго собиралась с силами, но затем встала с кровати, заколола волосы и вышла к людям. В те времена гроб с телом ставили в жилых комнатах. Мертвые в жилом помещении, нелепость да и только! Дом был полон женщин, съехавшихся со всего Маунт-Олив и всего округа Брэбхем. Они нанесли столько угощения, что моя кухня походила на модный ресторан в Сан-Антонио. Кругом стоял шум от их разговоров, и мои мысли разбегались в разные стороны. И все же я была им рада. Они разливали чай, вытирали стол и разносили бесконечные подносы с курицей и лепешками, бобами и вишневым салатом, консервированными финиками и имбирными пряниками. Кто-то притащил фруктовый пирог, нарезал кусочками и выложил на блюдо из розового стекла. Мне казалось, что эти женщины поддерживают меня, помогают устоять на ногах, и я сказала себе: «Минерва Прэй, ты никогда не свыкнешься со смертью Амоса-младшего, но ты будешь жить дальше, чтобы помогать тем, кто рядом». Вероятно, именно так сердце начинает оживать.
Стеклянную дверь открывали и закрывали бессчетное количество раз. Никто и не заметил, как маленькая Джози выскользнула за порог. Она побежала по заросшему травкой двору и перешла по мелководью Лягушачий ручей. Затем перебралась через гряду белых валунов, волоча за собой подол своей ночнушки, и побежала к ракитнику, где иногда прятались куры. Мы поняли это, потому что шли потом по ее следу. Когда мы нашли ее, она стояла посреди пастбища мистера ван Хузера, неподалеку от вырвавшегося из-за ограды быка. Бык грелся на солнце и помахивал хвостом, сгоняя с боков облепивших его черных мух.
Встав на коленки, Джози собирала васильки. Амос хлопнул в ладоши и позвал ее по имени.
Но она и не двинулась.
Он хлопнул еще раз, и из кустов вспорхнула стайка куропаток. Амос и бык кинулись к Джози в один и тот же момент. Я не переставая кричала ее имя: «Джози! Джози! Джози!», но она, конечно, не слышала. От удара она взметнулась вверх, раскинув ручки, а ее ночнушка мелькнула в воздухе крошечной белой искоркой. Амос бросился поднимать ее, а бык ринулся на него. Я хотела побежать к ним, но орущие женщины вцепились в меня. Берл попытался подхватить меня, но я все равно рухнула на колени. Говорят, Господь не посылает тебе больше, чем ты можешь выдержать, но в тот момент Он явно что-то упустил. Когда Амос пролез под изгородь и поднял Джози, я наконец вырвалась и бросилась к нему. Из Джозиного носика и ушей бежали струйки крови, и сколько я ни утирала их подолом, они все лились и лились.
Амос прижал ухо к ее грудке. «Сердце бьется», — сказал он и провел рукою по лбу. Руку тут же залило кровью, и я поняла, что лоб у него рассечен. Шрам от этой раны остался потом на всю жизнь.
Мы отнесли ее в дом и положили на кровать. Соседи сновали туда-сюда, подавая нам то тряпку, то таз с водой, а кто-то помчался в город за доктором. Крошка Руфи орала от голода, но у меня вдруг пропало молоко. Какая-то женщина сделала ей соску из куска сахара, и Руфи ожесточенно сосала ее, иногда прерываясь и обиженно хныча. Но мое молоко так и не вернулось.
— Открой глазки, Джози, — твердила я, а Амос гладил меня по плечу. Уже до приезда доктора она перестала дышать, хотя ее сердечко все еще билось. Я услышала, как что-то мечется по комнате, словно маленькая птичка, попавшая в клетку.
«Видно, это ее душа, — подумала я, — которая никак не вырвется на волю». Пришлось отворить входную дверь и выпустить бедняжку на свободу.
Так у меня пропала вера. Она иссякла во мне, как иссякло молоко в моих грудях. Господь оказался завистником, отнимавшим моих деток, и поклоняться Ему я больше не желала: не заслужил Он этого. Я так и сказала священнику, прибавив, что Иисус — просто гнусный подонок.
— Не говори так, — зашипел на меня священник. — Если ты проклянешь Его, Он проклянет тебя в ответ.
— Он уже это сделал. — И я посмотрела в его светло-серые глаза, под голыми веками без ресниц. Я знала, что ему меня не понять: ведь у них с женой никогда не было детей.
Но тяжко было не мне одной. Как-то раз в банке «Либерти» Амос услышал, что на мельнице сорго в штате Теннесси требуются рабочие. «Там используют лошадей, — рассказал он, — и перерабатывают по сто двадцать пять галлонов в день». А затем спросил, смогу ли я покинуть Маунт-Олив. «Смогу, — подумала я. — Да, мне надо уехать. Не навсегда, разумеется, и лишь при условии, что Хэтти приглядит за могилами. И что я всегда смогу вернуться назад».
Таллула лежала на краю плоскогорья. Этот городок вырос среди скал и темных расщелин. В тот октябрь леса не раз горели, и в глубоких ущельях еще долго дымились кучи обгоревшей листвы. Печи приходилось топить всю ночь, но воздух все равно был промозглый и какой-то кислый. Иногда по субботам в городке играли скрипачи, и фермеры праздновали выходной, а цепные псы тоскливо глядели на них и, задрав морды, выли. В ноябре, когда фермеры резали хряков, те же самые псы рвали друг другу глотку за порцию свиной ноги.
Я начала понимать, что Юг не всюду одинаков. Он словно поднос с угощением: тут — сладкое желе и сахарные орешки, а там — терпкий морс и кислый пирог с брусникой. Когда в Маунт-Олив случались приезжие, селяне их спрашивали: «Откуда едете? Не зайдете ли в гости?» Когда же незнакомец появлялся в Таллуле, местные глядели на него с опаской и ворчали: «И надолго вы к нам? Обратно-то еще не собираетесь?» Женщинам Теннесси было далеко до техасских, хотя лучше им об этом не говорить. Все эти тихони держались заносчиво и неприветливо, а общались только с собственной родней. Очень быстро я поняла, что и здесь мне одиноко, просто немного по-другому. Порой мне снился Техас, снилось, что я бреду по лугу среди васильков и подсолнухов. Снился наш старый колодец, глубокий и темный, поросший плесенью по углам. Снились зеленеющие под жарким солнцем пастбища и недельные засухи. Снились ведра непроцеженного молока и Хэтти, льющая его сквозь натянутую марлю. Во сне мне чудился аромат яблочного сидра, и я просыпалась вся в поту.
В наш первый снегопад я поднесла малышку Руфи к окну и показала ей густые хлопья, что кружились, точно гусиный пух. Счастливая, что хоть эта крошка уцелела, я готова была вынести и здешний холод, и все прочие невзгоды. Да, я жила за тридевять земель от дома, но почти радовалась этому: надеялась, что хоть здесь-то Господь меня не отыщет.
На следующий день, когда мы с Джо-Нелл пришли в больницу, Хэтти лежала в забытьи и разговаривала с призраками братьев Прэй.
— Посиди-ка со мной, Берл, — говорила она стенке, похлопывая по своей простыне, — да и ты тоже, Амос.
Иногда она препиралась с мамой: «Но, ма, я тоже хочу двойное венчание!», а раз запела колыбельную для Руфи или, может быть, для Джози. Затем ее голосок пресекся, и вся она, с головы до ног, затряслась от озноба. Господь призвал ее к Себе вскоре после заката, и она ушла, так и не узнав, что я была рядом.
Из больницы мы с Джо-Нелл отправились в похоронное бюро Маунт-Олив. По пути проехали площадь перед зданием городского суда, где среди платанов и тутовых деревьев стояли деревянные скамейки.
По пути проехали площадь перед зданием городского суда, где среди платанов и тутовых деревьев стояли деревянные скамейки. На них сидели старики и, то и дело сплевывая, что-то строгали. Мы прокатили мимо незнакомой мне бильярдной и отлично знакомого ресторанчика «Блю меса». Перед смертью Фред Мак-Брум свозил нас всех в Техас. Мы отправились в его старом фургоне; Джо-Нелл уложили в люльку из автомобильного сиденья, а мы с Фредди и Элинор играли водительскими правами Фреда. В качестве особого развлечения Хэтти сводила нас на обед в «Блю меса», где рядом с кассой высилось чучело бурого медведя и висела лосиная голова. На прилавке стояли четыре здоровые банки, где можно было набрать себе перцев халапеньо, а также маринованных томатов, лучка и яиц. Мы отобедали жареным цыпленком с перченой подливкой, картофельным пюре, свежей репкой и кукурузными хлебцами с халапеньо. А потом все съели по двойной порции мороженого «Блю белл».
Тут мы подъехали к зданию похоронного бюро.
— Езжай-ка мимо, — сказала я, махнув рукой, — что-то я не в силах выбирать гроб.
Она отвезла меня на ранчо, и мы довольно долго провозились, подыскивая, в чем Хэтти хоронить. Не успели открыть ее шкаф, как весь двор заполнили машины и грузовики. Как и давным-давно, женщины несли нам угощение. Кухонные столы заполнялись всяческой снедью: макаронами с сыром, черными бобами и бобами пинто, банками с салатом «Пико де Галло», приправами из помидоров и кукурузы, халапеньо и опунции, вареньем из персиков и крыжовника. Эти странные женщины, участливо поглядывая на нас, надевали фартуки и выставляли подносы с деревенским окороком на косточке, куриными фахитас, тамалес и чилийскими начос. Они угощали нас булочками из дрожжевого теста, капустным салатом, мясным рулетом, фаршированными перцами, гуакамоле, пирогом из ржаной муки, а также мармеладом, ананасами и зефиром. Они усадили за стол проповедника и его жену, а также потчевали понурых старичков и древних старушек, пропахших саше и тальком. «Отведайте цыпленка, — говорили им женщины, — и обязательно этот посыпанный перцем окорок». Они держались скромно, словно их дело было только накормить, а их приглушенные голоса, казалось, воскрешали отголоски прошлого и тех давно позабытых разговоров, что велись когда-то в этой комнате и других комнатах моей жизни.
Как я уже говорила, мне и самой приходилось угощать родственников умерших, но тогда в глубине души я считала это глупостью, ведь тот, чье сердце разбито, не сможет проглотить и кусочка. Однако, когда смерть коснулась моей собственной семьи, до меня дошло, что нужно думать не только о самых близких, но и о друзьях, соседях, двоюродных братьях и племянниках — обо всех, кому тоже грустно, но кто не сломлен потерей. Их тоже нужно поддержать, и тут нет ничего лучше угощения. Ведь жизнь продолжается, а живым нужно есть и дышать. Со временем ты приходишь в себя, пусть исподволь, пусть сама того не замечая. И в конце концов, почуяв аромат сандвича с жареной говядиной, сдобренной горчицей, и с солеными огурчиками, ты говоришь себе: «Откушу-ка и я чуть-чуть».
Так постепенно исцеляется душа. Она оттаивает пядь за пядью, точь-в-точь как оттаивает земля после зимней стужи. Ты начинаешь замечать свет солнца и слышать крики козодоя над равнинами, а затем подметаешь пыльное крыльцо и садишься пить кофе в тени виноградной лозы. Бывают дни, когда ты все равно мечтаешь о смерти, но вместе с тем уже знаешь, что, пока на этой земле жив хоть кто-то из любящих тебя, ты обязана жить дальше. И вместо того чтоб оплакивать свое разбитое сердце, тебе надо заполнять образовавшиеся в нем трещины чем-то новым.
Это знание — не из тех, что можно передать другому. Моя Руфи либо так и не прониклась им, либо слишком исстрадалась, чтоб найти в нем утешение. Однако пути Господни воистину неисповедимы, быть может даже для Него Самого.
Он отнял у меня троих детей, а затем, словно одумавшись, дал мне вырастить ровно столько же внучек. Как говорится, закрывая одну дверь, Он обязательно открывает другую. Правда, иногда мне хотелось бы, чтобы Он, занятый лишь своими делами, держался подальше ото всех дверей на свете.
В тот день, когда мы уехали из Техаса, Джо-Нелл встала на рассвете и села пить кофе на крыльце, разглядывая старые дубы. Взяв свою чашечку, я встала подле нее и засмотрелась на заросли травы. Кто-то, понятия не имею кто, посадил там орех пекан, но это дерево теперь приносило твердые черные стручки с горькими орешками. Подле насосной станции цвели лиловая вербена и колючий коровяк. Над мескитовым деревом пронеслись три сороки, которые затем полетели над маленьким кладбищем, оглашая своим стрекотом розоватый восход. Люди, которых я любила, уходили из моей жизни один за другим. Амос-младший, его отец, Джози, Берл, Хэтти, Руфи. С ними ушла целая эпоха: мои юные годы, мои радости и беды, словно все их смыло огромной волной.
Пора было возвращаться в Теннесси, где меня ждали другие могилы и ванная комната с моим утренним собеседником — портретом брата Стоуи. Но, несмотря на это, я стояла подле Джо-Нелл и думала, как хорошо бы было остаться на ранчо. Завести себе цепного пса и доживать свой век под этим переменчивым синим небом. Мне следовало вернуться, пока Хэтти была жива, но этот шанс уже упущен. Я потрепала Джо-Нелл по плечу и сказала:
— Когда-нибудь мы вернемся сюда вдвоем, ты и я.
— Правда? То есть ты не продашь это ранчо?
— Что ты! Я б не смогла его продать.
— Вот и здорово.
Ее глаза загорелись, как два синих фонарика. Они у нее от отца: у всех Мак-Брумов были чудные голубые глазки. К тому же на вид ей никто бы не дал больше двадцати, а между тем ей уже двадцать девять. Моложавостью она в Прэев. Сама-то я Прэй только по мужу, а так — настоящая Мюррей: мой возраст сказывается на все сто. Вот и в тот раз мои старые кости едва перенесли переезд. Мне было трудно расстаться с Маунт-Олив, но я знала, что, уехав оттуда, уже никогда не тронусь с места. Хватит с меня езды. Многим не верится, что тело и вправду ветшает, но, милые мои, ветшает все на свете. Что раковина, что водогрей, что сердце. Былая любовь порой тоже превращается в ветошь, а там уже изнашивается и вся жизнь.
— Ты словно родилась для этих мест, — промолвила я, попивая кофе.
— Кто знает, может, так и есть. — Она вздохнула. — Жаль так говорить, но, похоже, Таллула мне окончательно приелась.
— Почему же, милая?
— Ну, у меня там куча приятелей, но все они — мужики. — Она передернула плечами. — Само по себе это неплохо, но в результате все бабы в Таллуле просто ненавидят меня.
— Ну что ты, деточка! Это не так!
— Минерва, я бы могла такое рассказать, что у тебя волосы дыбом встанут. Да только не стану. — Она усмехнулась и отхлебнула кофе. — Но было бы здорово начать все заново и в местах, где никто меня не знает. Да, я обожаю флиртовать, и мужики на меня клюют. Но мне бы хотелось иметь и подруг. Иногда я смотрю, как ты шушукаешься со своими вдовушками: вы все такие душки.
— Положим, отнюдь не всегда, — возразила я.
— Возможно. — Она рассмеялась. — Но мне этого не хватает. Мне нужны и подруги, и любовники и совершенно не нужна дурная слава, летящая впереди меня. Господи, вот бы переселиться сюда! В Таллуле я для всех прожженная вертихвостка, а здесь — внучатая племянница Хэтти. У меня бы появился второй шанс.
— Что ж, это ранчо будет ждать тебя, — ответила я, но в глубине души понадеялась, что она не станет переезжать. Родня должна держаться вместе или, по крайней мере, не слишком далеко друг от друга. Калифорния уже украла у меня Фредди.
Калифорния уже украла у меня Фредди. Говорят, этот штат рассечен каким-то разломом, который все ширится, но я-то считаю, что главная беда тех мест — перенаселенность. В конце концов земля провалится под тяжестью тамошних толп. Мне понятно, почему людям нравятся жить в такой тесноте: надеются, что так легче избежать невзгод. Но я-то знаю: куда бы ты ни спрятался, прошлое все равно тебя настигнет. И как ни старайся, от судьбы не убежать.
ДЖО-НЕЛЛ
Валяться в больнице оказалось сущей пыткой. Медсестер там было настолько больше, чем врачей, что сами понимаете, кто мной командовал. Уж конечно не врач-ортопед! Нет, всем заправляла его треклятая медсестра, которая целыми днями мечтала удрать домой, сунуть свои больные ножки в таз с водой и смотреть «Доктор Куинн, женщина-врач». У меня же телевизора не было, и оставалось лишь думать; от этих постоянных раздумий у меня уже крыша поехала.
Очнувшись, я и понятия не имела, на каком я свете, и мечтала лишь поглазеть на пациентов в домашних халатиках. Но доктор сказал, что у меня сломаны сустав и нога. Кроме шуток, богом клянусь! Вдобавок здешние умники взрезали меня, точно спелый арбуз, выскребли часть потрохов, напихали в брюхо ниток и всяких железок да еще впаяли искусственный сустав, сварганенный из материала для сковородных покрытий. В общем, сделали из меня монстриху вроде миссис Франкенштейн.
— А шрам на бедре так и останется? — спросила я доктора.
— Шрам? — он заморгал своими бледно-карими глазами с малюсенькими, как у наркоманов, зрачками. — Хорошо, если вы не будете хромать. Но при вашем-то обаянии шрамик не проблема.
— Обонянии? — ослышалась я. — То есть эти чертовы швы еще и воняют?!
Он откинул голову и рассмеялся.
— Что ж, настроение у вас боевое, — заключил он. — И это чудесно — тем быстрее вы поправитесь!
— А какие-нибудь развлечения здесь есть? — заулыбалась я. Надо сказать, что, когда я улыбаюсь, на щеках у меня появляются совершенно неотразимые ямочки — такие глубокие, что в них помещаются пальцы моих кавалеров.
— Есть кое-что, — его рука задержалась на моем плече. — В прошлом году я был заведующим и позаботился об этом.
— Нельзя ли тогда принести мне телевизор? Видите ли, тут малость скучновато, и я бы с радостью посмотрела «Телемагазин». Или скажем, кабельное телевидение.
— Надо чуток подождать, — ответил он, убирая руку. — Чуть-чуть.
Я не поняла, о чем он: о телевизоре или кое о чем другом. Выходя из комнаты, он старательно втягивал живот. Но условия были хуже некуда: реанимация — это вам не любовное гнездышко. Вокруг меня понаставили каких-то кретинских аппаратов, без ведома которых я и пукнуть не могла. Ко мне подключили кардиомонитор, который показывал работу сердца или, как выражались сестры, «желудочковый комплекс». Вот бестолочи, желудок-то тут причем?! В мои вены постоянно лилась какая-то бесцветная жидкость, а между ног мне засунули катетер, который высасывал горячую мочу прямо из пузыря и перегонял ее янтарные струи в прозрачный пластиковый мешок. Мешок же был вывешен для всеобщего обозрения на моей железной кровати. Рядом с палатой стоял ярко-красный шкафчик, в котором держали «реанимационный набор»: шприцы, адреналин и похожие на утюги электроды, которыми в случае чего сердце можно подзарядить, как севшую батарейку. Каждое дежурство сестры пересчитывали склянки и проверяли напряжение, внося все результаты в журнал. По их словам, так заведено, чтоб не крали морфий.
Медсестры бесцеремонно вламывались в мою палату и то и дело требовали, чтобы я ворочалась, кашляла и делала глубокий вдох. Они даже заставили меня встать.
— Но у меня же сломан сустав, — верещала я.
— Да отцепитесь вы от меня, пиявки!
— Что ж, долежитесь до болезни вен, — усмехнулся медбрат по имени Дуэйн, тощий, женоподобный юнец. Такие меня не заводят.
— Ты, кажется, что-то вякнул про венболезни?! — я сжала кулак и смерила его взглядом.
— Держите-ка, — он сунул мне в руки какую-то пластмассовую штуковину, — это стимулирующий спирометр. Дышите в него, стараясь, чтобы шарик долетал до самого верха.
— Да на фига мне это? — огрызнулась я, оттолкнув его приборчик.
— Что ж, допрыгаетесь до спадения легкого, — квохча, словно курица, он прогуливался вокруг моей кровати и оглядывал блестящие приспособления, словно это были медовые пряники.
— Поцелуй меня в задницу!
— Только если дунете в спирометр. — И он, виляя задом, вышел из палаты.
Я тут же пожалела о его уходе. Делать мне было абсолютно нечего: я целыми сутками лежала, как бревно, и, лишь когда медсестры приносили судно, слегка приподнималась, держась за спинку кровати. Они называли меня «неконтактной пациенткой», потому что на их просьбы поупражнять больную ногу я начинала орать как резаная. Я умоляла их оставить меня в покое, дать отдохнуть и собраться с мыслями.
— Было бы с чем собираться! — хмыкнула одна язва.
Дуэйн сказал, что, будь я котлетой, подрумянилась бы лишь с одного бочка, а будь я булочкой — и вовсе бы обуглилась. Самой же себе я казалась говядиной в маринаде, и от этого мне хотелось плакать. Я старалась даже не думать о том, как выгляжу. Медсестры говорили, что это поза «на груди с супинированной конечностью», то есть ногой — кверху, лицом — в подушку. В общем, раскорячка гаже некуда.
Все это меня просто доконало, и я вовсе не радовалась, что прикована к постели, а стало быть, попала в ту единственную ситуацию, когда можно устроить старомодный «прием у парадной постели». Минерва мне рассказывала, что в стародавние времена дамы такое устраивали. Теперь мне было до слез обидно: всю жизнь я надеялась, что если уж будет у меня такой прием, то я проведу его с настоящим шиком. Желательно в большой кровати с балдахином на четырех столбах, тюлевой сеткой от москитов и горами кружевных подушек. На мой взгляд, как для секса, так и для бурной истерики лучше всего подходят именно старинные кровати. Антикварную мебель делали настоящие мужики, стремившиеся соблазнять женщин. И по-моему, это просто изумительно. Когда мужик вбухал столько сил, чтобы вырезать на твоей кровати сердечки или побеги риса, не ублажить его по полной программе просто преступление!
Но вместо подобающего ложа подо мной была скрипучая железяка, управляемая моторчиками. Любой желающий мог скрутить меня в бараний рог да так и оставить, словно жемчужину в тесной ракушке. С больничной жизнью меня примиряли только симпатичные доктора и, главное, сплетни. Больница — настоящий инкубатор скандалов, извращений и правонарушений. Просто удивительно, сколько всего там узнаешь, если даешь себе труд прислушаться. Все последние сорок восемь часов, несмотря на «критическое состояние», я держала ушки на макушке и узнала о своих целителях даже больше, чем хотелось бы. У моего ортопеда, доктора Грэнстеда, была куча степеней, жена, две дочери и кондоминиум в Хилтон-Хед. Он ходил в пресвитерианскую церковь и играл в гольф каждый четверг — по две партии со своей женой. Моя дневная сиделка, Дженис, была влюблена в доктора Грэнстеда: и по нему же, к моему огорчению, страдал Дуэйн.
У самого Дуэйна была пятнистая собачка по кличке Тефтелька, которая, как уверял ее хозяин, умеет делать обратное сальто. Другой медбрат, Ронни, был разведен, но совершенно не привлекателен. «Зануда натурал», называл его Дуэйн. Каждые выходные он ездил за город и делал ставки на футбольных матчах в колледже (его брат был неудачливым букмекером).
Он встречался с разведенной пульмонологиней по имени Джуди Сью Дженкинс, тридцатидвухлетней женщиной с ребенком.
Когда сестры не отвлекали меня, я могла вволю слушать операторов, выкликавших докторов, администраторов и уборщиц. Их голоса неслись из-под потолка с завидной регулярностью. И стоило мне раскусить шифры, как все заведение оказалось как на ладони. «Экстренный вызов» означал «беги со всех ног!», а «синий сигнал» сообщал, что кто-то помер. Если же вызывали на «уборку», это, как правило, подразумевало, что кто-то блеванул прямо на пол.
Так же регулярно возникали голоса Минервы и Элинор. Почти каждый час они заявлялись в мою холодную белую палату и становились у постели. Минерва мне фактически как мать. Иногда мне снилось, что она умерла, а раз привиделось, что она превратилась в репку, и я проснулась в истерике. Я так ревела, что потом пришлось прикладывать к опухшим векам ломтики огурца.
— Джо-Нелл, может, принести тебе покушать? — У нее, разумеется, просто руки чесались притащить мне пирог или, может быть, пирожное со сливками, но это было бы против правил.
— В закусочной все в порядке, — рассказывала Элинор. — Я плачу одной старушке, чтоб она присматривала за кассой. Эрлин Уофорд, помнишь ее? Она еще работала в «Кей-Марте»? Вдова Билли Уофорда?
— Про цветы, про цветы расскажи! — торопила Минерва.
— Да, цветы шикарные. — Элинор аж руками всплеснула. — И их так много!
— Прям хоть магазин открывай! — кивала Минерва.
— Сестры запрещают их сюда приносить, так что мы все отсылаем домой, — пояснила Элинор.
— Но от кого они? — спросила я у нее.
— От всех твоих прежних ухажеров.
— Даже из ресторана «Старлайт» прислали корзину хризантем, — объявила Минерва.
— Ага, вос-хи-ти-тельную. Она утыкана такими изогнутыми леденцами. — Элинор согнула палец. — А на ленте золотыми блестками выведено «Пососи нас». Ну правда ведь здорово?
— Потрясающе, — ответила я и на минутку прикрыла глаза.
— А про Фредди слыхала? — спросила Элинор. — Она уже едет в Теннесси.
— То есть ради меня она бросила своих китов?! — заржала я. — Видать, я все же при смерти.
— Недавно мы так и думали, — хмыкнула Элинор.
Я уставилась в потолок. Сейчас она снова затянет про региональную преступность, постепенно переходя к национальной и мировой. Преступность — ее увлечение, наравне с телесериалами. Она смотрит канал «Дискавери» в надежде стать образованней, но вместо этого становится лишь более нервной. Все твердит, что ледники тают, река Колорадо мелеет, а африканских слонов безжалостно истребляют ради их собственной кости. Короче говоря, планета вот-вот покатится ко всем чертям. Я посоветовала ей не смотреть «Дискавери», раз уж ее это так сильно трогает. «Но там великолепные передачи, — обиделась она, — как «Первые поцелуи», но только про животных. Кто за кем охотится, кто бесится, кто на грани вымирания, а кто хорош как никогда».
— Что-то спать хочется, — простонала я, заводя глаза и складывая руки на груди, словно меня укусил какой-то таинственный ядовитый паук и жить мне остается лишь считанные часы. С огромным облегчением я услышала, как Дуэйн объявил, что время посещения истекло.
— Как, уже? — огорчилась Минерва, складывая свое вязание.
— Ну можно еще пару минут? — просила Элинор.
— Извините, — отрезал Дуэйн, — правила для всех одинаковы.
— Пока, сестренка, — вздохнула Элинор, — сладких тебе снов.
— Пока, сестренка, — вздохнула Элинор, — сладких тебе снов. А если твой кардиомонитор вдруг перестанет пикать, срочно зови сестер.
— Так она и сделает, — кивал Дуэйн, выставляя их за двери.
— Кажется, скоро обход того симпатичного доктора, — бросила я.
— Которого? — Дуэйн удивленно поднял брови. — Доктора Грэнстеда или доктора Ламберта?
— Ламберта, — ответила я.
— Ах, этого, — хмыкнул Дуэйн. — Забудьте о нем. Он всего год как женился.
— Отлично, — усмехнулась я. — Объезженная лошадка.
— Но он обожает свою жену.
— Тем лучше. К чему мне легкая добыча?
— Милая, думайте о себе, а не о женатых врачах. — Он суетился вокруг моей кровати, подтыкая одеяло и поправляя аппаратуру. Затем он сунул мне в рот градусник. — Слышал, вам прислали интересную корзинку, красавица.
— Не будь я по уши в бинтах, — пробубнила я, стараясь не выронить градусник и потрясая кулаком, — так бы тебе заехала этой самой корзинкой!
— Да, милая, — улыбнулся он, — по самые уши — и не только в бинтах! А то бы я и правда напугался.
ФРЕДДИ
Мой самолет прибыл в Нашвилл в воскресенье утром. Закинув свой полотняный мешок на плечо, я уныло побрела по холодному тоннелю. Я ехала почти налегке: у меня не особенно много вещей, и все они совершенно не подходят для Теннесси — шорты, купальники, обрезанные джинсы. Правда, я брала в Тихуану батиковую шаль на случай холодных и ветреных ночей в пустыне, но шаль так и осталась на стуле в отеле.
Выйдя в терминал, я поежилась. Тусклый зимний свет словно нехотя струился на ряды пустых кресел, выкрашенных синей краской. Терминал был почти пуст. «Что за странное слово, — подумала я, — «терминал». И совершенно неподходящее: сразу напоминает о смертельно больных. Но ведь не все же спешат на похороны, кто-то просто собирается в путешествие. Почему бы не назвать этот огромный стеклянный холл просто вестибюлем?»
Указатели вывели меня к эскалатору, и неподалеку от выдачи багажа я отыскала справочное бюро. Девушка у окошка объяснила мне, как пройти к «такси-лимузинам» — заурядной транспортной конторе, укомплектованной микроавтобусами «крайслер». Я купила билет и потащилась вдоль вереницы припаркованных на стоянке автобусов, разыскивая тот, что идет к Таллуле. Машин там было около сотни, а моя оказалась предпоследней. Не говоря ни слова, водитель взял мой мешок и запихнул его в невероятно маленький багажный отсек. Я залезла внутрь и пробралась в третий ряд мимо двух потрепанных бизнесменов, уткнувшихся в «Уолл-стрит джорнал», и двух загорелых женщин, блондинки и брюнетки. Эти были увешаны золотыми побрякушками — серьгами, браслетами и ажурными ожерельями. Они обсуждали игорные дома во Фрипорте и их отвратительных завсегдатаев. Блондинка обернулась ко мне и просияла. Ярко-белые тени на ее веках напоминали оправу очков фасона «кошачий глаз».
— Привет, — бодро начала она, откидывая челку. Вокруг ее темных глаз виднелась черная подводка. — Возвращаетесь из отпуска?
«Из отпуска?» — подумала я. Строго говоря, я не была в отпуске ни разу в жизни; но на сей раз моя нормальная жизнь словно сама собой отправилась в отпуск. Отпуск получили и мой муж, и моя работа, и бог его знает, чем это кончится. Я понимала, что выгляжу просто дико из-за своей уродливой стрижки, кожаных сандалий, драных джинсов и футболки с надписью «Спасите китов». Словно только что вернулась из дешевенького тура в Панама-Сити, где скоротала неделю в третьесортном мотеле на берегу залива. «Да и не по сезону прикид», — сказала бы Джо-Нелл.
«Да и не по сезону прикид», — сказала бы Джо-Нелл. Судя по тому, что у всех машин на парковке заиндевели стекла, на улице было по меньшей мере ноль градусов.
— Нет, не из отпуска, — ответила я блондинке и уставилась на свои джинсы. Я всегда умудрялась одеться как-то не к случаю — просто Королева Неуместного Наряда. Если мужчины выряжались в смокинги, я заявлялась в тапочках и хлопковом платьице. Когда меня приглашали на вечеринку у бассейна, я приходила в купальнике, а потом силилась скрыть смущение при виде платьев, шортов, слаксов и полного отсутствия купающихся. Хозяйка начинала суетиться, рассыпаться в извинениях, соглашаться, что употребила неудачное выражение в пригласительном билете. «В смысле «рядом с бассейном». Но раз уж ты в купальнике, — тараторила она, — обязательно окунись. Не смущайся: никто на тебя не смотрит».
— Дело в том, что я сама из отпуска и подумала, что вы, возможно, тоже. — Блондинка улыбнулась мне, обнажив чуть кривоватые зубы. Она села поудобнее, и в воздухе повеяло ароматом жонкалий и ванили. — Так откуда вы едете?
— С западного побережья. — Я немного поколебалась, не зная, стоит ли выкладывать всю правду. Если эта блондинка, как и многие южанки, обожает трагедии, она будет засыпать меня вопросами до самой Таллулы.
— Правда? — протянула блондинка, поднимая брови. При этом белые ободки на ее веках вытянулись. Она глянула на свою спутницу, пухленькую брюнетку, которая, сощурившись, рассматривала меня. Эта вторая показалась мне чуть более толковой.
— То есть из Калифорнии? — спросила брюнетка.
— Из Нижней Калифорнии, — пояснила я.
— Это такой пляж в Лос-Анджелесе или где-то рядом, верно? — влезла блондинка.
— Нижняя Калифорния в Мексике, — отозвалась я, пытаясь пригладить волосы.
— Ой, вечно я все напутаю, — захихикала блондинка. — А вы случайно не из этих… как их теперь называют?.. Не миссионеры, а как-то… — Она обернулась к подруге: — Как их называют. Бренда?
— Не знаю, — ответила Бренда. — В моей церкви их называют «свидетелями», и они проповедуют аборигенам Ямайки.
Я прекратила теребить волосы и ошарашенно заморгала.
— Кому?! — вырвалось у меня.
— Аборигенам, — повторила Бренда. — Они там, знаете ли, поклоняются черным петухам. Дикари да и только. — Она важно посмотрела на блондинку, а затем снова обернулась ко мне: — Так вы тоже из свидетелей?
— М-м-м, — промычала я. Это слово ассоциировалось у меня лишь с судом и федеральной программой защиты свидетелей. Но потом меня осенило: это же название одной старомодной секты — «свидетели Иеговы». Да, давненько я не была на Юге, стала забывать здешний язык. Живя в Калифорнии, как-то проникаешься чувством, что земли южнее линии Мейсона-Диксона — что-то вроде мифической страны, которая существует лишь в сознании ученых, торговцев сувенирами и древних старух, что до сих пор верят рассказанным им в детстве небылицам. Боже мой, я, видно, совсем сошла с ума.
Я улыбнулась обеим подругам и ответила:
— Нет, я не проповедница. Я собирала фрукты. — Тут я невольно поморщилась. Бизнесмены во втором ряду опустили газеты и уставились на меня. Один из них, обладатель густых усов и пронзительно-голубых глаз, был редкостно красив.
— Фрукты? — переспросила блондинка, чуть наклоняя голову, словно не веря своим ушам.
— О, это так интересно, — сказала брюнетка быстро, с натянутой улыбкой. — Я постоянно покупаю фрукты в «Винн-Дикси», но мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь встречусь с настоящим сборщиком.
— И мне не приходило, — пролепетала блондинка, кивая подруге. — Но я всегда говорила: сбор фруктов — достойнейшее занятие. И чрезвычайно нужное. Вот здорово, правда. Бренда?
— О да! Еще бы.
— А какие именно фрукты вы собирали?
— Плоды страстоцвета, — брякнула я.
Бизнесмены в первых рядах заерзали и зашуршали газетами.
— Господи Иисусе, какая диковинка! — выдохнула блондинка, подталкивая локтем соседку. — В «Винн-Дикси» такого не сыщешь, правда, Бренда?
— Да уж, там и петрушка-то не всегда бывает.
— И даже обычная редиска!
— Я вам прямо завидую, — сказала Бренда, поджимая губки, — ведь вам достался самый страстный фрукт.
— Точно-точно! — закивала блондинка и одарила меня сладчайшей улыбкой. — И, видать, во время сбора отлично загораешь. У вас вот, душечка, просто загляденье, а не загар.
— Профессиональная вредность. — Я глянула на свои голые руки и пожала плечами.
— Восхитительный загар, — твердила Бренда, усиленно кивая, а затем приподняла свою обгоревшую руку. — А я вот обгораю да облезаю, как сухая луковица.
— И я, и я, — вздыхала блондинка. — Зато она вся шоколадная, как в рекламе «отпуска на Гавайях».
— Надеюсь только, что это не приведет к раку кожи, — сказала Бренда.
Я знала, что мне следует поблагодарить попутчиц, дать им понять, что я из того же круга и ценю их комплименты. Эту южную особенность я тоже успела забыть: неподготовленному человеку здешняя любезность кажется просто убийственной.
Мое молчание, похоже, обидело подруг. Они раскрыли свои сумочки и сделали вид, будто что-то в них разыскивают. Пока водитель перестраивался в нужный ряд, колеса противно скрипели. За окнами поплыл серый индустриальный пейзаж. Мне казалось, что мы движемся сквозь время, но вперед или назад, я не могла понять. Микроавтобус проехал внутри известняковой гряды, по пещере, с шершавых стен которой свисали прозрачные сосульки. Когда мы подъехали к дамбе Перси-Прист, мне вспомнился наш калифорнийский Дьюи и домик на берегу залива Томалес. Летом он сверкает, словно отполированный металл. С его третьего этажа шаткая лесенка ведет в купол, откуда в ясный день виден мерцающий вдали океан. С расположенного неподалеку побережья Пойнт-Рейс можно наблюдать за китами с середины декабря по конец марта — в то самое время, когда мы бываем в отъезде. По возвращении мы первым делом идем в обсерваторию, спускаясь с горы на несколько сотен ступеней. Порой мы видим китов, мигрирующих на север, а однажды Сэм заметил анчоусов и планктон, двигавшихся в огромном водяном облаке. В течение пяти часов мы наблюдали за тремя китами, которые кормились, снуя вверх и вниз в синих водах.
Внезапно я так затосковала по дому, что едва не расплакалась. В Дьюи сейчас можно ходить в легком свитере: ведь этот городок, считай, антипод юго-восточной части штата Мэн. Я соскучилась по овчаркам, носящимся кругами вокруг ягнят мистера Эспая, по пастбищам, полным сочной травы, и по холмам, похожим на зеленых китов. Мне вспоминались кипарисовые рощицы и перелески из дубов и платанов. Каждый год я обещаю себе вернуться в Дьюи как можно скорее. Сэм скучает по дому не меньше меня. Дважды в неделю мы ездим на Пойнт-Рейс, делая остановку в станционной кофейне, где я съедаю кусок шоколадного торта, он — салат из тофу, а официантка все время разогревает и подливает нам кофе. В этот раз лето обещало быть туманным, с резкими ветрами с Дрейкс-Бич и громким звяканьем буйков. Значит, мы будем нырять за моллюсками, ходить под парусом по заливу, подбирать выброшенную волнами рыбу, перебираться вброд через заполняемые приливами водоемы в Даксберри-Риф, собирать после бури сверкающие агаты и нефриты и устраивать на Лиматур-Бич вегетарианские пикники: пить минеральную воду с черничным соком, есть бутерброды с огурцом, семечками подсолнуха, рубленым цуккини и спаржей и также салат из помидоров под божественной приправой из пряностей, уксуса и оливкового масла.
Я уверена, что характер города определяется местной пищей. Поэтому мне страшно нравится городок, где существуют специальные магазины сыров и рыбы, где прямо на улицах торгуют грушами, брусникой, луком валла-валла, лисичками и яблоками пепин оранж, где в булочных продают слойки и шоколадные круассаны, где в меню кофеен значатся «омлеты с любыми начинками: халапеньо, икрой, авокадо, помидорами и грибами шитаки». Универсам «Ханидью» может похвастаться лакомствами для истинных гурманов: заморскими сырами, всевозможными крекерами, одиннадцатью сортами горчицы, французским хлебом. И все это в городишке с населением чуть более тысячи человек, который примостился на скалистом утесе над самым океаном!
План Дьюи напоминает решетку: пронумерованные улицы идут с севера на юг, параллельно побережью, а те, что обозначены буквами, тянутся с запада на восток. Многие годы это был типичный маленький городок, где не имелось практически ничего, кроме продуктового магазина в здании почты плюс автозаправочной станции и нескольких ранчо. Но в семидесятые здесь зародился туристический бизнес. В городке вдруг выросли гостиница, яхт-клуб, несколько баров и ресторанов. Его близостью к Сан-Франциско прельстилось несколько безрассудно смелых писателей и художников, и вскоре газеты уже окрестили Дьюи «левым берегом Калифорнии». Теперь его засаженный зеленью центр пестреет открытыми кафе и бутиками, торгующими глиняными безделушками, медными флюгерами и акварельными рисунками. Если вы вздумаете сходить в ресторан, вас ждут заведения со всего мира. В «Ше Мадлен» хозяин играет на флейте, «Манкас» славится чешской кухней и камином, в котором потрескивают пахучие сосновые поленья, в гриле «Стинсон-Бич» предлагают блюда пониженной калорийности, а вместо музыки ставят запись лая морских львов.
Мистер Эспай сказал во время нашей первой встречи, что в Дьюи средиземноморский климат. В то время я еще ни разу не бывала в Европе, но и полной невеждой тоже не была — всемирную географию изучала в колледже. Поэтому я спросила, с чем именно он сравнивает: с Испанией, югом Франции, Италией, Грецией, Святой землей или Северной Африкой? Мистер Эспай улыбнулся и сказал, что когда как. После Теннесси Северная Калифорния казалась экзотичным и диковинным краем: слепящее солнце, низкая влажность и каменистые мысы, врезающиеся прямо в море. Вода казалась даже слишком синей, словно небо опрокинулось вниз и заполнило океан до краев. Если не считать городка, обсерватории в Пойнт-Рейс и дороги, петлявшей между ними, это совершенно пустынная местность. Устье залива Томалес считается излюбленным местом нереста большой белой акулы. Еще эти края славятся частыми туманами и ветрами. Сам залив длинный и узкий, а разлом Сан-Андреас врезается в него прямо посередине. Мистер Эспай утверждает, что землю раскалывают суровый климат и землетрясения. Но как бы там ни было, я страшно не люблю покидать наше ранчо — его высокие, поросшие травой холмы, на которых пасутся стада овец, и гладкий как зеркало залив. Я знаю, что болтаю обо всем этом уже слишком долго, но я просто без ума от Запада. Пускай я родилась и выросла в Теннесси, все равно считаю себя калифорнийкой до мозга костей.
Я открыла глаза и снова увидела унылый индустриальный пейзаж. Микроавтобус пронесся мимо вереницы кирпичных домиков, защищенных от шоссе высокой металлической сеткой. Я стала разглядывать затылки своих спутниц. Обе они были вкрадчиво-вежливы, а я просто ненавижу фальшь. Блондинка, видимо, почувствовала мой взгляд: она слегка обернулась и снова заулыбалась, от чего в уголках ее глаз появились морщинки.
— Ваше лицо мне как будто знакомо. Может быть, мы где-то встречались?
— Нет, — отрезала я и закрыла глаза. По здешним понятиям, я вела себя просто грубо, но слишком устала для любезностей. Понятия не имею, зачем я наврала им про фрукты, вероятно, просто чтобы не рассказывать часами про китов, Джо-Нелл и ее автокатастрофу.
— Ваше лицо мне как будто знакомо. Может быть, мы где-то встречались?
— Нет, — отрезала я и закрыла глаза. По здешним понятиям, я вела себя просто грубо, но слишком устала для любезностей. Понятия не имею, зачем я наврала им про фрукты, вероятно, просто чтобы не рассказывать часами про китов, Джо-Нелл и ее автокатастрофу. К тому же я твердо считала, что моя сестра уже мертва. На мой взгляд, «фольксваген», должно быть, здорово искорежило при столкновении с поездом.
Когда мы проехали поворот на Хермитидж, я свернулась клубочком и притворилась спящей, положив голову на руку, как на подушку. Мои соседки принялись болтать о своей обгоревшей коже, деньгах, проигранных в казино, и сувенирах, которые они, к сожалению, не успели накупить. Водитель, повозившись с радиоприемником, поймал волну центрального радио Теннесси.
— Никто не возражает против ток-шоу? — спросил он, глянув в зеркало заднего вида.
— Что вы, что вы! — замахала рукой Бренда. — Включайте, разумеется.
— Мы с радостью послушаем, — поддакнула блондинка.
Бизнесмены переглянулись и только пожали плечами. Из приемника раздался мягкий мужской голос.
— Я, ведущий Эдди Дагган, с нетерпением жду ваших звонков. Сегодняшняя тема — землетрясения вообще и в частности разлом в Нью-Мадриде.
Вскоре позвонила какая-то шепелявая старушка и тут же стала жаловаться.
— Офточертели уже эти предфказания, — шамкала она, — целыми днями только и флышу, што о разных нефчафтиях да катафтрофах. На профлой неделе ты ффе твердил про круги на полях и про прифельцев, а до того — про озон. Я от этого профто ффя издергалафь. Пофлушай фам фебя, Эдди. То ты говоришь, что на юго-вофтоке вот-вот приключитфя землетряфение, то — еще какую-то чепуху.
— Но, мэм, я только хотел сказать…
— Не фмей перебивать меня, юноша! Я лишь желаю знать, нагрянет ли землетряфение в Нашвилл на моем веку. Вот и ффе. Потому что мне уже офточертело упаковывать и рафпаковывать чемоданы. Надоело пить «Прозак» и залафать питьевую воду при моих-то фкудных фредфтвах. А твои ток-шоу меня профто замучили. Ну что ты не раффкажешь о фаранче? Нет, тебе бы только болтать про землетряфения, чтоб в разгар рождефтвенфких рафпродаж я и нофу из дома не выфунула. Надоели мне ффе эти бредни, ффе эти полтергейфты и вампиры в центре Нашвилла.
— Мэм! — вставил Эдди Дагган. — Вы закончили?
— Нет! — пожилая дама начинала рыдать, и ее голосок становился все тоньше и тоньше. — И это ффе твоя вина! Ты флышишь меня, Эдди Дагган? Терпеть не моту этих твоих гофтей, которые фулят то одну беду, то другую. Да лучше б я обо ффем этом не знала! Тебе это интерефно, а мне — нет. Из-за тебя мое давление так и фкачет; день за днем ты мучаешь меня, как глаф из Преифподней. Зато теперь моя очередь кое-что тебе фказать: ефли флучитфя землетряфение и мой дом разлетитфя на куфки, то то же фамое будет и ф твоим домом. Я знаю, где ты живешь. И вообще ты профто-напрофто жалкий…
Эдди Дагган отключил ее, и по радиоволнам понеслись долгожданные короткие гудки. После краткой паузы зазвучала реклама пива «Бадвайзер». Водитель на переднем сиденье фыркнул и наклонился к радиоприемнику.
— Вот что, мисс Как-Вас-Там, — сказал он, — раз уж современные передачи вам не по зубам, не слушайте их вовсе!
Я поняла, что заснуть мне не удастся, и стала рассматривать расплывчатые очертания гор, издали напоминавших уходящие в облака ступени. Это были предгорья Аппалачей. Я знала, что Сэм ни за что не сможет жить в таком безводном месте, как Теннесси, даже несмотря на присутствие озера Сентер-Хилл и речки Кейни-Форк. Пресные воды ему не по вкусу.
Пресные воды ему не по вкусу. Совсем другое дело океан: соль словно запускает химическую реакцию и делает этого человека дерзким и непредсказуемым. У меня есть фотография, на которой он едет верхом на плавнике шестидесятифутовой китовой акулы. Сэм там кажется кусочком водорослей, прилипшим к хвосту огромного рыбины: размерами акулы почти не уступают рифам, у которых нерестятся. Ему нравится плавать среди хищников. Да и для меня океан — родная стихия, и на мгновение я было разозлилась на Джо-Нелл за то, что она врезалась в этот чертов поезд — за то, что моя привязанность к ней пересилила даже потребность быть в Нижней Калифорнии и присматривать за Сэмом и китами. Что за безрассудство — любить кого-то так сильно?! Похоже, семейные узы — сила помогущественней земного притяжения.
ДЖО-НЕЛЛ
Мне снилась Фредди, летящая в Таллулу на наполненном горячим воздухом дирижабле. Бог ты мой, сон был таким реальным! Открыв глаза, я уж думала, что увижу, как она сбрасывает на землю мешки с песком. Но вместо этого я узрела доктора Ламберта, который стоял у кровати и листал мою историю болезни. Он поднял глаза, убедился, что я смотрю на него, и захлопнул папку.
— Прекрасно, вот вы и проснулись, — сказал он. Губы его приоткрылись, обнажив ровные ряды зубов, жемчужно-белых, как у кинозвезд. — Как вы себя чувствуете?
— Так, словно меня сбило поездом, — ответила я.
Он улыбнулся и кивнул.
— Ну а подробнее?
— Все болит. И во рту какой-то странный привкус.
— Вы помните аварию?
— Ага. — Я закрыла глаза и увидела перепуганную физиономию машиниста и завертевшуюся волчком землю. Когда дверца машины оторвалась, меня здорово шарахнуло по голове. А потом я вывалилась наружу.
— Не припомните, что именно вы делали на шоссе в столь поздний час?
— О, разумеется, — воскликнула я и стала лихорадочно придумывать приличное объяснение. — Возвращалась от больной лейкемией подруги. Я привозила ей ужин и все такое. Ну, потом мы с ней поболтали, посмотрели старые фильмы, и, видать, я так устала, что просто не заметила поезд.
— Вот это да! — Он взял металлический стул и опустился на него. — Просто чудо, что вы выжили.
— Все так говорят.
— А ремень был пристегнут?
— В моем «фольксвагене» нет ремней.
— Что ж, стало быть, вам просто сказочно повезло. — Он прочистил горло. — Не возражаете, если я задам еще пару вопросов?
— Про аварию?
— Вообще-то мне нужно уточнить анамнез и занести в вашу карточку. Это обычная процедура, мисс Мак-Брум. Вас это не очень утомит?
— Не знаю, а вас? — Я улыбнулась, поигрывая ямочками. — И зовите меня просто Джо-Нелл.
Вопросы были чисто медицинские, а не личные, как я надеялась. Я упорно смотрела прямо в его серые глаза, отливающие металлом. Интересно, думала я, правду ли сказал Дуэйн и действительно ли доктор Ламберт только-только женился.
— Вы курите, Джо-Нелл? — спрашивал он. — Есть ли среди ваших родственников онкологические больные?
На все вопросы я отрицательно мотала головой. Поймать мужика на крючок — это для меня раз плюнуть, но вот окончательно выудить его гораздо труднее. Обычно я тяну слишком сильно, и он-таки соскальзывает. Теперь-то я знаю, в чем ошибка, но остановить себя не могу. Все стараюсь быть хладнокровнее, но что поделаешь: кровь у меня — крутой кипяток. К тому же я женственна и грациозна, а мои моральные устои сродни принципам Шарон Стоун. Я искренне надеялась, что доктор женат на мужеподобной толстухе, остриженной так коротко, что мужу видна каждая складочка на ее затылке.
— Половой жизнью живете? — спросил он, моргая.
Я чуть было не спросила в ответ: «А вы?» Он не гинеколог, а терапевт, сам говорил, так какого же черта задавать мне интимные вопросы?! Однако я хотела произвести хорошее впечатление, и ляпнуть что-то лишнее было просто недопустимо.
— Нет, — сказала я.
Он бросил на меня испытующий взгляд.
— Когда у вас была последняя менструация?
— Бог мой, да я даже не знаю, какой сегодня день! — И я рассмеялась, пытаясь сменить тон на более легкий.
— Сегодня воскресенье, 31 декабря.
— А вы пойдете на новогодний карнавал? — прощебетала я голоском маленькой девочки, надеясь увести разговор в сторону.
— Да нет. — Он поднял руку. — Просто схожу в загородный клуб.
— А, понятно, — улыбнулась я, — там всегда устраивают новогодние вечеринки.
— Вы член клуба? — Он окинул меня недоверчивым взглядом.
— Просто слышала о тамошних вечеринках, — ответила я, — вообще-то я редко куда-либо выбираюсь.
— Правда? — спросил он, и я поняла, что зацепила его.
— Понимаете, я выросла в книжной семье. Моя сестра работает цетологом в Калифорнии. В детстве под Новый год мы валялись на диванах и читали библиотечные книги. Чтоб отвезти их все назад, приходилось брать тачку! Понятия не имею, как я докатилась до работы в кондитерской, но именно этим теперь и занимаюсь.
— И что же именно вы печете в своей кондитерской? — Доктор Ламберт улыбнулся, и я поняла, что начинаю ему нравиться: еще бы, девушка, которая читает книжки, а не спит с кем ни попадя.
— О, когда как. — Я провела рукой по простыне, чтоб он заметил мои аккуратные ноготки и кирпично-красный лак. — А что вы предпочитаете?
ФРЕДДИ
Микроавтобус свернул с основной трассы и направился к Таллуле. Здесь, на окраине городка, практически ничего не изменилось. Я заметила знакомый табачный сарай, весь покосившийся от старости, белоснежное кафе «Дайри квин» и швейцарскую парикмахерскую. Мы неслись по извилистой дороге с двусторонним движением, оставляя позади парковку для грузовиков и магазин рыболовных принадлежностей. Сквозь жиденькую рощу я видела тускло-зеленую реку Камберленд и яркого, травянистого оттенка мост. Мы остановились на красный сигнал светофора, затем свернули. Проезжая по мосту, я смотрела в воду: оказалось, что она очень грязная и непрерывно бурлит, словно на дне вертится какой-то неостановимый моторчик.
Через квартал от моста дорога превратилась в широкое авеню Саут-Вашингтон, и движение стало четырехсторонним. Такого я не припоминала. Все те годы, до моего побега из Теннесси, эта улица была узкой, в две полосы, а дойдя до городка, разворачивалась и вела обратно к мосту. На ней тогда стояли лишь станция «Экссон», обувной магазин и летний овощной ларек. Теперь же по сторонам от четырех асфальтированных полос разместились «Макдоналдс», автозаправка и магазин подержанных автомобилей. Все дома были до сих пор украшены облезлыми рождественскими колокольчиками и свечами. И тут меня внезапно озарило: сегодня же канун Нового года! От этой мысли мне стало совсем грустно.
— Таллула, Теннесси, — гордо объявил водитель, махнув в сторону небольшого универмага. — Крошечный городок, который, однако, может похвастаться недурным колледжем и четвертым по величине «Уол-Мартом» в штате Теннесси.
Я попыталась улыбнуться, потому что комментарий был явно адресован мне. Как-никак я единственная выходила здесь. Я могла бы ответить ему, что знаю городки и поинтересней, что на Западе есть селения и поменьше Таллулы, в которых, однако, нет ни здешней ограниченности, ни убогих «Уол-Мартов».
Да уж, Дьюи меньше Таллулы, но по ощущениям он и крупнее, и динамичнее. А на мысе Мендосино стоит и вовсе крошечный городок, где в одном домике с дощатым полом ютятся и бензоколонка, и почтовое отделение. Если кто-то из тамошних жителей хочет посмотреть кино, ему нужно проехать пятьдесят миль на север, в Фортуну. Школьников вместе с семьями селили в Ферндейле, тоже к северу, в сорока пяти милях от дома. Но, несмотря на все это, даже самый маленький поселок на Западе крупнее самого большого южного города.
Услышав, как я вожусь на заднем сиденье, краснолицые путешественницы снова заулыбались и стали желать мне удачно погостить в Таллуле.
— У вас тут родные? — спросила Бренда, приподняв одну бровь.
— Да нет, — покачала я головой. Стоит начать врать, потом уж никак не остановиться. Поэтому обычно я не вру.
— Правда? А то я, возможно, их знаю, — настаивала она. — Я живу чуть дальше, в Бакстере, и много кого тут знаю, потому что ходила в здешний колледж.
— Я из Сан-Франциско, — солгала я.
— Но вы же сказали — из Мексики.
— В Мексике я работаю.
— Точнее, собираете фрукты, — сказала Бренда и тут же перепугалась. — То есть я хочу сказать… — Она шлепнулась на сиденье и зажала рот рукой. Так она и молчала до того момента, как микроавтобус подъехал к мощеной площадке под вывеской «Станция Камберленд, служба такси-лимузинов».
— До свидания, — щебетали обе спутницы, пока я пробиралась по узкому проходу. Водитель открыл мне двери, и я выпрыгнула на холод. Вдали виднелись чахлые деревца и размытые очертания гор. Вообще, здесь то ли небо как-то ниже, то ли деревья повыше. Открывшийся вид был знаком мне с детства, и тем не менее я чувствовала себя не в своей тарелке. Даже не верилось, что всего сорок восемь часов назад я плавала в Тихом океане.
Водитель порылся в поисках моей сумки. Отыскав, он кинул ее на мостовую и уставился на нее, словно спрашивая: «Неужто это все?» Он явно ждал от меня каких-то слов, и за это время от его дыхания образовалось облачко пара, повисшее в воздухе.
— Спасибо, — сказала я и протянула ему доллар. Он так вылупился на банкноту, что я аж испугалась: что, если чаевые строжайше запрещены в службе такси-лимузинов? Или может быть, доллар — это оскорбительно мало? Из окна микроавтобуса на меня глазели мои спутницы. Я стала растирать свои голые руки, покрывшиеся пупырышками, как у огурцов. Тело начинало леденеть, а кровь буквально стыла в жилах. Нужно было спешить, пока клан Мак-Брумов не понес еще одну потерю: я рисковала замерзнуть до смерти. В моей сумке не было ничего теплого, ведь и утепленное белье, и фланелевые рубашки остались в Дьюи. Не считая безнадежно помятого муслинового платья, я была одета в свой самый лучший наряд.
— Ничего не забыли? — спросил водитель, засовывая доллар в карман.
— Не-а, — пробормотала я.
— Что-что? — почесал он в затылке.
— Нет, — уточнила я. А затем круто развернулась, показывая, что разговор окончен и он может идти. Несмотря на то что окружавший пейзаж я должна была знать как свои пять пальцев, мне по-прежнему было не по себе. Через улицу обнаружилась новая булочная, небольшая гостиница, кафе «Вендис» и мини-маркет с телефоном-автоматом.
— Вас кто-нибудь встретит, мисс? — спросил водитель. — А то я могу вас куда-нибудь подкинуть. Это без проблем.
— Нет, спасибо. — Я подняла свою сумку.
— Город — в той стороне. — Водитель указал на север, по направлению к холмистой дороге.
— Верно, — сказала я и зашагала к городу. Здешнюю географию я знала назубок; в пяти кварталах отсюда была центральная площадь.
— Верно, — сказала я и зашагала к городу. Здешнюю географию я знала назубок; в пяти кварталах отсюда была центральная площадь. Я помнила, что «Булочки Фреда» расположены на боковой улочке Норт-Джефферсон-роуд, которая переходит в Ривер-стрит. Наш дом стоит в конце этой улочки; здание облицовано известняком, а сквозь пещеру под ним течет подземная речка. Когда-то я думала, что воды речки служат тоннелем в подлинный мир, в который уносится все на свете, даже то, что мы хотели бы удержать. И любовь, и домашний уют, и счастливые летние деньки. Чуть дальше на востоке показалась часовая башня колледжа, а совсем вдалеке я разглядела белый купол химического корпуса со старым медным флюгером — с такого расстояния и не определишь, откуда дует ветер. Ускорив шаг, я направилась к площади.
Через пару кварталов рядом со мной затормозил длинный зеленый фургон, совсем древний, обшитый по бокам деревянными панелями. Какая-то женщина опустила стекло и высунула голову наружу. У нее были тускло-каштановые волосы, стянутые выцветшей лентой, и сплошь веснушчатое лицо. На носу сидели очки для чтения, из-за которых ее желтые глаза казались просто огромными. На заднем сиденье примостились две старушки, которые, подавшись вперед, таращились на меня.
— Фредди! — завопила желтоглазая женщина. Антикварный фургон остановился всего в дюйме от тротуара. — Слава богу, я нашла тебя!
— Элинор? — вымолвила я, сделав шаг вперед. Старушки на заднем сиденье принялись возбужденно перешептываться.
— Только не говори, что не узнаешь меня! — Она засмеялась и задрала свое плоское лицо. Родные всегда утверждали, что в раннем детстве Элинор упала носом вниз, отчего ее облик радикально изменился. Однако плосковатое лицо — семейная черта Мак-Брумов, которая почему-то не передалась нам с Джо-Нелл.
— Но, видимо, это заразно, — продолжала Элинор, глядя на меня поверх очков, — потому что я едва-едва узнаю тебя. Господи, как же тебя обкорнали!
— Что? А, да. — Я взъерошила челку и ощупала шрам. — Как Джо-Нелл?
— Очнулась, — ответила Элинор, — и уже в дурном настроении. Я рассказала ей о твоем приезде и прочие новости, но, узнав, что я отправила тебя на автобус, Минерва запугала меня до потери пульса. Боже мой, а что, если Фредди сядет не на тот автобус? Что если в дороге что-то случится? Я даже включала Си-эн-эн, чтоб узнать, не было ли сегодня авиакатастроф, но про них ничего не сообщали.
Я молча глазела на нее.
— Милочка, да так ты подхватишь пневмонию! Ведь у нас тут холодина, а ты даже без пальто. — Элинор выбралась из фургона, оставив дверцу приоткрытой. Она обняла меня, а затем отступила на шаг назад и снова стала разглядывать мои волосы. Я же смотрела на нее снизу вверх и недоумевала: неужели она всегда была такой огромной? На дороге тем временем машины с трудом объезжали ее громоздкий фургон и оглушительно гудели.
— Что ж, похоже, надо удирать. — Она нагнулась, подхватила своими веснушчатыми ручищами мою сумку и, слегка крякнув, закинула ее на переднее сиденье. Я сошла с поребрика, дождалась просвета в потоке машин, забралась внутрь и скользнула на обитое темным винилом кресло. И по виду, и по запаху его обивка напоминала жареный баклажан. Вот эту особенность Минервы и Элинор я помнила особенно отчетливо: их одежда и волосы всегда пахнут какой-то едой, подобно тому как вещи других женщин пропитываются духами или табаком. Я повернулась в своем кресле и кивнула пожилым дамам. У обеих были седые кудряшки и горбатые спины. Я бы приняла их за близняшек, но одна из них была чуть выше ростом, а ее голубые глаза казались подернутыми пленкой.
— Я Фредди, сестра Элинор, — представилась я.
— Солнышко, да мы о тебе уже все-все знаем, — ответила голубоглазая дама и протянула мне руку, туго обтянутую блестящей кожей и усеянную пигментными пятнами.
— Я Уинни Дэниелс, подруга твоей бабки. Ты ведь знаешь, что она вице-президент Клуба таллульских вдов? Ну, а я — его секретарь.
— А я Матильда Ланкастер, — сказала маленькая старушка, пожимая мне руку. На ней была серая фетровая шляпа, лихо сдвинутая набекрень. — Я в клубе недавно.
— В смысле, она недавно овдовела, — пояснила Уинни Дэниелс заговорщицким шепотом, наклонившись к моему сиденью. — Беда с этими новенькими — готовы расплакаться хоть от дуновения ветерка.
— Только не я, — взвизгнула Матильда, сверкнув глазами.
— Мы торопимся в клуб пенсионеров. — Уинни глянула на свои усеянные бриллиантами часики. — В канун Нового года мы всегда играем в «угадайку».
— Элинор вызвалась отвезти нас, — прибавила Матильда, — она вообще нас повсюду возит, с тех пор как у Минервы объявились эти ее катаракты.
— Бедняжка теперь слепа как крот, — покивала Уинни, а затем испугалась. — Не говори ей, что я так сказала, ладно?
— Что вы, мэм, — успокоила ее я, — мне бы и в голову не пришло.
Я покосилась на окно. Элинор стояла на тротуаре и объяснялась с женщиной-полицейским, то и дело указывая в сторону фургона. В этом необъятном бежевом свитере с длиннющими рукавами моя сестрица казалась человеком-горой. Кроме того, на ней была неровно подрубленная синяя шерстяная юбка, высокие кроссовки и лиловые носки. Одевалась она, как всегда, оригинально. Некоторые считали ее эксцентричной, но я-то знала, в чем дело: она подбирает одежду поудобнее, не заботясь о цветовой гамме. Тут женщина из полиции подняла руку, показывая, что с нее уже хватит объяснений. Элинор помчалась к фургону, нырнула в салон и навалилась на руль.
— Чуть не заработала талончик, — прошипела она. Ее щеки пылали, как апельсины-корольки. — «Незаконная парковка», чтоб их всех! Нет чтобы ловить настоящих преступников!
— Бог с ними, с преступниками, детка. Пора ехать, — сказала Уинни Дэниелс. — Не хотелось бы прийти на праздник последней.
Я откинулась на обитую винилом спинку. По радио все еще шло то самое ток-шоу, и Эдди Дагган по-прежнему принимал звонки по поводу землетрясений.
— Прошлым летом… кажись, тогда был август… точно, август!.. В общем, в Дайерсберге приключилось землетрясение, — сообщил слушатель с алабамским акцентом, — от него у меня вся дорожка растрескалась.
— Помню-помню, — ответил Эдди Дагган, — три и две десятые балла.
Элинор завозилась с кнопками, пытаясь отрегулировать обогреватель. Затем она обернулась назад:
— Наверное, надо вас всех представить.
— Мы уже познакомились, — улыбнулась я старушкам.
— Что ж, девочки, тогда держитесь! — И Элинор вцепилась в руль своими огромными ручищами. Она выжала газ, и фургон, шатаясь, ворвался в водоворот машин. Старушки ахнули, а я оперлась одной рукой о лиловую приборную доску. После полета на «Сессне» я была готова ко всему. Красно-белый грузовик метнулся в сторону и загудел на нас.
— Да вижу, вижу я тебя, — нетерпеливо ворчала Элинор.
Она сгорбилась над рулем и глядела на дорогу сквозь свои огромные очки.
— Минерва-то держится? — спросила я.
— Получше моего, — хмыкнула Элинор. — Бог мой, сколько сил у этой женщины! Сама знаешь, она давно привыкла к больным и реанимациям. Стряпает столько, что хватило бы на целый полк. Я уж боялась, что она затеет торт-гигант, но, слава богу, вроде одумалась.
Я улыбнулась, а старушки на задних сиденьях захихикали.
— Я так переживаю за Джо-Нелл, что чуть с ума не сошла.
Я улыбнулась, а старушки на задних сиденьях захихикали.
— Я так переживаю за Джо-Нелл, что чуть с ума не сошла. — Элинор опустила солнцезащитный козырек, закрывая нас от слабых зимних лучей. Затем она хлопнула ладонью по рулю, посылая гудок зеленому джипу. — Нет, ты это видела? Взял и подрезал меня, и мы чудом избежали аварии. И зачем только подросткам выдают права?!
— Это был не подросток, — возразила я, глядя вслед джипу, — а пожилой мужчина.
— Правда? — покосилась на меня Элинор. — Что ж, стало быть, мне пора менять очки.
С заднего сиденья донесся голосок Матильды:
— Нам всем пора, милочка.
— Только не мне, — заявила Уинни, — у меня зрение как у сорокалетней.
— А я стала слепнуть уже в тридцать девять, — вздохнула Матильда.
— Так Джо-Нелл до сих пор в реанимации? — снова начала я.
— Угу. Подвешенная к мониторам и прочим аппаратам. Помнишь, тот старый сериал, что мы когда-то смотрели, — «Человек на шесть миллионов долларов»? Его мне она и напоминает. Мне тут приснился ужасающий кошмар про то, что врачи отрезали Джо-Нелл настоящую ногу, а взамен пришили электропротез. По мне, так именно этим и кончится. — Глаза Элинор увлажнились, и она стала утирать нижние веки.
С заднего сиденья донеслось негромкое кудахтанье вдов, старавшихся утешить Элинор.
— Все хорошо, милая, — квохтали они и похлопывали Элинор по плечам.
— Вовсе нет, — отрезала она, утирая нос рукавом, — какое там хорошо!
Она свернула на Профит-стрит и остановилась перед выкрашенным охрой зданием, на котором значилось: «Клуб пенсионеров».
— Приехали, — объявила Элинор, улыбаясь вдовушкам, — и как раз к началу «угадайки».
— Ну какая ты душечка! — залепетала Матильда, подхватив свою сумочку и перчатки. — Ну правда же, Уинни?
— Святая, — подтвердила Уинни и кивнула мне. — И что бы я без нее делала?
Элинор выбралась из фургона и повела старушек по тропинке, поддерживая их под костлявые локотки. По радио Эдди Дагган обсуждал с новым слушателем вероятность образования разлома в центре Теннесси. Я протянула руку и переключила приемник на диапазон FM, сразу попав на песню Эрина Невиля «Говори все как есть».
Я глянула на улицу, но снова ничего не узнала. И как только городок мог настолько перемениться за какие-то восемь лет? Хотя, может, дело не в нем, а в моей памяти. Ведь я изо всех сил старалась забыть Таллулу. Когда мама вышла за Уайатта Пеннингтона, его мать, Мани, сочла своим гражданским долгом читать нам лекции по истории Таллулы. «Это один из старейших городков Теннесси, — вещала она и так размахивала руками, что ее бриллианты бешено искрились. — Суровые выходцы из Шотландии и Ирландии воздвигли его посреди каменной пустыни».
Но мы ее не слушали. И лишь теперь я увидела, что городок и впрямь похож на Мани и прочих Пеннингтонов. Все в нем было прочное, на века: крутые известняковые холмы с вкраплениями угля, серовато-зеленые кедры, цепко укоренившиеся в неглубоком слое почвы, волнистые горы, постепенно уходящие ввысь на востоке. Я прислонилась к окну и рассматривала город во все глаза. Дома вокруг площади были выстроены на совесть: сосновые полы, кирпичные стены, дубовые перекрытия и каменные фундаменты. Хоть Мани и скончалась в тот самый день, когда ее сына схоронили на городском кладбище, я по-прежнему слышала ее звучный гортанный голос, твердивший мне, что «эти дома развалятся ой как нескоро».
Прямо передо мной возвышалась колокольня здания суда, а вокруг нее — магазины, на плоских смолёных крышах которых рядками сидели голуби.
Несмотря на перестроенные фасады, я узнала некоторые дома: старую станцию, в прошлом белую, а теперь выкрашенную вильямсбергской лазурью. Новая вывеска гласила: «Авторемонтная мастерская Бобби Джо». А рядом был кирпичный спортзал со множеством окон, где я каталась на роликах, пока не выстроили специальный каток. Его флагшток был пуст, а над входом значилось: «Антикварный магазин Таллулы: 37 фирм под одной крышей». «Театр принцессы» превратился в мебельную комиссионку, на стене которой ажурными черными буквами было выведено: «Рождественская распродажа». Городок выглядел грустно, потрепанно и скорее убого, чем уютно. Именно так я всегда представляла себе стареющий город.
— Куда ты хочешь сперва: домой или в больницу? — спросила Элинор.
— В больницу.
Элинор глянула на свои старенькие часики фирмы «Таймекс» на черном кожаном ремешке:
— До приема посетителей еще целых сорок пять минут.
— Я поболтаю с Минервой.
— Но она дома, стряпает.
— Так она не в больнице?
— Ты же знаешь, как она готовится к приезду гостей. И вообще, нам вряд ли позволят шататься по реанимации. Ты точно хочешь туда поехать? — Она приподняла свои тонкие брови, словно испытывая меня: если ее пропащая сестрица Фредди выберет дом, она просто эгоистка, а если больницу, то, значит, в ней еще теплится искорка сестринской любви.
— Нет, едем домой, к Минерве. — Я взглянула на свои голые руки. — Я должна найти себе хоть что-то теплое, пока совсем не окоченела.
— Теплое? Неужто ты ничего не захватила?
— Нет, — пожала я плечами, — у меня нет теплых вещей.
— Ах, ну конечно. Все время забываю, что ты живешь в тропиках.
— Лишь пару месяцев в году.
— Думаю, шмотки Джо-Нелл будут тебе впору, — тарахтела Элинор, — у нее их столько, что можно открывать магазин. Кстати, она устроила платяной шкаф из запасной спальни, той, где мама держала попугайчиков, помнишь? Короче, одежду мы тебе найдем. — Элинор поджала губы и оглядела дорогу. Когда загорелся зеленый свет, она нажала на сцепление, и фургон рванулся вперед по Брод-стрит. Я заметила, что многие из прежних магазинов исчезли: «Сушеные травы Грейди», «Товары для мужчин», «Канцелярские принадлежности», кафе «Кунс 5-10». В центре все переменилось. На месте магазинчика дешевых товаров был теперь ресторан с оконными переплетами в колониальном стиле и названием «Чойсез», написанным узорной вязью. По одной стороне улицы тянулись сувенирные лавочки и бутики, в окнах которых висели платья и латунные светильники. Пропала даже «Армия спасения», а вместо нее появилось какое-то странное заведение под названием «Тряпки для богачей».
На углу Брод-стрит и Норт-Джефферсон-роуд Элинор свернула налево. Мы проехали мимо «Булочек Фреда», и я чуть не свернула шею, разглядывая закусочную. На двери висела красная табличка: «Мы открыты». В глубине я заметила деревянные стулья с красными клеенчатыми сиденьями, посетительницу у витрины и сухонькую седовласую старушку с подносом булочек.
— Я наняла себе помощницу, да боюсь, она нечиста на руку. Но ты меня знаешь: в тяжелые времена мне совсем ни до чего. Слушай, я понимаю, ты замерзла и все такое, но я должна тебе кое-что показать.
— Что?
— Место преступления, — Элинор заморгала, — где наша сестренка чуть было не ушла из жизни.
— Быть сбитой поездом — еще не преступление.
— Ну, хорошо: место происшествия. Хотя, как ни крути, машинист должен был заметить Джо-Нелл. — Элинор вскинула подбородок, обернулась к дороге и нажала на газ.
— Элинор вскинула подбородок, обернулась к дороге и нажала на газ. — Кстати о преступлениях: всего в двух милях отсюда одна пожилая дама решила подвезти молодую автостопщицу. И знаешь, что произошло? Девица укокошила старушку обыкновенной расческой! Расческой, представляешь себе? Череп у старушки был, видимо, тоненький, как кожура у созревшего перца. А потом эта соплячка избавилась от тела и отправилась в Мемфис на краденой машине. И куда только катится этот мир?!
Я молча таращилась на нее.
— Хочу еще заехать на автосвалку, что держит Джимми Перселл, — заявила Элинор. — Полюбуешься на ее «фольксваген».
— А это обязательно?
— Но я еще не была там. Зато теперь, когда ты рядом, я, наверное, перенесу это зрелище.
Фургон проехал мимо магазина для рыболовов. Где-то вдали замаячили зеленый мост и уголок реки Камберленд. Выехав за пределы города, мы миновали парковку грузовиков, мебельную лавку и еще один магазин для рыболовов, по-видимому уже закрытый на зиму.
Элинор так резко затормозила, что меня качнуло вперед. Когда я подняла глаза, оказалось, что мы остановились у какого-то приземистого здания.
— Все началось вот здесь, — провозгласила она.
— Что «все»? — Я глянула в окно. На крыше здания горела неоновая вывеска: «Старлайт». Вдобавок к гирлянде из разноцветных фонариков кто-то украсил дверь серебряной мишурой, а посреди прикрепил самодельную вывеску со словами: «Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!» На посыпанной гравием парковке стояли лишь красный грузовик и черный «бронко».
— Начало конца, — вздохнула Элинор. — Джо-Нелл заезжала сюда перед аварией.
— Правда? — я взглянула на здание. — А разве не здесь напивался Уайатт Пеннингтон?
— О, не напоминай мне о нем!
— По-моему, тут он и ошивался. — Я обернулась, чтобы получше рассмотреть «Старлайт».
— И полюбуйтесь-ка, до чего это его довело! Не дожил до собственного тридцативосьмилетия! Не зайди сюда Джо-Нелл, она бы сейчас не лежала в гипсе.
Я молча глазела из окна. На вывеске было сказано: «Открыто 24 часа». Что ж, я с легкостью могла представить себе Джо-Нелл в таком месте. Из отверстия в крыше «Старлайта» поднималась тоненькая струйка дыма.
— Думаю, она была подшофе, — едва слышно произнесла Элинор. — Хотя чего это я шепчу? Джо-Нелл нарезалась как сапожник, но это не ее вина. Только глянь, что за мерзкое заведение! Эти перегоревшие фонарики, которые годами никто не менял! Представляю себе, что за сброд здесь собирается. Небось под вечер тут одни уголовники!
— Поехали домой, — сказала я, взяв ее за руку, — хочу повидаться с Минервой.
— Ну, потерпи еще минутку! До железной дороги тут рукой подать. Мы уже столько проехали, что просто глупо не посмотреть на место аварии. — Она прищурилась, а затем нажала на газ. Фургон описал кривую, разворошив при этом опавшую листву. Я обернулась и увидела, как листья, кружась и сверкая на солнце, падают вниз и снова укладываются в желтый, как сладкий картофель, ковер.
МИНЕРВА ПРЭЙ
Теперь уж и не упомнить, когда у нас в последний раз были гости; наверное, еще когда Фредди училась в своей врачебной школе. Каждый раз, как она ехала домой, я делала двадцать дел кряду. Перестилала постели, размораживала заготовленные впрок угощения, жарила цыпленка, мыла столы, пекла персиковый пирог, а потом еще утюжила себе нарядное платье — то, что расшито узором из зонтиков. Но на сей раз я не стала рыться в холодильнике. Нет уж, разогретые кушанья хороши для похорон, но никак не подойдут для моей Фредди. Уж я-то знаю, как она любит все свеженькое: ведь в докторской школе ей рассказали все тайны здоровой пищи, да и живет она теперь в Калифорнии.
Уж я-то знаю, как она любит все свеженькое: ведь в докторской школе ей рассказали все тайны здоровой пищи, да и живет она теперь в Калифорнии. Ее приезд для нас такой праздник.
А кормить гостей — это как-никак мой конек.
За приличными продуктами я сбегала в магазинчик «Пиггли-Виггли», что на Эш-стрит. Там я накупила бараньих ребрышек, свежего салата, зеленого лука, две буханки французского хлеба, ирландского картофеля, красного винного уксуса и немного того оранжевого соуса, что так любит Элинор. Я не знала, захочет ли Фредди пирога или фруктов, и на всякий случай прихватила ванильное мороженое и клубнику. Пусть себе лежат в морозилке — в случае чего можно будет сделать торт-гигант.
Прибежав домой, я тут же помчалась на кухню. Кроме меня там, слава богу, никого не было, и я спокойно накрошила салат, нарезала лучок и подготовила хлеб для гренок. У меня были такие планы! Но вдруг я подумала: а что, если Фредди теперь эта… вегетарийка или ветеринарийка… в общем, которая не ест мяса? Она ведь нам рассказывала про своего муженька. Этот ее Сэм — большой чудак: не ест ни мяса, ни яиц. И как она ему готовит?! Я то и дело думаю о всяческих вкусностях, которых он себя лишает: о яичнице с беконом и пряностями или о торте со взбитыми сливками (ведь в нем на один только крем идет свыше десятка яичных желтков). Уму непостижимо, чем же такого парня кормить: салатом, резаными персиками да водой со льдом? Я перепугалась, что Фредди могла заразиться этой сумасшедшей диетой, и наготовила побольше салата на случай, если она не станет есть бараньи ребрышки. Много не мало, к тому же Элинор с радостью подъест все остатки. Для своего роста она не так уж много и весит, хотя в колготки, даже самые большие, ей теперь не влезть.
Едва заслышав тарахтение фургона, я понеслась в прихожую, открыла дверь и сбежала по ступенькам. И тут же увидала ее волосы — короткие-прекороткие, как у мальчишки! От этого ее глаза казались жутко большими и темными — совсем как у Руфи. Росточком она была с двенадцатилетнюю девочку, я и не помнила, что она такая кроха. Да и оделась она как-то… бедновато: штопаные джинсы, кроссовки да рубашечка с коротким рукавом.
— Минерва! — завизжала Фредди и, пробежав по траве, кинулась мне на шею. Затем она отступила и оглядела меня: — Ты стала поменьше ростом!
— А ты так исхудала. — Я схватила ее за руки. — На ужин у нас салат и запеченные бараньи ребрышки с пылу с жару. Мясо-то ты ешь?
— Еще бы, — она заулыбалась и взъерошила свои стриженые волосы. Я вздохнула с облегчением и потащила ее в дом, отпихнув с дороги Элинор. На кухне я усадила ее за дубовый стол.
— Ешь, детка, — твердила я, бегая туда-сюда и накрывая на стол.
— Ты хоть помнишь, что сегодня Новый год? — спросила Фредди.
— Как хорошо, что ты напомнила! — Я обняла ее за плечи и почувствовала, как торчат ее косточки. — Тогда я натушу нам черных бобов, они — к удаче.
— Да уж, удача нам не помешает, — откликнулась Элинор.
Когда они пошли в больницу к Джо-Нелл, я накинула пальто, взяла авоську с цветами и отправилась на кладбище. День был уже на исходе, солнце постепенно садилось, а с северо-запада подул холодный зимний ветер. Я направилась к площади. Кое-кто у нас жутко гордился, что Таллула стала такой новомодной, что в ней появились все эти лампы для загара, магазины с кинокассетами и китайские забегаловки. Но, на мой вкус, городок не слишком переменился. То, что подновилось снаружи, в глубине-то осталось таким же, как прежде. Вот этот платан стоит перед зданием муниципалитета уже сто пятнадцать лет, и именно на нем в девятьсот втором году повесили семерых человек: это в нашем-то веке, заметьте себе! На месте киномагазина прежде было кафе «Кунс 5-10».
Там, где раньше стояла скобяная лавка, теперь салон загара «12 месяцев», а место старенькой клиники доктора Чили Маннинга занял мебельный магазин. Если заболеешь, надо идти в больницу Красного Креста на шоссе Картидж, где каждый божий день принимают новые доктора, и всегда приезжие. Волей-неволей начинаешь думать, не натворили ли они чего в другом штате.
Кладбище лежит на высоком холме, окруженном синими горами и глубокими, заросшими дикими травами ущельями. Все те долгие годы, что минули со смерти Амоса, я то и дело хожу на площадь и карабкаюсь на этот холм, на вершине которого зеленеет кладбищенское плато. Я прохожу сквозь скрипучие железные ворота и делаю крюк мимо старинных надгробий, на которых выбиты даты восемнадцатого века. Внизу, как на блюде, лежит городок, по которому петляет грязно-зеленая речка, а на востоке громоздятся огромные махины гор. Деревца на кладбище в основном тоненькие и чахлые. Руфи и Амос похоронены подле группы кленов: летом они дают густую прохладную тень, а осенью их красные листья кружатся над могилами. Зимой же остаются лишь голые ветки, сквозь которые открывается вид на многие мили вокруг, причем о лежащем внизу городке напоминает лишь идущий к небу дымок. Встарь, как я ни тосковала по Техасу, во мне нет-нет да просыпалась какая-то нежность к Таллуле: ведь городок с таким кладбищем не мог быть совсем уж пропащим. Бывало, расставив цветы и направляясь домой, я на многое смотрела уже совсем иначе.
Проковыляв по посыпанной гравием дорожке, я миновала целый лес из надгробий Креншо и Пеннингтонов и подошла к камню единственного Прэя на всем погосте.
— Добрый день тебе, Амос, — пожелала я ему и, опустившись на коленки, отряхнула листья с его плиты. На ней уже вырезали и мое имя: «Минерва Прэй», только пока что без даты смерти. Что ж, я не возражаю. Только тут я и видала свое имя, написанное печатными буквами. Я подобрала искусственные цветочки, рассыпанные ветром, а затем вынула из авоськи пару пластиковых роз, закупленных впрок в «Биг лотс». Все вместе я красиво расставила в гранитной вазе. Затем кряхтя поднялась с колен и шагнула к могиле Руфи. Я хотела похоронить ее рядом с отцом, и это мне удалось: тогда, в семьдесят пятом, на кладбище было еще не так тесно. Я убрала подвядшие после недавнего града пуансеттии и расставила розы. Отойдя назад, я залюбовалась наведенной красотой. Самые роскошные могилы — я, разумеется, не о свежих — были убраны живыми венками, оставшимися после Рождества. Сплетенные из веточек сосны и кедра и перевитые красными лентами, они выглядели очень нарядно. В следующем году, с божьей помощью, надо будет принести сюда украшенные леденцами гирлянды. Джо-Нелл все подбивает меня украсить могилы фонариками (она говорит, теперь есть и такие, что работают на батарейках), но боюсь, кто-нибудь решит, что на холме живут призраки.
Дел-то было еще много — зимой могилы кажутся тоскливыми и заброшенными, — но я уже порядочно утомилась. Годы берут свое! В молодости, да и в зрелые годы, как-то не верится, что до такого дойдет: что в старости не будет сил даже на то, что в радость. К концу жизни у меня осталось лишь изболевшееся сердце да неухоженные могилы. Ветер раздувал полы пальто и хлестал ими меня по ногам. От холода заныли все косточки, а окоченевшие пальцы почти не гнулись. Я глянула на небо — жемчужно-серое, оно подернулось легкой дымкой, мерцавшей в вышине. Затем я двинулась к дорожке, засунув руки глубоко в карманы и пару раз обернувшись к Амосу и Руфи.
— До встречи, — сказала я им, — и с Новым годом вас обоих!
Просто стыд берет, что некоторые не убирают пуансеттии аж до самой Пасхи! Видать, забот полон рот. К тому же зимою в Теннесси так зябко, что из дому и выходить-то не хочется. Нет, на кладбище хорошо летом. Городок кажется таким пригожим, окруженный реками и горами, напоенный солнцем, под розовым кисейным небом с кружевными облачками.
С кладбища я видала красивейшие закаты. Некоторые все копаются, обсаживают могилы ирисами, чтобы вышла живая изгородь. Но я так не делаю. Мне нравится следить, как постепенно уходит лето, нравится выпалывать сорняки и чувствовать, как солнышко припекает спину. В июне, по утренней прохладе, я сперва убираю могилы Амоса и Руфи, а потом берусь за чью-нибудь чужую могилку, которая выглядит неухоженной. Порой даже кажется, что мертвых я знаю лучше, чем живых.
Когда приходит лето, я превращаю эти могилки в цветущий сад. С утра готовлю себе бутерброд, наливаю в баночку сладкого чаю и набираю в саду корзинку роз и дельфиниумов. Я начинаю полоть с краешка и вырываю все сорняки, весь черничник и дикие маргаритки. Оголодав, уплетаю свой бутерброд под дубом, на котором каждый год вьет гнездышко какая-то красная птичка. Иногда я закусываю тунцом, а иногда — яичным салатом. Я растягиваю удовольствие и любуюсь лежащим внизу городком с высокими белыми колокольнями, покосившимися крышами и машинами, жужжащими, точно шмели, на Вашингтон-авеню. Дни похода на кладбище бывают долгими и упоительными. Я вроде бы наедине со своими мыслями, но в то же время меня словно окружают тени родных. Скорей бы уже наступила весна! Спускаясь с холма, я услышала, как в ветвях одного из дубов запела иволга. Этой пташки я не слышала со времен своей юности в Маунт-Олив, и ее пение согрело мне душу. Я поняла, что это знамение, только доброе ли, дурное ли, не разобрала.
ФРЕДДИ
Едва войдя в центральную городскую больницу, я горько пожалела, что выкрала тогда в Мемфисе эти проклятые органы. Элинор направилась прямо к лифту, а я так и застыла в холле, кивая седовласым клеркам в регистратуре и прислушиваясь к шороху электрических дверей. За стеклянной перегородкой стрекотал матричный принтер, из которого постепенно вылезал лист бумаги. Без умолку звонили телефоны, и десятки разных голосов то и дело что-то отвечали, словно эхо, передразнивая друг друга. Я прошла через холл, улавливая обрывки разговоров из амбулаторного отделения.
— Простите, но нам нужен ваш страховой полис, чтобы…
— Ваше полное имя, пожалуйста.
— А это больно? Я почувствую боль?
— Пожалуйста, посидите здесь, пока вас не вызовут.
Пока мы с Элинор дожидались лифта, голос оператора из-под потолка непрерывно вызывал врачей: «Доктор Джемисон, зайдите в реанимацию. Доктор Траммел, перезвоните по номеру 6919. Доктор Грэнстед, вас ждут в операционной». Я уже и забыла авторитарную атмосферу больницы. Став пациентом, ты полностью отдаешься во власть совершенно чужих людей: медсестер, техников, диетологов, флебологов. Меня всегда раздражала эта система. Уже далеко не в первый раз мне пришло в голову: не оттого ли я выкрала органы, что хотела быть пойманной, хотя и знала, что это положит конец моей карьере. Но если так, если я и правда такая тряпка, то, выходит, я хотела порвать не только с медициной, но и с Мемфисом, и со своей первой любовью Джексоном Маннингом. Мы познакомились с ним в колледже, и оба мечтали стать ангиохирургами. Не припомню, чтоб я чувствовала разочарование или переутомление. Вкалывала как каторжная и слишком часто недосыпала, чтоб изобрести столь сложный план. Но разумеется, именно так и работает подсознание.
Реанимационная сестра пустила нас к Джо-Нелл, но та спала. Ее палата была частично застеклена: воздух в ней стоял прохладный и какой-то кислый. За ее кроватью выстроилась целая шеренга металлических аппаратов: подача кислорода, аспиратор, отсасывающий жидкости из полостей тела, сфигмоманометр, который измеряет артериальное давление. Ее капельница сообщалась с прокалиброванным агрегатом, который периодически клокотал, словно внутри него бился замурованный попугай. Мне показалось, что все реанимационные отделения одинаковы: в них всегда зима, и все словно тонет в снегах, льдах и коме.
— Мы скоро вернемся, — шепнула Элинор медсестре, которая пожала плечами и продолжила читать лист назначений.
— Мы скоро вернемся, — шепнула Элинор медсестре, которая пожала плечами и продолжила читать лист назначений.
Зал ожидания находился в новом кирпичном крыле больницы. В нем едва уловимо пахло специями, словно сквозь систему вентиляции прокачивали ароматическую смесь. Я не бывала в больницах со времен медицинского колледжа и удивилась, что в них теперь пахнет чем-то кроме лекарств; быть может, это только в центральной больнице Таллулы — лишь в этом крыле, на этом этаже, в этом безумном городишке.
Я оглядела зал: он был полон незнакомых лиц, дружно глазевших на нас с Элинор. Опустившись на стул с прямой спинкой, я запрокинула голову и закрыла глаза. До меня донесся голос оператора, гнусаво сообщавший, что Джексона Маннинга ждут в педиатрическом отделении. Мне невольно представилось, насколько иной была бы моя жизнь, не укради я тогда эти органы. В воображении зазвучал голос, произносящий мое собственное имя: «Доктор Мак-Брум, зайдите в операционную». Я бы носила накрахмаленный халат с моей фамилией, вышитой на кармане, а на шею вешала бы черный стетоскоп. Писала бы я с сильным наклоном, нечитабельным, как иероглифы, почерком. Я представила, как шагаю по этим длинным глухим коридорам, похожим на переходы в трюме военного крейсера. Мои туфли цокают по кафельному полу, вселяя уверенность в сердца пациентов, мимо которых я прохожу.
В реальности моя жизнь получилась совсем другой. Я работаю в купальнике, вдыхая кислород, проходящий через сложную систему трубок. Резиновый загубник регулятора всегда напоминает мне хирургическую маску из-за легкого запаха наркоза и сладковатого пьянящего воздуха, который наполняет легкие и делает меня невесомой. Опрокидываясь в воду навзничь, я словно впадаю в эфирный наркоз: мир вдруг начинает кружиться и переворачивается вверх тормашками. Но постепенно все становится на свои места: вверху оказывается солнце, а туманная синева переходит в бездонную кромешную тьму.
Еще студенткой я провела две недели у побережья Эквадора, где мои друзья разыскивали огромных зубатых хищников — кашалотов. Решив, что акваланги отпугнут их, мы экипировались дыхательными трубками и ушли под воду, стараясь заснять этих животных. Кашалоты очень любопытны и движутся на звук, как дельфины, щелкая и поскрипывая, словно кошка, танцующая на целлофане. Эти звуки запали мне в душу. Еще я плавала в охраняемых неглубоких водах к северу от Доминиканской Республики — там зимуют и спариваются горбатые киты. Во время брачных игр самцы поют своим избранницам длинные и пронзительные песни. Около острова Святой Каталины мы с Сэмом обнаружили трех голубых китов, крупнейших млекопитающих на Земле, сердца которых напоминают красные «фольксвагены». Представление о мире кардинально меняется, после того как поплаваешь рядом с существом, которое крупнее динозавра и мозг которого куда больше твоего собственного. Из меня вышел бы никудышный врач, но цетологом я стала не самым плохим.
— Фредди? Фредди Мак-Брум! Глазам своим не верю! — Передо мной стояла высокая и плотная женщина с седыми косичками. На ней были черные штаны со штрипками и бесформенная кофта, на которой не хватало одной пуговицы. — Ты как две капли воды похожа на свою мать!
— Это точно, — сказала Элинор, отрываясь от газеты.
Женщина нагнулась и обняла меня так крепко, что даже приподняла со стула. Затем слегка отстранилась и с удивлением оглядела:
— Что, деточка, неужто ты не помнишь меня?
— Простите, не очень, — ответила я и обернулась к Элинор за помощью.
— Я Клара! Клара Мэй Сэндерс. Я работала у вас в кондитерской после… ну, словом, после смерти вашей мамы.
— Ты же помнишь мисс Клару, ну скажи, — подсказывала Элинор.
— Разумеется, — вежливо согласилась я.
— Ты мне была как родная.
— Ты мне была как родная. Кстати, хочешь посмотреть на моих горлопанов? У меня уже трое внучков, хотя все говорят, что я не похожа на бабку. — Она тряхнула косами. — А тут я навещаю свекровь. Помнишь ее? Виллен Гибсон из городского совета? Во вторник минуло две недели, как с ней случился удар. Стала нагибаться, чтобы поставить пирог в духовку, и вдруг — бац! — повалилась на пол. Все волосы тестом перепачкала.
— Вам хоть дали его смыть? — Элинор даже подалась вперед.
— Ой, не догадалась попросить, — воскликнула Клара, — а думаешь, стоит?
— Как знать, — ответила Элинор, — нас-то к волосам Джо-Нелл не подпускают и на пушечный выстрел.
— Она что, тоже перепачкалась тестом? — Глаза у Клары округлились.
— Не тестом, а кровью, — изрекла Элинор.
— Боже мой! — ахнула Клара, всплеснув руками. — А что с ней случилось?
— Как, вы не слыхали?! — Элинор закатила глаза. — Ее сбило поездом.
— Не может быть!
— Клянусь Иисусом.
— Вот ужас-то! И ведь слышала, что кого-то сбило двенадцатичасовым, но и подумать не могла, что это Джо-Нелл, — пролепетала Клара совершенно убитым голосом. — А я-то и не знала! А все потому, что денно и нощно дежурю в этой клинике. Казалось бы, чем еще заниматься в больнице, как не сплетничать? Но нет, тут все как воды в рот набрали: так горюют, что им не до разговоров и не до пересудов. Вот все лучшие новости и проходят мимо меня. Представляете? Меня это просто убивает!
Когда Элинор заснула, я спустилась в лифте на первый этаж. Перед столовой вдоль стены тянулся целый ряд автоматов с закусками. Я выудила из кармана смятые банкноты, отыскала доллар и засунула его в автомат. В это время сзади подскочила какая-то женщина и стала хлопать меня по плечу.
— Ого, Фредди Мак-Брум! — закричала она. — Или теперь у тебя другая фамилия?
Я растерянно заморгала, но женщина, не дав мне прийти в себя, кинулась обниматься и едва не сбила меня с ног.
— Вы только посмотрите на нее! Выглядит как звезда кантри!
— Я? — Не зная, радоваться или обижаться, я с недоумением оглядела свою юбку, найденную в шкафу Джо-Нелл, синюю и чересчур короткую.
— Выглядишь на все сто, — продолжала женщина. У нее был хриплый, сильно прокуренный голос. Я совершенно не представляла, кто она такая, и это действовало мне на нервы. — Просто отлично, даже несмотря на эту стрижку. Должно быть, у тебя классная форма черепа — мне такая прическа ни за что не пошла бы.
Я по-прежнему хлопала глазами, и улыбка женщины начала тускнеть. С большим запозданием до меня дошло, что нужно было ответить: «О, что ты! Вот ты действительно похорошела». Но мне было наплевать: все эти любезности меня порядком достали. Я уставилась на женщину: ярко-зеленые глаза под густо накрашенными ресницами, рыжеватые волосы до плеч, завитые крупными кольцами, и широкий ярко намазанный рот. На ней была светло-розовая униформа, на кармане которой значилось: «Волонтер». А вот бейджика с именем не было.
— Я просто в шоке от происшествия с твоей сестрой. — Женщина затрясла головой. — Ведь ее сбил поезд, а она выжила, верно?!
— Ага.
— Что ж, привет ей от меня.
— Прости, — сказала я, — но что-то не припомню, как тебя зовут.
— А могла бы. — Ее улыбка стала приторносладкой. — Я Мэри Джун Кэрриган. И мы как-никак ходили в одну школу и один детский сад!
— Ой! — вырвалось у меня.
— Вот именно. — Она подняла брови и посмотрела на меня с презрением, словно изобличив во всех пороках клана Мак-Брумов.
— Столько времени прошло, — бормотала я, пока она раскуривала сигарету. Я и правда смутилась. Мэри Джун запомнилась мне круглой отличницей, капитаном группы поддержки футбольной команды и первой красоткой класса, тайно, но страстно влюбленной в бедового ветерана вьетнамской войны Эдди Старнса. Об этом парне я помнила лишь, что он был много старше ее. В школьные годы Мэри Джун не удостаивала меня вниманием. Ее родители были членами загородного клуба и владели недвижимостью в центре города. Помнится, ее отец имел офис в «Кэрриган моторс», но исключительно для виду. Он и не думал продавать машины, а просто проживал свое наследство. Как говорила моя мать: «Горацио Кэрриган не проработал и дня в своей жизни».
— Так ты вышла за Эдди Старнса? — спросила я.
— О господи. — Она скрестила пальцы в виде распятия. — Не напоминай мне об этом мерзавце! Я развелась с ним уже миллион лет назад. Сейчас я замужем за Бенни Хэррисоном — пока что он работает на папу, но очень скоро получит лицензию и откроет собственное дело. Нет, с Эдди покончено. Он слишком увлекался марихуаной, а этого я не могла потерпеть. Хотя, может быть, он достал меня чем-то другим, — она сжала кулак и откашлялась в него. — Слышала, ты стала кошатницей, говорят, страшно увлеклась котами.
Я подождала смешка, намекающего, что это шутка, но вид у нее был вполне серьезный.
— Китами, — поправила я, — я цетолог.
— Что-что? — Она наморщила лоб.
— Изучаю китов, — произнесла я как можно четче, — серых китов.
— Господи Иисусе! И как это тебя угораздило?!
— Ну, это довольно длинная и скучная история.
— Представляю себе. — Она закурила еще одну сигарету.
— Расскажи-ка лучше ты о себе, — предложила я. — Чем сейчас занимаешься?
— В смысле? — Она пустила колечко дыма, а затем ткнула сигарету в пепельницу. — Вот, как видишь, работаю волонтером. Подумываю пойти на заочные курсы дизайнеров по интерьеру. Но я не хочу связывать себя какой-то карьерой. Клуб женщин Таллулы удовлетворяет все мои творческие потребности. В данный момент мы занимаемся реставрацией довоенного поместья Белльвью на берегу реки Камберленд. Обязательно заходи посмотреть; вход стоит три доллара, и члены клубы тебе все покажут. А может, я лично устрою тебе экскурсию!
— Звучит заманчиво, — соврала я.
— А надолго ты приехала?
— Не знаю пока.
— Что ж, уверена, мы еще пересечемся. А сейчас мне пора — у нас дефицит волонтеров.
— До встречи, — сказала я с огромным облегчением.
— Пока-пока! — крикнула она, помахав мне тремя пальчиками. И, выскочив в холл, завернула за угол.
В начале одиннадцатого у меня уже ныли все кости. День прошел в беседах с Джо-Нелл и посиделках с некоей дамой по имени Этта П. Вон, которая только-только овдовела и которой мы с Минервой принесли обед.
— Спасибо за все эти лакомства, — сказала Этта Минерве, — но мне кусок в горло нейдет. Теперь, когда со мной нет Первиса, я, наверное, и вовсе перестану есть.
— Как бы не так, моя милая, — ответила Минерва, вынимая из упаковки шоколадный тортик, — ручаюсь, есть ты будешь. Не сразу, конечно: ведь поначалу-то от горя просто теряешь голову.
Когда мы добрались до дома, Минерва простонала, что ужасно устала и, если я не возражаю, готовить уже не будет. Так что я сама сделала салат из шпината, рубленого зеленого лука и чесночных гренок, а Элинор приготовила маковый соус. Когда мы мыли посуду, Минерва отправилась спать, сказав, что еле стоит на ногах. При этом у нее был такой грустный взгляд, что я задумалась, не пробуждает ли возня со вдовами ее собственные воспоминания.
При этом у нее был такой грустный взгляд, что я задумалась, не пробуждает ли возня со вдовами ее собственные воспоминания.
Я вытерла руки, села за стол и открыла таллульскую газету. На каждой странице зияли какие-то странные дыры, то квадратные, то прямоугольные, из-за которых ни одну статью нельзя было прочесть до конца.
— Только посмотри, что тут творится! — сказала я Элинор.
— Это для моего альбома. — Она указала на кухонный стол, где лежала стопка газетных вырезок высотой в два дюйма. — Стараюсь следить за событиями.
— Какими событиями? — уставилась я на нее.
— За разными, — нахмурилась она, — это сложно объяснить, так что не мешай.
— Но ты же испортила газету. — Я помахала перед ней разделом местных новостей, просунув пальцы в прорези. — Дай посмотреть, что ты вырезала.
— Погоди, я все это вклею в альбом. — Она постучала черно-белой стопкой о стол, выравнивая ее края.
Я облокотилась о стол и стала разглядывать стопку, выхватывая заголовки: «Облава в общежитии Сесил Г. Давенпорт увенчалась десятью арестами», «Вооруженное ограбление рынка Дулиттл», «Воришка в «Кей-Марте» клянется, что все четыре сумки — его собственные», «Десять машин столкнулись на шоссе № 65. Один человек погиб, трое ранены».
— Странный выбор, Элинор, — сказала я.
— Вовсе нет! — Лицо у нее так и вспыхнуло. — Я слежу за тенденцией? В преступном мире, как и в мире моды, есть свои тенденции?
Я и забыла ее привычку возвышать голос в конце предложения, превращая любую фразу в вопрос. Изумленно качая головой, я старалась переварить ее слова.
— Но почему бы тебе не следить за тенденциями в кулинарном мире?
— А почему бы тебе не заткнуться? — Она свирепо глянула на меня. — Можно подумать, все остальные в этом доме без закидонов.
Тут за моей спиной раздался телефонный звонок, и я кинулась к аппарату, расплескав свой кофе.
— Алло, — выговорила я, едва шевеля губами. Препирательство с Элинор основательно взвинтило меня.
— Ну у тебя и голос, — хмыкнул Сэм. (Не «Привет», не «Как я соскучился», а «Ну у тебя и голос»!)
— А что? — Я улыбнулась и оперлась о кухонный стол, не сводя глаз с Элинор и ее вырезок. Она сердито покосилась на меня и ринулась прочь из комнаты.
— Как там Джо-Нелл? — спросил Сэм.
— По счастливой случайности жива. У нее был разрыв селезенки, и бегать ей пока что рано, но она поправится. Выглядит совсем неплохо. Медсестры говорят, что через пару дней ее переведут из реанимации в обычную палату.
— Отличные новости! Так когда ты вернешься?
— Скоро. — Я машинально теребила телефонный кабель, наматывая его на запястье. — А как дела на побережье?
— Здесь-то? У нас все тихо-мирно. После твоего отъезда приплыли еще пятнадцать новых самок. — Он помолчал. — Завтра я думаю съездить в Санта-Росалию и пообедать в «Лас Брисас».
— С Ниной? — Я даже затаила дыхание. Когда мы с Сэмом живем в Нижней Калифорнии, поездка в «Лас Брисас» становится чем-то вроде ритуала.
— Ага, — ответил он.
— Ясно. — Мне стало очень грустно. Я даже закусила губу, чтобы не крикнуть: «Так нечестно!»
— Вообще-то я хотел понырять в Мулеге, но Нина соскучилась по мексиканской кухне. Так что планы изменились.
— Должно быть, она умеет убеждать, — сказала я, пытаясь прикинуть, где он сейчас ночует.
Я представляла его то в отеле «Мирабель», где между ним и Ниной шесть гостиничных номеров да дворик с опунциями, то на названной в мою честь лодке, где между ними всего-навсего легкое летнее одеяльце.
— Не знаю, но мы скоро вернемся. Надеюсь только, что ни одна из самок за это время не разродится.
— Да уж, это было бы ужасно, — процедила я. Это стало бы притчей во языцех, если бы за время их с Ниной поездки в Санта-Росалию все самки дружно разродились. Убитые горем, они бы сняли номер в «Ла Пинта Герреро-Негро», один из двадцати девяти номеров в колониальном стиле с окнами на пляж и стенами, увешанными какой-то мексиканской мазней. От их бурного соития картины застучали бы о стены, и портье пришлось бы позвонить им в номер с просьбой: «Por favor, se~nor[15], нельзя ли чуть потише?» А Сэм бы ответил: «Perd'oneme[16], но дама, наоборот, просит побыстрее».
От этих мыслей у меня защипало глаза. Мое воображение немилосердно жестоко ко мне. В итоге я пробормотала:
— Надеюсь, вам будет весело.
И тут же закусила палец, чтоб не разрыдаться. Я так вцепилась в телефонный провод, словно надеялась ощутить, как по нему бежит голос Сэма.
— Я бы предпочел быть рядом с тобой, — сказал он.
«Так что ж ты остался?!» — едва не выпалила я. Разлука была для нас чем-то совершенно небывалым. Все эти годы мы никогда не расставались, если не считать того короткого эпизода, когда Сэм потерял голову от художницы-лактовегетарианки. Я вспомнила нашу с ним первую зиму на полуострове. Мы тогда отправились в Пунта-Приету и заночевали в палатке. Спать мешали дыхание китов, тявканье койотов и неумолчный лягушачий хор. Но я просто влюбилась в Сан-Игнасио, в его пруды, рощи финиковых пальм и заросли дикого винограда. Обучая меня определять местонахождение кита, Сэм показывал, как наблюдать за водой. Даже если кита не видно, есть целый ряд безошибочных признаков его присутствия. Во-первых, надо прислушиваться к «хлопкам», возникающим от контакта горячего дыхания кита с холодным морским воздухом. При каждом выдохе раздается похожее на взрыв «у-уш», от которого вечером становится не по себе. Во-вторых, нужно искать нечто вроде масляных пленок, возникающих на воде от работы хвостовых плавников. Но теперь я старалась припомнить, не замечала ли каких-либо примет, проясняющих отношения Сэма и Нины. Все это меня страшно расстроило.
Спустя минуту он произнес:
— Фредди, ты что-то не особо разговорчива.
— А о чем мне говорить?
— Ты что, сердишься?
— Я? С чего бы вдруг? — Я рассмеялась. — Ты ведь всего-навсего идешь на ужин со своей белобрысой ассистенткой. Чего тут сердиться?
Теперь настала его очередь помолчать.
— Это всего лишь ужин, — сказал он.
— Всего лишь! — передразнила его я.
— Я могу не ехать, если тебя это так злит.
— Нет, что ты! Развлекайся. — Я снова закусила большой палец.
— Но это же не свидание.
— Разумеется, нет.
И мы продолжили молчать в трубку, думая каждый о своем. Тут мне пришло в голову, насколько глупо вести подобный разговор по междугородней связи. Пока я подыскивала, что сказать, Сэм кашлянул, прочищая горло. Мне пришлось сдержаться, чтоб не спросить, не простыл ли он.
— Позавчера рядом с островом Нативидад я не видела никакой акулы, — сказала я исповедальным тоном, — там был кит.
— Серый?
— Да.
Последовала длинная пауза.
— Он задел тебя?
— Нет, просто ударил хвостом по воде, и меня откинуло волной.
— Но я не видел завихрения.
— Но я не видел завихрения.
— Возможно, ты не смотрел на воду.
Последовала еще одна пауза.
— Но почему ты ничего мне не сказала?
— Потому что Нина издевалась надо мной.
— Разве?
— Вот видишь! Ты совершенно невнимателен. Просто ненавижу эту мужскую рассеянность.
— Я ничуть не рассеян. Кажется, это ты напоролась на кита, а не я!
— Да, но на крючок-то попадешься ты.
— Что?
— Да так…
— Так значит, ты злишься!
— Вовсе нет.
— Не надо, милая.
— Все, мне пора, — сказала я.
— Стой! Я позвоню тебе завтра.
— Из Санта-Росалии? — ядовито усмехнулась я.
— Где буду, оттуда и позвоню, — голос у него был то ли усталый, то ли раздраженный — не видя его лица, определить сложно. В это время года с утра до вечера дует северо-западный ветер, от которого у меня воспаляются глаза и портятся нервы. Я подумала о Санта-Ане, ветре, который свищет в ущельях Южной Калифорнии, временами набирая ураганную силу. Этот знойный сухой ветер налетает в конце лета и стихает осенью, но я слыхала, что иногда он поднимается и зимней порой. Сэм рассказывал мне, что зимой 1967 года, за несколько месяцев до «лета любви», из-за этого зловредного ветра в горах Сан-Габриэль полыхали ужасные пожары. И теперь я невольно подумала, не воет ли уже пламя в глубине каньонов, направляясь к Нижней Калифорнии и неся мне беду.
Я выплеснула остатки кофе в раковину. Было слышно, как Элинор в гостиной кромсает какие-то новые газеты. Ее ножницы то поскрипывали, то замолкали — в эти моменты она, несомненно, вклеивала вырезки в свой альбом. Эти звуки стали раздражать меня, и я отправилась наверх.
Я заглянула в старую комнату Джо-Нелл: стены оклеены серовато-зелеными обоями, на окнах соломенные жалюзи. Железная кровать выкрашена в белый цвет, а лежащее на ней пушистое одеяло в полоску небрежно скомкано, словно сестрица только что встала с постели. Все стулья и велотренажер завалены одеждой. Отовсюду торчат пачки печенья «Гурме» и бутылки из-под диетической колы. Дорожка из шелковых чулок ведет к платяному шкафу, битком набитому платьями и свитерами, пестрые слои которых напоминают «многоэтажный» бутерброд со сладким перцем. Музыкальный центр стоит прямо на полу среди кучи компакт-дисков.
Я подошла к мраморному туалетному столику и увидела телефонную книжку, открытую на букве «Б». Там значились Эдди Баскум, Ронни Белл, Карл Бауман и Джо Рэй Браун, а остальные имена были вычеркнуты лиловыми чернилами. Я провела рукой по мраморной крышке. Между бутылочками с лаком для ногтей и тюбиками с румянами примостился винный бокал. Подняв его, я увидела кружившую внутри диковинную золотую рыбку. Держать бедняжку в неволе — как это похоже на Джо-Нелл! В детстве она ловила светлячков в банки из-под майонеза, а теперь охотится на мужчин. Но они ведут себя в точности, как прежде букашки: либо удирают на волю, либо умирают. Я поднесла бокал к свету. Он был узенький, похожий на тюльпан — и как это рыбка в нем выжила?! Я поискала глазами какую-нибудь крупную миску, но ничего не нашла. Понося своих полоумных сестер, я отнесла бокал к себе в спальню, где на чугунной подставке журчал старинный аквариум. Казалось, он бурлит уже сотню лет, словно какой-то заколдованный котел. Я установила его лет двадцать назад; неудивительно, что водоросли так сильно разрослись и уже вовсю карабкались вверх по стеклянным бортикам. В его сумрачной глубине стоял сундучок с кладом, который открывался и закрывался, как ракушка, выпуская при этом мириады пузырьков. Я опустила бокал в воду, и рыбка уплыла.
На ночь я надела Минервину фланелевую ночнушку, светло-бежевую в фиолетовый цветочек.
В моей старой спальне все было так же, как в тот день, когда я уезжала. Из соснового книжного шкафа торчали учебники по биологии, а стены были абсолютно голые, без единого постера или фотографии. По обе стороны от складной кровати стояло по торшеру. Окна выходили на Ривер-стрит, причем портьер на них не было, а только пыльные венецианские жалюзи. Сэм сказал бы, что это комната буддистки.
Садясь на пуховую перину, я почувствовала, что ужасно тоскую по нему. Я твердила себе, что на меня просто действует холодный ветер с гор — по всей видимости, близкий родственник ветров из Санта-Аны. Мне страшно хотелось позвонить ему в Мексику; уже сам звук его голоса напомнил бы мне, что мир гораздо шире Таллулы.
И я сосредоточилась на мыслях о Северной Калифорнии. Для меня это как чтение мантр; воспоминания о Дьюи успокаивают не хуже пения «ом». Тамошний климат далеко не сахар: дожди зимой, туманы летом и в любое время года землетрясения. Но мне-то нравятся бури и все прочие ненастья: они служат благовидным предлогом для того, чтобы валяться в постели, читать триллеры и детективы, дремать у окна и слушать завывание ветра. Иногда балки перекрытий начинают скрипеть, и я вспоминаю про «Мисс Фредди» и наши поездки на юг.
Ранчо мистера Эспая стоит у самого берега Тихого океана, прямо на прибрежных скалах. Поросшая травой тропинка, длиной всего в полмили, ведет к лодочному сараю, в котором мы храним каноэ, байдарку и парусник. По утрам во время тумана, когда мы с мистером Эспаем считаем овец, я слышу лай морских львов.
Мои мысли снова вернулась к Сэму и Мексике. Сейчас он, скорее всего, в лагуне и наблюдает за беременными самками. Ранним утром киты подплывают близко-близко к берегу, словно в свою очередь наблюдают за нами. Можно встать практически в любой точке дюн или взобраться на обзорную вышку и в бинокль увидеть, как в воде шевелятся их широкие лоснящиеся спины. Порой молодые самцы выпрыгивают из воды, стараясь привлечь внимание свободных самок. При этом они фонтанируют, словно гейзеры, и оглашают воздух шумными всплесками. Когда в лагуне сгущаются сумерки, а воды окрашиваются в пурпурные тона, эти знакомые, но немного жутковатые звуки становятся еще громче.
Я просто изнемогала от тоски. Меня занесло в Таллулу, а мой любимый остался за миллион миль от меня. Мы оказались на противоположных концах страны, и меня не оставляло чувство беспомощности. Пока состояние Джо-Нелл не стабилизируется, о том, чтоб вернуться назад, не могло быть и речи. Ведь я люблю своих близких. И, даже будучи физически далеко от дома, я все равно с ними связана сотней невидимых ниточек. Пусть даже главными в своей жизни я считаю последние восемь лет.
Неожиданно из комнаты Минервы донесся какой-то странный скрип, словно кто-то раздирал пополам кусок ткани. Я скинула одеяло и прокралась на цыпочках через холл. Стоя у двери ее спальни, я взялась за стеклянную ручку. Мои пальцы легли в ее прохладные на ощупь углубления. Тут скрип прекратился, и послышался протяжный стон. Такие жутковатые звуки, как правило, слышишь лишь в черно-белых фильмах ужасов. На миг меня словно парализовало: я не могла ни постучать, ни уйти прочь. Поэтому я просто приникла к стене и опустилась на корточки. Какую-то секунду я была готова пойти к Минерве и поплакать вместе с ней, но сидеть и слушать оказалось куда спокойнее. У меня возникло ощущение, что все на свете вот-вот рассыплется на кусочки: стены, фундаменты, штукатурка. Всякая материя в конце концов дряхлеет и распадается — так стало с папой, мамой, Уайаттом Пеннингтоном и его матерью. Обветшал даже наш старый дом на Ривер-стрит. Время изранило всю мою жизнь, и с этим ничего не поделать; бессмысленно даже пытаться остановить его.
Минуту спустя я встала и возвратилась в свою комнату. Забравшись в постель, я не могла отделаться от мыслей о Сэме. Он настойчиво представлялся мне в «Лас Брисас» вместе с Ниной.
Он настойчиво представлялся мне в «Лас Брисас» вместе с Ниной. Хотелось убедить себя, что он тоже по мне скучает, но, скорее всего, он был рад отдохнуть от моего хмурого и тревожного характера. Наконец-то он мог нырять даже при сильном волнении, плавать среди акул и ставить «Мисс Фредди» на песчаные отмели. Ведь в случае чего никто не станет шипеть: «А я тебя предупреждала!» А Нина небось будет только подзуживать: «Давай-давай, она же ни о чем не узнает».
Взойдя на борт «Мисс Фредди» в Сан-Диего, Нина тут же направилась ко мне.
— А ты, надо думать, жена Сэма Эспая, — сказала она и, взяв мою руку, энергично пожала ее. Затем ее взгляд скользнул по моим коротким взлохмаченным волосам.
— Добро пожаловать на борт, — ответила я.
В своих шерстяных шортах и залитой вином футболке с надписью «Бедовая девчонка с Дикого Запада» я показалась себе просто оборванкой. На мне были поломанные темные очки, скрепленные уродливым куском проволоки.
— Для меня большая честь — быть ассистенткой Сэма, — заявила Нина, и я невольно заморгала. Она уже дважды (а я не забывала вести счет) назвала моего мужа Сэмом, вместо того чтобы употребить более официальную форму — «доктор Эспай». В этом мне почудился зловещий знак, как, впрочем, и в ее безупречной улыбке. Нинины зубы казались неправдоподобно ровными, словно изготовленный с виртуозной тщательностью фарфоровый шедевр какого-то протезиста. На ней были белые холщовые тапочки и белые же аккуратно закатанные носки. Ее джинсы были обрезаны чуток коротковато, а на футболке значилось: «Конвенция Менса, 1994».
В первую же неделю на полуострове Нина уговорила Сэма выйти на «Мисс Фредди» в открытый океан. На протяжении многих миль нам не встретилось ни единого кита. Серые самки, как правило, держатся в лагунах, рядом с молодняком и самцами. Мы с Ниной сидели на правом борту, потягивая «Сидралс». Сэм же выключил мотор, открыл холодильник и достал себе банку пива. После пары глотков он принялся болтать обо всех наших знакомых исследователях, работающих в Скэммоне в паре со своими женами или мужьями в течение многих лет. Большинство из них уже перестали приезжать. Загибая пальцы, Сэм перечислял, кто теперь где. Один из них — в заливе Фанди, изучает какой-то вымирающий подвид китов. Другой обосновался на Карибах, причем китов он забросил и замеряет количество планктона в разных слоях воды во время прилива. А еще один умер: в возрасте сорока лет у него случилась церебральная аневризма.
Он так разглагольствовал, что я даже отложила журнал «Пипл» и уставилась на него: эта тема привлекла мое внимание. И Нинино, кстати, тоже. Она благоразумно делала вид, что увлеклась стареньким атласом морских раковин, но при этом ни разу не перевернула страницу, из чего явствовало, что она прислушивается к разговору.
— Просто многие теряют интерес, — бросила я, — да и правительственные гранты.
— Видимо, так, — отозвался Сэм.
— Простите, что прерываю вас, — сказала Нина, опуская книгу, — но мне просто до чертиков любопытно взглянуть на трахающихся китов. Как думаешь, Сэм, мне повезет?
— Если будешь внимательна.
— Еще как буду! — Она откинула назад непослушный локон и улыбнулась. — А ты-то сам такое видел?
— Только из лодки, — рассмеялся он, — ближе не подобраться: они поднимают такое волнение!
— А я бы подобралась. — Нина нагнулась над столом, и ее волосы свесились вперед. — Но вот что меня удивляет: здешние ученые просто свихнулись на китовом потомстве, а вот сами размножаться не спешат. Так странно! Ведь могли бы.
— Могли бы что? — спросил Сэм.
— Обзавестись детьми. Сюда, конечно, малышню привозить нелегко. — Она откинула волосы с лица. Пшеничного цвета пряди зацепились за золотую сережку, и она согнула палец, чтобы высвободить их. — Но, будь у меня малыш, я бы взяла его с собой. Стала бы местной Джейн Гудолл, а мой маленький Граб носился бы по дюнам. А у вас-то дети есть?
— Нет, — ответил Сэм. Он покрутил в руках банку и глянул на меня.
— У меня-то будет штук пять карапузов, — заявила Нина, — и постоянная няня.
Не знаю, о чем в ту минуту подумал Сэм, но я представила, как Нина расхаживает по дюнам, а за ней трусит целый выводок белобрысой мелюзги. Я хотела было сказать, что дети помешают работе, но осеклась. И правда, странно, что я бездетна, в то время как дело всей моей жизни — изучать размножение у китов. Обычно я не думаю о детях: не зная, чего лишен, не особенно тоскуешь. У меня было три выкидыша, причем в последний раз плод умирал во мне постепенно, словно залитый дождями росток люцерны. На эхограмме был виден эмбрион с остановившимся сердцем; плацента же усиленно выделяла гормоны. Потом у меня началось кровотечение, а груди набухли, став сизыми, как перезрелые баклажаны. Беременность была и исчезла. Мой доктор назвал это «спонтанным абортусом» — в Таллуле никто бы не понял этого термина. Там бы лишь заметили созвучие со словом «аборт» и заклеймили меня как детоубийцу. И в каком-то смысле они были бы правы: ведь мое тело отказывалось давать жизнь новым существам, предпочитая убивать их.
После каждой детородной неудачи я приезжала в больницу и врач выскребал мое лоно. Я напоминала самой себе тыкву под Хэллоуин, в которой моя мама копается ложкой, выгребая семечки, пленки и жилки. В детстве это казалось милой детской забавой, но теперь стала закрадываться мысль: а вдруг это было знамением? По какой-то странной причине обе мои сестры так же бесплодны, как и я. Клан Мак-Брумов вымирает, и ни одна из нас не в силах этому помешать.
На следующий день, вечером, мы сидели в пустынном дворике ресторана «Маларримо» и пили текилу. Звезд не было, и дул сильный ветер, обрывавший листву с миндального дерева. Я прижалась к Сэму и нежилась в его объятиях, радуясь, что Нина все это видит. Она же перемывала косточки одной особе, которую мы встретили пару дней назад в лагуне Скэммон. Эта рослая брюнетка по имени Келли Как-ее-там бросила мужа и детей ради работы в «Биологических путешествиях», компании, делавшей деньги на экотуризме, который процветал в здешних краях.
— Она из Огасты. — Это прозвучало как объяснение безрассудного поведения женщины. К ужину Нина приоделась: ее точеные ножки были едва прикрыты джинсовой мини-юбкой, а упругие грудки отлично просматривались под полупрозрачным топом. Не переставая теребить свои мочки и торчащие в них золотые колечки, она надкусила лимон и прослезилась.
— Этакая огневая огастчанка, — рассмеялась Нина. — Говорят, южанки в постели просто огонь!
— Что правда, то правда, — кивнул Сэм и, смеясь, приподнял бокал.
— Знаешь по собственному опыту? — Нинина светлая бровь скользнула вверх.
— Еще бы. Фредди — южанка.
— Вот это да! Черт меня побери! — воскликнула Нина и улыбнулась мне: — А откуда ты?
— Из Теннесси, — буркнула я.
Она снова улыбнулась и, тряхнув головой, ткнула пальцем в мою сторону:
— То-то я слышу, что у тебя провинциальный выговор.
— У меня?
— А я все думаю, где ты его подцепила! — Она склонила голову набок. — Скажи, а тебя саму не смешит этот кондовый акцент? Да, я знаю, что ты жутко умная, но этот говорок…
— Ну а тебя не смешат твои блондиночьи ляпсусы? — спросила я.
Сэм стиснул мое колено. В ответ я ущипнула его за бедро, причем изо всех сил надавив ногтем, чтоб показать, насколько я зла. Но он даже не дрогнул, и я подумала, что текила снижает у него всякую чувствительность, включая тактильную.
Нина оставила мою реплику без ответа. Вместо этого она облизала тыльную сторону кисти и посыпала ее солью. Словно зачарованная, я смотрела, как она дергает подбородком, посасывая свой лимон, опрокидывает стопку текилы и снова принимается за соль. Я от души пожелала ей участь Лотовой жены. Как-то раз я видела Нину на пробежке по дюнам: за плечами у нее прыгал мокрый хвостик, локти прижаты к ребрам. Она выглядела такой молодой и самоуверенной, что у меня аж екнуло сердце.
— Был у меня один южный паренек, — сказала Нина, — кажется, из Луизианы, хотя, может, и из Кентукки. Просто симпатяга, но говорил так, что я не разбирала ни слова.
— Так как же вы объяснялись? — спросил Сэм.
— На языке телодвижений. — И Нина бросила на него пугающе обольстительный взгляд, а затем обернулась ко мне: — И что же привело тебя в Мексику?
— Киты. — Я пожала плечами.
— Она поехала за мной, — улыбнулся Сэм.
— Интересно. — Нина прикрыла рот рукой, словно пряча ухмылку. Где-то за двором солнце уже садилось, и декабрьский вечер таял во тьме. Кусочек неба над отштукатуренной стеной стал темно-лиловым и пошел рыжеватыми полосами. Нина по-прежнему посмеивалась в кулачок.
— Стало быть, Сэма привели сюда киты, а тебя — Сэм? — уточнила она, приподняв одну бровь.
— Все было чуть сложнее. — Я потерла палец об оправу очков.
— Ну разумеется. — Она надкусила еще один ломтик лимона, а затем нахмурилась, отчего на лбу у нее обозначились две складочки. — А можешь обучить меня южному акценту?
Скажу без обиняков: мне б и в голову не пришло защищать ненавистное место, а Таллулу я ненавижу всей душой, но в тот момент мое сердце так и подпрыгнуло. Я даже глянула на Сэма, чтоб увидеть его реакцию, ведь сама была просто в бешенстве, и не из-за какой-то местечковой гордости, а просто потому, что выпила лишнего. Но вместо того чтоб залепить ей пощечину (что сделала бы с наслаждением), я гордо вскинула голову и с утрированным акцентом протянула:
— Уж прости меня, милочка, но это должно быть в крови.
— Да ты покраснела! — Она расплылась в улыбке, обнажив свои идеально прямые резцы. — Что это: девичья скромность, или я задела слабую струнку?
— Если заденешь, я тебе сообщу.
— Это правда: еще как сообщит. — Тут Сэм рыгнул, и Нина заржала.
— Вот это точно по-южному, — хохотнула она и, подтолкнув его локтем, расплескала текилу.
— Прошу прощения. — Он отставил стопку и облизнул запястье. Выпустив меня из объятий, он встал на ноги и побрел в темный уголок двора. Вскоре послышалось, как струя мочи плещет о ствол миндального дерева, а Сэм с облегчением вздыхает. Нина чуть наклонила голову и улыбалась своим мыслям. Так я обнаружила грань между психологией и физиологией: слушать, как Сэм писает, в присутствии посторонней бабы было просто дико.
— А в Ла-Холле у тебе есть парень? — спросила я Нину нарочито громко и без тени акцента.
— Был, но между нами все кончено. — Нина встряхнула пустую бутылку. Стрельнув голубыми глазами, она уставилась на моего ненаглядного, который шел к нам, то и дело спотыкаясь и застегивая ширинку.
— Текила кончилась, — объявила она, протягивая ему пустую бутылку. — Но гляди: я оставила тебе червячка!
ЭЛИНОР
Когда мы с Фредди вошли в палату, медперсонал, подхватив Джо-Нелл под мышки, пытался поставить ее на ноги.
— Мне больно! — орала она. — Ей-богу, ужасно больно!
— Так надо, иначе будут неприятности, — сказал ей медбрат Дуэйн. У него были заостренные ушки и хитрые зеленые глазки. Недоставало только фетровой шапочки, а так — вылитый пряничный эльф.
— Обожаю неприятности, — буркнула Джо-Нелл.
Это правда: любит и постоянно их себе создает. Она зажала рукой, согнутой в локте, шею Дуэйна и стала душить его. Бедняга начал задыхаться и запищал голоском Дональда Дака:
— Прекратите, немедленно прекратите!
— Не желаю ходить! — рявкнула она.
— Ради бога, — проскрипел он медсестре, — уложи ее в кровать!
— Поосторожнее там, — предупредила я, едва они заковыляли обратно. Я засучила рукава, показывая, что тут же пресеку любую их выходку.
— Боже, я чуть жива, — простонала Джо-Нелл и, глядя в потолок, откинулась на подушку. Когда медики отошли, я наконец-то оглядела сестренку с ног до головы. Ее светлые волосы потускнели и свалялись, словно шерсть дворового котяры после сотни кровавых побоищ.
— А можно помыть ей волосы?
— В реанимации не положено, — отрезал Дуэйн, а затем присел на корточки, поднимая ограничитель кровати.
— Но хоть косичку-то можно заплести?
— Не советую, — не уступал он.
— А может, посоветоваться с доктором и спросить, как он считает? — ввернула Фредди. Какой у нее все же приятный и тихий голосок! Китам-то от этого ни холодно ни жарко, но каким бы она стала врачом!
— Здесь не салон красоты, — завопил Дуэйн, — а больница! Не вздумайте и притрагиваться к ее волосам: там столько трубочек, что вы обязательно какую-нибудь сорвете. Вам ясно?!
— А вдруг у нее заведутся вши? — И я показала рукой, как они ползают.
— Вши?! — вскричали Джо-Нелл и Дуэйн, а Фредди зажала рот рукой, словно стараясь не рассмеяться.
— Вот послушайте, — начала я, — я-то знаю, о чем говорю. Мне рассказывали про одну тетку, которая развела на голове такое воронье гнездо, что туда наползли тараканы. Видать, их привлекли перхоть и запах пота. Когда на лоб побежала кровь, волосы сбрили; да только было уже поздно: тараканы прогрызли ей череп до самых мозгов.
Джо-Нелл фыркнула, а Фредди сказала:
— Но это же глупые выдумки!
— И вовсе нет! Истинная правда! И даже если не верите, волосы все равно надо мыть.
— Они что, и правда такие грязные? — Лицо Джо-Нелл скривилось и стало почти таким же плоским, как у меня. Она подняла руку и ощупала челку.
— Хм-м-м, а может, вы и правы. — Дуэйн почесал подбородок своим наманикюренным ногтем. — Ее прежних фотографий у меня нет, так что судить, конечно, сложно, но я понимаю, о чем вы. Волосы и правда смахивают на паклю, да еще все эти колтуны и запекшаяся кровь…
— Да уж, — кивнула я, — эти слипшиеся лохмы ей совсем не идут.
— Но их же ничего не стоит сбрить, — шепнул мне Дуэйн, — это-то хоть сейчас.
— Оставьте в покое мои волосы, — взревела Джо-Нелл.
— Миленькая моя, но я ж добра тебе хочу, — я было хотела потрепать ее по головке, но во время отдернула руку. — И потом, не в волосах счастье.
— Разок обреем, а потом еще и лучше вырастут, — убеждал ее Дуэйн, а затем слегка дотронулся до ее простыни. — Поклонников-то у вас, думаю, нету.
— Есть! — Джо-Нелл вскинула подбородок и хмуро поглядела на него. — У меня их пруд пруди.
— Как и у меня, — подмигнул он ей.
— Да заткнись уже, Дуэйн!
— Сами начали, — пропел он и, похлопав себя пониже спины, выпорхнул из палаты.
— У меня их пруд пруди.
— Как и у меня, — подмигнул он ей.
— Да заткнись уже, Дуэйн!
— Сами начали, — пропел он и, похлопав себя пониже спины, выпорхнул из палаты.
— Слава богу, — вздохнула Джо-Нелл.
— А мне он понравился, — сказала я ей.
— Тебе-то разумеется.
Мы помолчали. Фредди подошла к окну и загляделась на ряды машин. И тут я заметила, как вылупилась на меня Джо-Нелл.
— Что?! — Теперь настала моя очередь вскинуть подбородок.
— Ну ты и вырядилась! Фредди, ты только глянь на нее: коричневый шерстяной свитер, синие рейтузы и черные башмаки!
— И что с того? — Я взглянула на свои ботинки, а потом снова на нее.
— Немного не в тон!
— А я тебе не хор, чтобы в тон попадать!
— Но вид-то страшенный.
— Просто слегка эксцентричный. — Я пожала плечами.
— Слегка? — хмыкнула Джо-Нелл. — Так вот это как называется!
— Слушайте, я знаю, что нам нужно, — быстро заговорила Фредди, стараясь замять скандал.
— И что же? — выкрикнула Джо-Нелл. При этом она брызнула слюной, которая разлетелась во все стороны.
— Шахматы. Сыграть в шахматы.
— Я не умею.
— А я тебя научу.
— Так это надо мозгами шевелить. Это сложнее, чем шашки? — Джо-Нелл приподняла брови.
— В общем-то, нет.
— Ну, тебе-то все легко. — Джо-Нелл улыбнулась, а затем повернулась ко мне: — Элинор, может, сгоняешь в «Кей-Март» за шахматами?
— Я? — изумилась я. Не понравился мне этот приказной тон. Кто я ей, служанка? Разве Минерва не твердила нам, что все люди равны? — По-моему, шахматы — игра для умников. А таких в «Кей-Марте» не держат.
— Тогда привези «Колесо Фортуны», — упрашивала Джо-Нелл.
— Или купи «Скрэббл», — вторила ей Фредди.
— Так это же твоя идея, — подмигнула я ей, — ты и поезжай.
— Но я даже не знаю, где тут «Кей-Март».
— Я нарисую тебе карту. — Открыв сумку, я стала рыться в бумагах. Когда мои пальцы добрались до самой подкладки, на дне зазвенели просыпанные монетки. Интересно, догадывается ли Джо-Нелл о моем секрете, и если да, то как много ей известно? Уже довольно давно мой мир начал стремительно сужаться. Я не могу отправиться в Нашвилл, потому что сразу представляю, как наш драндулет ломается. Машина-то старая, да и стартер неисправен. К тому же я терпеть не могу проезжать мимо того поворота, где разбился наш папа (его грузовик заскользил на льду и кубарем скатился на набережную).
— Я бы съездила, — сказала Фредди, — если б не эта усталость от смены часовых поясов.
— Я тоже устала, — кивнула я и попыталась сменить тему: — Сыграем в следующий раз. Теперь ведь нам пора домой: Минерва там зажарила цыпленка и напекла пирожков.
— Для кого? — с издевкой протянула Джо-Нелл. — Для тебя или какого-то покойничка?
— Для нас с Фредди. И как тебе не стыдно смеяться над бедной Минервой! А она-то так за тебя волнуется! Стыдно, юная леди!
— Не называй меня «юной леди». — Джо-Нелл бросила на меня просто-таки ледяной взгляд.
Ее тон снова поразил меня; я поняла, что надо хорошенько взбесить ее, чтоб все наконец забыли про эти чертовы шахматы.
— Ты права, — ответила я, — ведь теперь ты даже не юная, а настоящей леди ты и раньше-то не была.
— Что ты посмела сказать?!
— Но ведь ты действительно уже не очень-то юная!
— Помоложе некоторых…
— Не ссорьтесь, — вмешалась Фредди, — прекратите!
— … у которых к тому же мозгов с гулькин нос, — орала Джо-Нелл, — зато зад как у коровы!
Эти нападки я оставила без внимания, хотя от них у меня аж затылок взмок. Надо было проваливать.
— Нам пора, не то мы опоздаем на ужин.
— Надеюсь, Минерва угостит тебя компотом, — цедила Джо-Нелл, — компотом с большим количеством чернослива. Тебе он просто необходим.
— Зачем мне чернослив?
— Да чтоб прошиб понос и вымыл шило из твоей задницы!
На следующее утро, объезжая парковку «Кей-Марта», я заметила типа, которого полицейские назвали бы «подозрительной личностью». На нем была вязаная оранжевая шапочка и защитного цвета куртка. Когда он закурил, дым стал подниматься из-под его воротника, словно шел из ушей. У меня как-то странно заныло в желудке, хотя, возможно, это было просто несварение. Ведь я позавтракала зеленым лучком и репкой. Но, как бы там ни было, ходить по магазину в одиночестве мне не особо хотелось. В компании старушек куда веселее: они меня подбадривают, да и вообще всем вместе как-то надежнее. К тому же десять пар глаз куда быстрей найдут уцененный товар, чем одна.
Я покатила прочь по Саут-Вашингтон, а затем вывернула на Профит-стрит. Подъехав к клубу пенсионеров, я припарковалась у самого поребрика и метнулась ко входу. Старушки тут же сбежались ко мне и принялись расспрашивать про Джо-Нелл и автокатастрофу. Они страшно разгалделись, и пришлось поднять руку в знак того, что я беру слово.
— С Джо-Нелл все в порядке, — объявила я им, — а я сейчас еду в «Кей-Март» за покупками. Может, прихватить кого-нибудь?
ФРЕДДИ
Золотая рыбка издохла и колыхалась вверх брюшком у грязного бортика аквариума. Я подцепила бедняжку одним из гребешков Джо-Нелл и спустила ее в унитаз. Остановившись посреди коридора, я загляделась на телефон, а затем, поддавшись внезапному порыву, позвонила в кафе «Магдалена» и в отель «Мирабель», оставив и там, и там по сообщению для сеньора Эспая. Мой испанский страшно беспокоил меня — что, если я сказала: «Не звони мне никогда» — вместо: «Звони когда угодно»? Перед нашей первой поездкой в Мексику Сэм дал мне урок обиходного испанского. В случае если мы наткнемся на местных партизан, он велел мне говорить: No disparen! Somos los Beatles!
— Что-что? — переспросила я.
— «Не стреляйте! Мы рок-музыканты!» — рассмеялся он. — А вот эту фразу затверди крепко-накрепко: Yo tengo un amigo importante en la et-bajada de los Estados Unidos.
— «У меня есть важный друг…» — Я остановилась и покачала головой.
— «У меня есть влиятельный друг в посольстве Соединенных Штатов», — закончил он.
Потом я написала ему письмо, где рассказывала, что Джо-Нелл поправляется и, возможно, через неделю или две я смогу вернуться. При этом постоянно думала о Нине. Ведь она там, наверное, по-прежнему расхаживает в своих сомнительных бикини. А что если она постучится к нему в номер в три ночи и, держа под мышкой бутылочку текилы, скажет: «Мне что-то не спится, может, пропустим по стопочке?»
Иногда мне представлялось, как Сэм прогоняет ее, а иногда он открывал дверь пошире и приглашал ее войти. Окажись я рядом с влюбленным в меня парнем, я, может быть, тоже не устояла бы. Поэтому мне было очень неприятно, что он остался там наедине с ней. Правда, не совсем «наедине», в лагуне были и другие ученые: морские археологи, наши коллеги из Скриппса, изучавшие китовых паразитов, чета биологов из Сан-Диего, вживлявшие меченные радием датчики в китовый жир, чтобы вести потом наблюдение со спутника, исследователи из «Ю Си Дэвис», метившие бурых пеликанов, и океанологи из Ванкувера, которые следовали за миграцией косаток от пролива Джонстона.
Правда, не совсем «наедине», в лагуне были и другие ученые: морские археологи, наши коллеги из Скриппса, изучавшие китовых паразитов, чета биологов из Сан-Диего, вживлявшие меченные радием датчики в китовый жир, чтобы вести потом наблюдение со спутника, исследователи из «Ю Си Дэвис», метившие бурых пеликанов, и океанологи из Ванкувера, которые следовали за миграцией косаток от пролива Джонстона. Я надеялась, что при таком-то наплыве народа в лагуну Нина найдет себе собственного искателя приключений, а моего оставит в покое.
Ведь она явно хотела кого-то найти; однажды она забыла свою сумочку в надувной резиновой лодке, и я бесстыдно заглянула в нее. Там обнаружились кожаный кошелек, солнцезащитный крем, испанско-английский словарь, тампон, презервативы, темные очки и бутылка ломотила. «Презервативы?!» — подумала я с ужасом и запихала их в свою кроссовку на случай, если она охотится на Сэма. Хотя вряд ли это могло ей помешать.
До сих пор Нина проявляла лишь глубокое презрение ко всем холостым ученым в Герреро-Негро и Сан-Игнасио, а то и во всей Нижней Калифорнии. Я возлагала огромные надежды на ее знакомство с голубоглазым орнитологом из Кус-Бей в штате Орегон, но Нина быстро дала ему понять, что ее интересуют только киты. «Но сюда мигрируют и другие интересные виды», — сказал орнитолог. Он занимался казарками, подвидом морского гуся, который гнездуется на огромной территории от Сибири до северо-западного побережья Канады. Каждую осень казарки собираются на полуострове Аляска и к началу ноября уже готовы совершить перелет к заливам и лагунам Нижней Калифорнии. Они дожидаются нужного ветра, всей стаей поднимаются в темное небо и начинают свое трехтысячемильное путешествие.
— Да что вы! — Нина подняла брови и с укором поглядела на меня, словно говоря: «Ну кого ты мне подсунула?!» Как только орнитолог ушел, она презрительно наморщила губы и сказала:
— Черт возьми, ну и зануда! Да еще и кривоногий вдобавок!
— У Сэма тоже кривые ноги, — напомнила я.
— Правда? — Она пожала плечами. — Но его это ничуть не портит.
И она ушла, оставив меня в раздумьях над законами любви. Что влечет китов в Мексику от самого Берингова моря, а затем заставляет плыть обратно? Зачем казарки взлетают в этот холодный мрак, разлитый в осеннем небе? Отчего мужчина целует женщину, прижимается к ее телу и так неудержимо стремится войти в него, словно стараясь от чего-то спастись? Сэм говорит, что это сродни животному инстинкту самосохранения. Пожалуй, я с ним согласна: ведь все влюбленные существа выбирают красивые и пустынные места. И, окончившись, поход любви начинается заново.
Настоящую любовь я испытала дважды в своей жизни: после встречи с Сэмом и на последнем курсе таллульского колледжа. Моей первой любовью был Джексон Маннинг, с которым я познакомилась на занятиях по зоологии. Я сказала «познакомилась», но это не совсем так: мы вместе учились и в средней школе, хотя, думаю, там он меня не замечал. Я не вышла ростом, страдала близорукостью и вообще была тишайшей девчонкой, о которой вспомнили только во время объявления оценок и выдачи аттестатов. Мне тогда поручили произнести прощальную речь, но я так и не явилась на церемонию. Сильнейшие ожоги ядовитого плюща помешали мне воспользоваться этой привилегией.
Джексон оказался моим напарником на лабораторных работах по зоологии. Я боялась, как бы его общество не отвлекло меня: у него были вьющиеся темные волосы, глаза цвета индиго и ямочки, так и просящие поцелуя. Однако его отец, Чили Маннинг, наш семейный врач, должно быть, поведал ему в подробностях всю историю моей злополучной семьи: и как электрический разряд убил моего дедушку, и что отец разбился в автокатастрофе, и что отчим бросил нас, а затем помер, и что мама покончила с собой. Но при всей моей нелюбви к легкомысленным жителям Таллулы я была уверена, что Джексон не скажет никакой грубости, ведь он и сам знал, что такое горе.
В 1968 году его шестилетняя сестренка Келли утонула в бассейне загородного клуба во время обычной детской игры «кто дольше просидит под водой». Лет десять спустя его мать, мисс Марта, умерла от рака груди.
Джексон не узнавал меня до тех пор, пока профессор не провел перекличку. Затем я почувствовала на себе его взгляд, но старалась не смотреть в его сторону, упорно не сводя глаз с профессора, который раздавал нам программу курса. Джексон заерзал на стуле, а затем открыл упаковку жвачек и протянул ее мне. Я решила, что это своего рода уловка: возьмешь жвачку — глянешь на того, кто угощает.
— Нет, спасибо, — ответила я. Через минуту до меня донесся аромат зеленого яблока.
Я твердила себе, что партнера по лабораторным работам видишь куда реже, чем соседку по комнате, и что ему просто не под силу отвлечь меня от моей мечты — сосудистой хирургии. Да и вообще беспокоиться не из-за чего: он же еще в школе начал встречаться с длинноногой блондинкой по имени Мэри Элизабет, которую, однако, все называли Пышкой. Она носила заколки для волос с камнями в двадцать четыре карата, а ее отец работал проктологом в Куквилле.
Весь сентябрь мы с Джексоном сидели за одним микроскопом, изучая дрозофил, зараженных сифилисом. Как-то раз я одолжила ему свой конспект, и в благодарность он подарил мне букетик крошечных полевых цветов. Их неоново-желтые лепестки были чуть изогнуты, словно ресницы. Он сразу признался, что выкрал их с ботанической выставки в находившемся по соседству биологическом корпусе, но я все равно была очарована. После занятия он засунул букет в мой учебник, между пятой и шестой главами.
— На удачу, — сказал он и заглянул мне прямо в глаза.
— Она никогда не помешает, — согласилась я. И хотя мой средний балл был где-то около пяти, я вдруг испугалась, что скачусь на двойки. Вернувшись домой, я поставила букетик в вазе на стол. Копить вещи — не в моих правилах: и потому, что я не люблю беспорядок, и потому, что не хочу к ним привязываться. Слишком больно их потом терять. В тот вечер ко мне заглянула малышка Джо-Нелл с учебником химии в руках. Пока я решала ей уравнения, она уселась на стол и красила ногти на ногах кричаще-фиолетовым лаком. С ее уходом цветы исчезли. Решив, что они просто упали на пол, я все исползала на четвереньках, но нашла лишь пару помятых лепестков.
На следующий день я шла к зоологическому корпусу, изо всех сил надеясь, что мой сосед прогуляет самоподготовку. Но Джексон уже сидел за партой и рассматривал препараты. Я хотела шмыгнуть обратно в коридор, однако тут он поднял глаза. За его спиной было залитое солнцем окно, и золотистые потоки света озаряли его с ног до головы.
— Что-то я побаиваюсь зимней сессии, — признался он, — если не поступлю в медицинский, папаша просто убьет меня.
— Да ладно тебе, — ответила я, подходя к нашей парте. Взяв один из препаратов, я посмотрела на него против света. — Твой отец — добрейший человек. Ты в курсе, что он лечит мою бабку?
Джексон встал из-за парты, обошел ее кругом и обнял меня за талию. А потом погладил по щеке.
— В чем дело? — спросила я, прикинувшись дурочкой.
— Фредди, ты мне нравишься, — ответил он и потерся носом о мой подбородок. — Очень нравишься. По правде говоря, я просто без ума от тебя.
— От меня? Мне казалось, ты без ума от Пышки!
— Мы с ней расстались.
— Но почему?
— Потому что я хочу быть с тобой.
Начав целоваться, остановиться мы уже не могли. Нас мотнуло назад, и мы опрокинули пару стульев, а затем нырнули прямо на кафельный пол, подняв целое облако мела.
Тут зазвонил телефон, и я сразу же поняла, что это Сэм.
— Здравствуй, солнышко, — проворковала я в трубку.
Тут зазвонил телефон, и я сразу же поняла, что это Сэм.
— Здравствуй, солнышко, — проворковала я в трубку.
— Прости, я тебя, наверное, разочарую, — ответил мне женский голос. — Позови, пожалуйста, Фредди Мак-Брум.
— Это я.
— О, привет! Это Сисси Олсап, в далеком прошлом Сисси Браунинг. В школьные годы мы вместе ходили в «Гли клаб»!
— Чему обязана? — Я надеялась, что мне удалось произнести это крайне неприветливо. Тогда, в школе, Сисси Браунинг даже не посмотрела бы в мою сторону. Она пользовалась оглушительной популярностью, но, несмотря на давно утраченную девственность, каким-то образом сохраняла безупречную репутацию. Я же была синим чулком и к тому же не могла себе позволить модный костюм «юбка-джемпер», как у Бобби Брукс.
— Я узнала, что ты в городе, — сюсюкала Сисси. — Мэри Джун сказала мне, что встретила тебя в больнице. У меня там, кстати, работает муж, доктор Билл Олсап. Вот я и сказала себе: «Сисси, ты просто обязана ей позвонить!» Да, я слышала о том, как не повезло твоей сестре! Билл сказал, что она в реанимации.
— А мне казалось, ты вышла за Джимбо Шримплетта, — пробормотала я, а про себя добавила: «Всего через месяц после окончания школы. Роскошное было венчание в Первой пресвитерианской церкви».
— Ой, мы с Джимбо уже семь лет как развелись. Хотя, может, и шесть… Но это неважно! Звоню-то я, чтоб пригласить тебя на свою вечеринку в субботу. Знаю, никто еще не отошел после Нового года, но в последние дни так холодно, что мне захотелось повеселиться. Народу будет немного, тем более что у меня пока что полный бардак. Даже рождественские гирлянды еще не убраны. Это такая морока, а мою домработницу как раз положили на удаление матки. Короче говоря, я хочу, чтоб ты пришла. Джексон Маннинг тоже заглянет.
— Кто, прости?
— Джексон Маннинг, педиатр. Я слышала, вы с ним встречались. Теперь он в разводе.
— Я и не знала…
— Он был женат на одной обалденной красотке из Мемфиса, Изабелле Фамилию-не-помню. Не слыхала про нее? Кажется, она работала фотомоделью. Ну а потом прошел слушок, что у Джексона шуры-муры с какой-то медсестрой. Может, ничего там и не было, но Изабелла тут же собрала шмотки и удрала. С тех пор Джексон обращается с бабами как мартышка с бананами: чуть попробует и сразу же бросит.
— И он больше не женился? — сказав это, я невольно поморщилась.
— Нет, но перепробовал уйму бананов. Его последней подружкой была агент по недвижимости, обладательница миллионного состояния, Джулианна Хауэлл. Она в разводе и с ребенком на руках, кажется мальчиком. При этом чуток нагловата — ну, ты понимаешь, как все риелторы. Да и по происхождению она, прямо скажем, не из сливок здешнего общества: ее отец работал на бензоколонке. Короче, не чета Маннингам. И все же надо отдать Джулианне должное: миллион долларов есть миллион долларов. Я была уверена, что он на ней женится, но Джексон из тех мужиков, которых мне просто не понять. Хотя я все равно пытаюсь. Уверяю тебя.
Я все думала, как бы от нее избавиться, но тут она изрекла:
— Ну, а теперь выкладывай: ты-то как живешь?
— Я? Да так, потихоньку…
— То есть сестра в автокатастрофе — это «потихоньку»?! — захохотала Сисси. — Все мы слышали, что ты изучаешь китов и живешь в Калифорнии. Это же просто восхитительно! Потому-то я тебе и звоню. Хочу, чтоб ты пришла на вечеринку и рассказала всем о своих приключениях. Ты же знаешь, какая в Таллуле тоска; все занимаются тем же, что и раньше, и изо всех сил стараются обойти своих же знакомых.
Я молчала, задумавшись о Сэме и Нине и стараясь подсчитать, который час теперь в Нижней Калифорнии.
Прямо сейчас звонить, наверное, не стоило — они, скорее всего, еще в лагуне.
— Ну так что, ты придешь? — спросила она, и я очнулась.
— Куда?
— На мою вечеринку! К семи часам по адресу Аппоматокс, дом 502. Если надо, я за тобой заеду.
— Знаешь, я вряд ли…
— Нет! Отказа я не приму! Ты должна прийти — должна, и точка!
— Я постараюсь, — соврала я. Моя рука уже легла на рычаг, и мне безумно хотелось надавить на него. — Слушай, спасибо за приглашение, но, видишь ли, я жду звонка из Мексики.
— От своего таинственного «солнышка»? — захихикала она.
— Да, от моего мужа, — ответила я и приготовилась к очередному залпу вопросов.
— Ой, как мило! Но смотри, не забудь про вечеринку!
— Не забуду, — кивнула я и, не дав ей прибавить ни слова, повесила трубку. У меня не было ни малейшего желания идти ни на ее, ни на чью-либо еще вечеринку в Таллуле. Не такой я человек.
ДЖО-НЕЛЛ
Подошло время обеда, и по коридорам загремели тележки с едой. Их колеса противно скрипели, а сама пища воняла подгорелой говядиной и дешевым покупным соусом, из тех, что подают в школьных столовых.
— Эй, — крикнула я Дуэйну, стоявшему у моей палаты, — а чем-нибудь приличным здесь кормят?
— Только неприличным, куколка. — Дуэйн появился на пороге.
— Это чем, интересно?! — спросила я, наморщив лоб.
— То есть вас интересует неприличное угощение? Надо записать в вашей карточке — доктор будет просто счастлив.
— С чего вдруг? — Я снова принюхалась, и на этот раз из дверей пахнуло яблочной запеканкой, одним из любимых блюд Минервы. Мне стало любопытно, как ее тут украшают: поливают карамелью или просто посыпают сахаром.
— С того, прелестная фея, — ответил Дуэйн, — что интерес к еде — это очень хороший признак.
— Ты-то почем знаешь? — огрызнулась я на него.
— Ну, я же поумнее некоторых.
— Да пошел ты в задницу, Дуэйн!
— Милая, не искушайте меня!
— Катись уже в свою вонючую столовую и подавись там этой гадостью!
— Сейчас-сейчас. Мне и правда пора в кафе, и там действительно кормят всякой гадостью. — Он всадил шприц в мою капельницу. — Но сначала — ваш полуденный коктейль! Приятных сновидений!
— На черта он мне нужен?
— Вам надо много спать, красавица, — подмигнул он мне, — быть может, я приснюсь вам.
— Тогда это будет кошмар!
— Представьте, что вам в вену вливают пиво, скажем «Бадлайт». Ой-ой, да там же пузырек! — воскликнул он вдруг и начал стучать по трубке.
— Отвали, пока ты меня не угробил! — заорала я. Сама я не видела никаких пузырьков, но, с другой стороны, я не училась уходу за больными. (Хотя, кто знает, может, и он не учился.)
— О черт, я опоздал: он уже на полпути к вашему мозгу. Примерно через минуту вы услышите взрыв.
Я уже приготовилась завизжать, но тут он заржал.
— Шучу-шучу, — хохотнул он, а затем подошел к занавеске и отдернул ее. На миг показался сестринский пост и целая стена мониторов.
— Пока, трусишка! — и он помахал мне двумя пальцами.
— От такого слышу! — отозвалась я.
— Когда вы проснетесь, — прошептал он, — меня уже не будет рядом.
— Ну и слава богу, — сказала я, или мне показалась, что я так сказала. То, что он впрыснул мне в капельницу, было явно посильнее «Бадлайта», разве что этот «Бадлайт» хорошенько разбавили валиумом.
То, что он впрыснул мне в капельницу, было явно посильнее «Бадлайта», разве что этот «Бадлайт» хорошенько разбавили валиумом. Я словно опьянела; мне казалось, что я лежу на дне Мексиканского залива, в неглубокой зеленой заводи. Я протягивала руки, а надо мной пробегали волны и пенились вокруг моих пальцев. Течение носило меня туда-сюда, и мои волосы колыхались, как щупальца медузы. Зажмурившись от палящего солнца, я покорно отдалась волнам.
С берега меня звал какой-то мужчина: «Джо-Нелл? Эй, детка, ты слышишь меня?»
Я попыталась открыть глаза, но от этого бадлайта веки словно налились свинцом. И все же постепенно я выплыла из океана и очутилась у городской больницы. Сперва до меня донесся скрип сестринских туфель, а затем визгливый голос закричал: «Вам помочь, сэр?» По тембру я узнала одну из медсестер, стриженую брюнетку с усиками, родом откуда-то с далекого севера, кажется из Детройта. Судя по ее мине, жизнь в Теннесси сводила ее с ума.
— Я хотел проведать Джо-Нелл Мак-Брум, — ответил мужчина. — Джо-Нелл, крошка! Ты слышишь меня? Я притащил тебе цветов! Смотри, какие клевые розочки продают у нас в «Винн-Дикси»!
— Сэр, часы приема окончены, — рявкнула мисс Детройт.
— Но я лишь на минуточку, — ответил парень. — На одну-единственную.
— Вы ей родственник?
— Ну, не совсем…
— Тогда, боюсь, вам придется уйти, сэр.
— Ну пожалуйста. Я только погляжу на нее. Мне очень нужно.
— Простите, но ей нужно отдыхать.
— А она поправится?
— Простите, об этом надо говорить с ее врачом.
— Но вы ей скажете, что я приходил? И отдадите цветочки?
Послышался глубокий вздох, а затем унылое шарканье. Потом кто-то гулко зашагал по кафелю. «Сэр? — подумала я. — Давай, ныряй ко мне, малыш! Ныряй, водичка теплая, как в ванне». Невероятным усилием я открыла глаза и, клянусь господом, на миг увидела затылок моего ковбоя, малыша Джесси из «Старлайта». Он уходил от меня прямо по воде, навстречу закату.
Затем медсестра закрыла двери, и он исчез. А эта мегера подошла к мусорному ведру и швырнула в него мои розы.
— Эй, ты! — заорала я. — Янки-медсестра!
Мисс Детройт обернулась, удивленно подняв брови.
— Что? — спросила она.
— Кто это был? — крикнула я.
— Он не представился.
— Отдай мои цветы. Я видела, что ты с ними сотворила!
— Простите, но это запрещено больничным уставом, — отрезала она и задернула мою занавеску по самую стену. Железные кольца при этом противно скрипнули о карниз. Не будь я такой одуревшей, я бы засунула в задницу этой мымре и ее чертов устав, и даже мои «клевые розочки». Богом клянусь!
ФРЕДДИ
В субботу мы с Минервой возились на кухне и налепили бездну пирожков с тушеной курятиной. Мои джинсы основательно перепачкались мукой, а под ногтями скопились белые полумесяцы куриного жира. Элинор сидела на высокой табуретке и обжимала края пирожков. Минерва затеяла выпекать каждый из них в миниатюрной алюминиевой формочке, из тех, в каких продают выпечку в «Винн-Дикси». Потом она собиралась раздать их всем затворницам Таллулы и округа, а остатки снабдить ярлычками и заморозить в одной из своих многочисленных морозилок — «похоронных морозилок», как мы их называем.
— Многие считают, что пирожки с курятиной — не лучшая еда для похорон, — поведала она мне, — но в промозглый-то вечер они так чудесно согревают и сердце, и душу.
Я согласилась. Сдобное тесто получалось у нее таким пышным, какого мне никогда не удавалось приготовить (кулинар из меня, сами понимаете, не бог весть какой).
Я согласилась. Сдобное тесто получалось у нее таким пышным, какого мне никогда не удавалось приготовить (кулинар из меня, сами понимаете, не бог весть какой). Курицу она отваривала в бульоне вместе со свежим луком, петрушкой, сельдереем, перцем и одним-единственным лавровым листком. Когда я пыталась выжать из нее точный рецепт, она только пожимала плечами: «Ой, даже и не знаю, сколько туда идет чеснока — где-то с пол-ложечки, чайной. Хотя иногда я кладу и столовую ложку. Все зависит оттого, что готовишь: ведь куриные похлебки не люди и вовсе не созданы равными. Одни — для простуженных и больных гриппом, другие — для скорбящих страдальцев. Так что сама смотри, куда сколько чеснока».
Тут раздались две короткие трели дверного звонка, и Элинор протяжно вздохнула.
— Иду, — крикнула она, ковыляя по коридору.
Спустя минуту послышалось женское хихиканье; оно неслось по коридору и приближалось к кухне. Обернувшись, я увидела возникшую в дверях приземистую блондинку в красной плиссированной юбке, едва натянутой на объемистый зад. Ее огромная голова напоминала надутый до отказа воздушный шар. Двухдюймовый слой туши на ресницах, тяжелые золотые серьги и пышно начесанная шевелюра, усиливающая эффект начальной стадии гидроцефалии.
— Привет, подруга! — прокричала она мне, просияв. За ее спиной Элинор только развела руками, словно желая сказать: «Я пыталась остановить ее».
— Привет, — холодно ответила я и попыталась понять, кто передо мной. Но у меня ничего не вышло.
— Это я, — крикнула она, протягивая мне руку с ярко-красными накладными ногтями, — Сисси!
— Ах, ну конечно, — ответила я. По правде говоря, я не узнала бы ее ни за что на свете. Опасаясь ее объятий, я показала свои заляпанные руки. — Я бы пожала тебе руку, но вся в тесте.
— Привет, Сисси, — сказала Минерва, поправляя очки белой от муки рукой, — какая ты нарядная!
— Ах, ты моя красавица! — Сисси развернулась и принялась тискать ее. — Что, как всегда стряпаешь?
— Именно так.
— Никак кто-то помер? — Сисси наморщила лоб.
— Да ничего подобного! — удивилась Минерва.
— Мой муж говорит, что ты днюешь и ночуешь в больнице. — Сисси отпустила Минерву и обернулась ко мне: — Ах, ну какая же ты негодница! Занялась готовкой и даже думать забыла о моей вечеринке.
— Вечеринке? — У меня руки опустились.
— Как не стыдно, подруга! Ведь ты приглашена, — и она погрозила мне пальчиком. — Ну да ничего страшного. Накинь какое-нибудь платьице, причешись и поехали.
— Поехали? — спросила Элинор, наклоняя голову. — Но куда?
— Да на мою рождественскую вечеринку! — Сисси даже захлопала в ладоши. — А зачем, по-твоему, я приперлась в вашу кондитерскую и накупила столько печенья, сырных палочек и фруктовых пирожных?
— Я никуда не поеду, — отрезала Элинор. На ее щеках запылали два красных пятна.
Сисси поглядела на меня:
— Не хочу тебя торопить, но не могла бы ты собраться за пять минут? Или мне лучше докупить пока всякой всячины и заехать попозже? Скажем, часов в пять или в полшестого?
— Сисси, я не могу к тебе прийти, — сказала я.
— Но почему? — Ее глаза округлились от изумления. Сжав руки, она приложила их к подбородку.
— Просто не могу.
— Но ты же обещала!
— У меня сегодня куча дел, — ответила я, чувствуя, что сейчас начнутся угрозы.
— Что ж, я без тебя не уеду. — Она забралась на табурет и положила ногу на ногу.
Ее колено прошелестело под тафтой. — Отказ не принимается. Ты ведь почетная гостья. И если не поедешь ко мне, я проведу вечеринку прямо здесь, у тебя.
— Только не это! — взвыла Элинор.
— Выбор за Фредди. — Глаза Сисси победно сверкали. — Так что, подруга? У тебя или у меня?
— Это шантаж, — возмутилась я.
— Ага! Я в нем спец не хуже старины Зорге, — радовалась Сисси, — хотя нет, его-то конек — шпионаж. Вечно я все на свете путаю.
Когда Сисси умчалась в спальню, я стала бродить по ее дому, то и дело уворачиваясь от собачки породы чихуахуа, которая кидалась на меня из-под стульев и диванов. Комнаты были оформлены в причудливом стиле, напоминавшем барокко. Повсюду стояли столы, отделанные шпоном под вишневое дерево, а окна были убраны тюлем и тафтой. Здесь все еще царил рождественский дух: я насчитала шесть искусственных елок в «тематических» украшениях: елка на кухне была увешана лимонными и апельсинными цукатами, тянучками и песочным печеньем. Ту, что стояла посреди комнаты во флоридском стиле, украсили морскими ракушками; елка в гостиной пестрела магнолиями и гирляндами из всевозможных цветов. Кроме того, тут было по отдельной елке для каждого из детей и даже крошечное деревце для чихуахуа (на нем болтался фигурный корм, кусочки которого были подвешены так, чтобы маленький воришка не мог до них допрыгнуть).
Дом так и звенел от обилия хрустальных ангелочков и многофигурных композиций, изображающих Рождество. Неудивительно, что все великолепие до сих пор не убрали: на это уйдет не меньше полугода. Поскольку мы с Сэмом проводим этот праздник в Нижней Калифорнии, все связанные с ним хлопоты обходят нас стороной: Мексика спасает нас от целого месяца угрызений совести. Мистер Эспай, по которому мы очень скучаем, последний из ковбоев северного побережья и проводит рождественское утро, сгоняя своих овец. Он постоянно твердит, что мы удираем в Мексику, чтобы не маяться с покупкой елки. И по правде говоря, битком набитые магазины Сан-Франциско и Петалумы действительно наводят на мысли о побеге. В Нижней Калифорнии мы работаем по четырнадцать часов в сутки: фотографируем, ведем записи и сравниваем свои результаты с данными последних десяти лет. Иногда во время ужина в Герреро-Негро мы вдруг слышим, что по радио твердят: Feliz Natividad![17] — и с ужасом вскрикиваем: «Господи, да ведь уже Рождество!» А затем заказываем Enscdada de Noche Buena[18] и мексиканский шоколад. Мы очень далеки от религии, но от души восхищаемся неподдельно веселыми торжествами в Герреро-Негро, где всю неделю перед Рождеством ребятишки устраивают шествия-посадас, одеваются Марией и Иосифом и разыгрывают их странствие в Вифлеем. А уж как хороши полные леденцов пиньятас[19] и красно-зеленая сальса, которую подают в это время в кафе!
К семи часам Сисси все еще не появилась, зато ее муж, доктор Боб, затащил меня в уголок на кухне. Он припер меня к стойке с крапчатой гранитной столешницей и, крикув: «С тебя поцелуй!», помахал над моей головой веткой омелы.
Я прошмыгнула у него под рукой и умчалась в столовую. Упитанный распорядитель расставлял там по столу серебряные подносы, а официант разливал шампанское в фужеры. Подхватив один из фужеров, я кинулась в мраморный холл, сквозь стеклянные двери которого уже показались гости, подходившие к крыльцу. Но тут меня настиг доктор Боб, ввалившийся в дверь с победным кличем. Радостно подмигивая, он пророкотал: «А все-таки я добьюсь твоего поцелуя!»
Но я бы скорее поцеловала чихуахуа. Юркнув в просторную, отделанную в зеленоватых и абрикосовых тонах комнату, заставленную книгами, я спряталась в укромный уголок. Стоявшие на каминной полке часы показывали без пяти семь. У меня было чувство, что я в ловушке, и я отдала бы все на свете за наш старый фургон. В итоге решила потерпеть полчаса, а потом сразу же вызвать Элинор; но до тех пор мне предстояло уныло кружить по комнатам, как это бывает на банкетах и презентациях.
В итоге решила потерпеть полчаса, а потом сразу же вызвать Элинор; но до тех пор мне предстояло уныло кружить по комнатам, как это бывает на банкетах и презентациях. Дом наполнялся женскими голосами, запахом духов и хлопками вылетающих пробок. Крошка чихуахуа носился зигзагами вокруг столов, взвизгивая, когда кто-то из гостей наступал ему на лапку.
Проходя через библиотеку, я услышала, как трое женщин обсуждают отделку.
— Еще бы не красиво, — хмыкнула брюнетка с массивными бедрами и мясистыми икрами, — она же нанимала дизайнера.
— Какое там нанимала! — возразила ей блондинка с бордовыми ногтями. — Мебельный магазин «Итан Аллен» предоставляет их бесплатно.
— Сисси делает покупки в Нашвилле, — заявила дама с коронками на зубах. — Я постоянно натыкаюсь на нее в «Грин хиллс».
— Что бы вы ни говорили, — продолжала толстозадая брюнетка, ощупывая зеленые портьеры, — но эта ткань не из «Итан Аллен», а из «Каутэн и Таут» и стоит по двести долларов за ярд. Такую раздобудет не всякий дизайнер.
— Двести баксов за ярд! — ужаснулась блондинка. — Она просто сумасшедшая.
— Да нет, обычная сумасбродка, как все докторские жены.
— Да ладно, я вот замужем за дерматологом, — возмутилась блондинка, — но отнюдь не сумасбродка.
— Твой муж не из тех докторов, — вздохнула толстозадая. — Сисси-то вышла за ухо-горло-носа, перелечившего всех в Таллуле. Теперь он богаче Рикки Скэггса.
— А ты слышала, что этот самый муженек спит с двадцатипятилетней реанимационной сестрой?
— Да кто об этом не слышал?!
— Разве что Сисси.
— Не будь она такой стервой, ее было бы просто жаль.
— Ты только посмотри на эту картину! Она же продавалась в «Грин хиллс» и стоила полторы тысячи долларов.
Я вышмыгнула из библиотеки, не желая им мешать, и отправилась на кухню.
Там, на гранитной поверхности стойки, восседала Сисси и потягивала коньяк со взбитыми желтками. Круто развернувшись, я решила взять курс на столовую и вдруг заметила Джексона Маннинга. Он стоял среди гостей и любезничал с какой-то рыжеволосой особой в декольтированном зеленом платье. Его глаза сохранили оттенок индиго, но лицо возмужало. Я ощутила, как краска заливает мне шею и постепенно переходит на щеки. Поспешно отвернувшись, я направилась к столовой, но было уже поздно.
— Фредди! — крикнул он, расталкивая гостей и пробираясь ко мне. — Простите пожалуйста! Ой, ради бога, извините.
Я остановилась и оперлась о кухонный стол.
— Привет, Джексон.
— И это все?! — рассмеялся он. — «Привет, Джексон»?
— Что ж, можно прибавить: Buenos noches. С'oто est'a listed?[20]
Мимо нас прошел официант с подносом шампанского. Взяв у него еще один фужер, я сделала глоток и улыбнулась Джексону.
— Миу bien, gracias[21], — ответил он, — а как по-испански: «А где же поцелуй?»
— Не знаю, — сказала я, — зато могу научить тебя, что говорить мексиканским врачам.
Я продолжала налегать на шампанское, держа фужер обеими руками, чтоб не начать теребить волосы. Разумеется, я выглядела страшно нелепо, причем не только из-за стрижки. На мне был один из туалетов Джо-Нелл: черное и чересчур короткое платье, расшитое спереди крошечными золотыми пуговками. Все прочие дамы явились в длинных бархатных юбках и вычурных блузах.
— Что ж, — ответил он с улыбкой, — я весь внимание.
Я снова отхлебнула шампанского и выпалила: Al demonio con sujura mento! Tengo bichos adentro que necesitan ser mutados.
— А что это значит? — он поднял брови.
— «К черту вашу врачебную клятву! А может, часть моих внутренностей должна отмереть?!»
Он рассмеялся.
— И надолго ты в Таллуле?
— Это зависит от Джо-Нелл.
— Господи, ну разумеется. Я слышал об аварии. Как она?
— Жива. Ей размозжило сустав и селезенку.
— И все?!
— Да, но она еще в реанимации.
— Еще бы! Боже мой, попасть под поезд! Даже стыдно, что я к ней так и не зашел. Почти не выбираюсь с педиатрического отделения, так что до меня доходит минимум сплетен. — Он оглядел свои туфли и снова поднял глаза на меня, закусив губу. Казалось, он не знал, что прибавить, но наконец нашелся: — Н-да, давненько мы не виделись! Отлично выглядишь. Стало быть, в Калифорнии тебе понравилось?
— Стало быть, да. — Я была слегка разочарована: все так сухо, никаких разговоров о прошедших восьми годах, никаких расспросов. Когда я звоню сюда из Дьюи, мои сестры даже не упоминают о нем. Это из преданности: они понимают, что тема больная. Но вот что он знает о моей жизни, я и понятия не имела.
— То и дело вижу в больнице твою бабулю: она там навещает пациентов. Так что я в курсе всех твоих приключений.
— Ну, ты же знаешь Минерву. Она все преувеличивает.
— Так ты не занимаешься китами?
— Занимаюсь. — Я улыбнулась и вдруг почувствовала себя очень счастливой. Отхлебнув еще шампанского, я уточнила: — Серыми калифорнийскими китами.
— Но это же просто потрясающе!
— Да ладно тебе! — отмахнулась я, но на самом деле сама поражалась такому повороту карьеры.
До сих пор не могла поверить, что мне, тощей девице, которая боялась воды и не умела плавать даже по-собачьи, так сказочно повезло. В тот год, когда я окончила таллульский колледж, Джексон с отцом научили меня плавать в озере Сентер-Хилл, чем перевернули всю мою жизнь. Ирония судьбы: своей нынешней работой я отчасти обязана Маннингам. Мне вспомнилось, как я ныряла у мыса Кортес, проходя сквозь косяк акул-молотов. На мне был респиратор, чтобы пузырьки их не распугали. Однажды в Лорето мимо меня проплыл скат, двигавшийся брюшком вверх, и я даже уцепилась за него. От мыслей об океане я снова затосковала по дому, но надеюсь, это не отразилось у меня на лице.
— Пока ты в городе, — сказал мне Джексон, — если ты, конечно, не против, можно было бы куда-нибудь сходить. Скажем, поужинать.
— Почему бы нет? — ответила я и подумала о том, что Сэм и Нина сейчас в «Лас Брисас». При этом сердце бешено заколотилось о ребра. Тут к Джексону подошла блондинка в платье из коричневой тафты, старавшаяся не расплескать свой яичный коктейль. Вблизи я разглядела, что она носит контактные линзы бирюзового оттенка и дюймов на пять выше меня ростом. Ее волосы были зачесаны на сторону, чтобы все видели длинные псевдоегипетские серьги.
— Дорогой мой, — сказала она, потягивая коктейль, — вот уж не думала тебя тут встретить. Ты же не любишь вечеринки.
— Это правда, — улыбнулся Джексон. — Как продажа домов?
— Глухо, и это просто сводит меня с ума. Но что делать? Мама всегда учила меня молиться, если о чем-то мечтаю, и работать, если в чем-то нуждаюсь. Если вдруг наткнешься на продавца или на покупателя, обязательно сообщи мне.
Блондинка улыбнулась мне, ожидая, что я представлюсь. Но я молчала, а она перевела взгляд на мои волосы и поморщилась. Облокотившись о кухонный стол, я допила остатки шампанского, которые согрели мне горло. Блондинка сделала большой глоток эггнога, запачкав верхнюю губу взбитыми сливками.
— Вообще-то, — признался Джексон, — Сисси Олсап вынудила меня прийти.
— Вообще-то, — признался Джексон, — Сисси Олсап вынудила меня прийти.
— Да? — засмеялась блондинка. — И каким же образом?
— Сказала, что привезет гостей ко мне, если я не приду к ней.
— То же самое она сказала и мне, — кивнула я.
— Правда? — Джексон тряхнул головой и рассмеялся. Блондинка тоже воззрилась на меня, но без особого интереса.
— Ага, — продолжала я, — она фактически притащила меня силком.
— Притащила тебя сюда? — переспросила блондинка.
— Да, — я обернулась к кухне. Хозяйка по-прежнему восседала на кухонном столе и с интересом разглядывала нас. Стало быть, она специально свела нас вместе.
— Простите, я вас что-то не помню. — Блондинка одарила меня снисходительной улыбкой. — Мы знакомы?
— Ой, ты испачкалась сливками, — вмешался Джексон.
— Серьезно? — Она провела рукой по губам и, не сводя с меня взгляда, спросила: -Так как вас зовут?
— Фредди, — мы с Джексоном сказали это хором, а затем, переглянувшись, рассмеялись.
— Забавное имя для женщины. Вы недавно перебрались в наш город? Не припомню, чтоб видела вас. Хотя минуточку, — с подозрением поглядела она на меня, — не вы ли та специалистка по китам?
— Да, именно их я и изучаю. — Я обернулась и поставила свой фужер на стол.
— А с ним вы когда-то встречались?
— Мы были помолвлены, — ответил Джексон.
— Очаровательно. Что ж, пора мне проведать остальных гостей. — И она подала Джексону свой пустой бокал.
Пока она пробиралась сквозь толпу, расточая улыбки и кивки, я вдруг вспомнила, что так и не спросила, как ее зовут. Наконец она скрылась в зеленовато-абрикосовую комнату, где прогуливались дамы в вечерних платьях и бриллиантах.
— Кто это такая? — спросила я. Иногда я бываю довольно резкой.
— Джулианна Хауэлл, — ответил он. — Она риелтор, наверное, ты уже знаешь.
Я кивнула.
— Она продала мне ферму, на которой я теперь и живу. Старинный фермерский дом на Тэтер-Пил-роуд, с собаками, сараями и садом. Сорок два акра. Мы с ней встречались месяца три, и она предлагала пожениться.
— И ты ей отказал?
— Да, я вообще не собираюсь жениться. — Он отставил бокал. — Что ж, думаю, я сыт по горло здешним гостеприимством. Может, пойдем?
— С радостью. — В голове у меня уже пузырилось шампанское. — Если только это не заигрывание.
— Ну что ты! — ответил он. — Попрощаешься с Сисси?
— Нет, просто исчезну, как неотесанная деревенщина.
— Я тоже. Я подгоню свою машину к главному крыльцу. Такой темно-золотистый пикап.
— А что за модель?
— Допотопная: «шевроле» пятьдесят второго года. Подождешь здесь?
— Зачем? Я пойду с тобой.
— Но я припарковался довольно далеко. А сейчас и прохладно, и дождь как из ведра.
— Ничего. После Нижней Калифорнии дождь кажется просто экзотикой.
— Что ж, тогда пошли. — Он взял меня за руку. — Пора отсюда сваливать.
МИНЕРВА ПРЭЙ
Лежа в постели, я слушала шум дождя и думала, что Фредди, скорее всего, страшно скучает на этой вечеринке. Больших сборищ она и в детстве не любила. Однажды Руфи повезла ее в машине на утренник, и малышка спряталась на заднем сиденье. Кажется, она тогда ходила в первый класс; дело было в тот самый год, когда умер ее отец. Руфи потащила ее за правую ногу, а я — за левую, и в итоге Фредди все же попала на утренник.
Руфи потащила ее за правую ногу, а я — за левую, и в итоге Фредди все же попала на утренник. Но думаю, зря мы так ее мучили.
Судя по шуму за стеной, Элинор собиралась в ванну; там бежала вода, звякали какие-то склянки, хлопала крышка бельевой корзины, а затем раздался громкий всплеск. Элинор обожает мокнуть в ванне. Как знать, может, это еще одно последствие всех наших невзгод?! А вечеринки она не любит еще почище, чем Фредди.
— Смотри не поскользнись! — крикнула я.
— Обязательно поскользнусь, — отозвалась Элинор, — спасибо брату Стоуи: он подглядывает за каждым моим движением!
— Ну так сними его, солнышко.
— Вот сама и сними.
— Что, прямо сейчас?
— Нет! Я не одета!
Странная она, эта Элинор. До пяти лет и подтираться-то сама не умела, но однажды в магазине «Кейн-Слоун» в центре Нашвилла вдруг захотела пойти в уборную сама. Не подпускала нас к дверям, требовала, чтоб мы ждали ее в обувном отделе. Руфи тогда изрядно намучалась с коляской Фредди и была порядком взвинчена.
— Что ж, иди, — сказала она Элинор, — потом сама пожалеешь.
В те дни Руфи была еще прехорошенькой. Прямые каштановые волосы, остриженные до подбородка, она закалывала черепаховыми гребешками. У нее были огромные карие глаза, лицо в форме сердечка и привычка втягивать щеки, чтоб они казались чуть менее пухлыми. Элинор надолго застряла в уборной, и мы не на шутку встревожились. Руфи уже собиралась посмотреть, не стряслось ли чего, но тут показалась наша крошка и, лучась от гордости, сообщила, что только что сходила за большое. Обычно она решалась на это только дома.
— Но как же ты вытерлась? — удивилась Руфи.
— Мне помогла одна тетя, — сияла Элинор.
— Не может быть!.. — простонала Руфи, и я поняла, что Элинор теперь не выйдет за порог, пока не научится самостоятельно подтираться.
— Может. Вот эта тетя, — и Элинор указала на рыжеволосую продавщицу из отдела готовой одежды.
— Бежим, пока она нас не заметила, — крикнула Руфи и понеслась с коляской к лифту.
— Стой! — завопила я. — Куда ты?!
— На ту сторону улицы, в универмаг «Харвиз», — бросила она через плечо, — там нас никто не знает.
Говорят, когда начинается черная полоса, на тебя обрушивается по три несчастья кряду: три смерти или три авиакатастрофы. Но на нас беды сыпались сразу по шесть; так, надо думать, действуют родовые проклятия. Не знаю, как это им удается, как невзгоды настигают всех членов нужной им семьи. Неудачи да горести словно выбирают себе чей-то дом, а затем, как голуби, слетаются в него вновь и вновь. Они узнают его, как кошка узнает свое отхожее место — по запаху.
Приехав в Таллулу, я свято верила, что мы Амосом перехитрили смерть. Я прокляла Господа, но здесь Ему нас не найти. Амос же считал, что мы уже достаточно выстрадали и что Бог — или тот, кто испытывал нашу веру, — даст нам передышку Работая на мельнице, он скопил денег на покупку небольшой фермы у Церковного ручья, в семи милях от города. В те стародавние времена там стояла баптистская церковь, Харрикейн, выстроенная прямо в скалах, у того самого места, где ручей впадает в реку Камберленд. В Гражданскую войну конфедераты использовали эту церквушку как наблюдательный пункт и госпиталь, но янки так и не дошли до реки. Таллула лежит слишком далеко от крупных дорог, и федералам она была попросту не нужна. И все же баптисты упорно выставляли там дозорных, и эта традиция сохранялась и век спустя. Даже теперь, когда едешь в город, пол-Таллулы знает об этом задолго до твоего приезда: дозорные видят, как ты петляешь по вырезанному в скалах шоссе № 70 и как потом проезжаешь по Зеленому мосту.
У Церковного ручья мы с Амосом выращивали кукурузу и сорго, а правительство дало нам еще участок под табак. В Техас я возвращаться боялась, думая, что там начнутся новые беды, и старалась обжиться на новом месте. По воскресеньям наряжала свою малютку и несла ее в церковь Харрикейн. В солнечные деньки я выкладывала ее на одеяльце, а сама тем временем обсаживала нашу дорожку нарциссами. Когда Руфи подросла, Амос сделал ей качели из автомобильной шины. После каждого дождя я стояла в зарослях кукурузы, слушала, как вода впитывается в почву, и размышляла о том, как нам все же повезло. Почва пахла железом и быстро поглощала всю влагу. Стоя на коленках у ручья, я выкапывала дикий папоротник столовой ложкой и чувствовала себя совсем юной.
В пятьдесят седьмом Руфи влюбилась в Фреда Мак-Брума. Ей тогда было шестнадцать. Не успела я и глазом моргнуть, как она уже готовила венчание в Харрикейн. Ее избранник пришелся нам с Амосом по вкусу. «Мак-Брумы ведут свой род аж от шотландских королей», — щебетала Руфи. Теперь же потомки королей владели закусочной на Норт-Джефферсон-роуд, всего в квартале от площади, в тени каркасового дерева. О каждом посетителе возвещал звон колокольчика над входом. В зале было три стеклянные витрины в форме огромных перевернутых вверх ногами букв U и несколько столиков между ними. До появления «Винн-Дикси», в котором продают целые горы булочек, посетителей было много; по субботам им приходилось брать номерки и ждать своей очереди. Сидя на железных стульях, они таращились на витрины, где лежали булочки с шоколадом, карамелью, коричневым сахаром и корицей. Были там и другие, с начинкой из джема и взбитых сливок. Отдельная полка отводилась под птифуры, свадебные торты, посыпанные сахарной пудрой, и пирожные с грецким орехом. На специальном пюпитре стоял альбом с фотографиями свадебных тортов.
После свадьбы Руфи и Фред переехали в обшитый желтой вагонкой домик на Ривер-стрит. Мистер Мак-Брум к тому времени уже овдовел и был только рад жить рядом с молодыми. В дом вели два парадных крыльца, с которых открывался прекрасный вид на реку Камберленд. Руфи нравилась замужняя жизнь. Она подметала полы, протирала фамильное серебро, а на чердаке откопала целый сервиз лиможского фарфора, каждый из предметов которого украшало изображение рыбки. По субботам она помогала в кондитерской, в основном раскладывая пирожные по тарелкам или подсказывая клиентам, что купить. Иногда мистер Мак-Брум брал ее на кухню, и они украшали торты сливочным кремом. Вскоре Руфи наловчилась окрашивать тесто и выкладывать его в небольшие формочки. У мистера Мак-Брума был целый ящик металлических наконечников, и он обучил ее делать розочки и зеленые листики. В Таллуле страшно любят торты с цветочками, так что самым частым заказом был слоеный торт либо с розовым, либо с голубым кремом (в зависимости от пола именинника).
Элинор родилась в пятьдесят восьмом. Три года спустя, когда Руфи ждала Фредди, мистер Мак-Брум тяжко заболел. В считанные недели весь иссох. Мы с Амосом помогали им каждый день: либо присматривали за малышкой Элинор, либо готовили что-нибудь для мистера Мак-Брума, в основном яйца пашот. Но бедняга протянул недолго. Под конец от него остались лишь кожа да кости и глаза с ужасно желтыми белками. Глядя на него, можно было подумать, что он умылся яичным желтком. Умирал он долго и трудно, ведь в те времена умирающих не клали в больницу. Раз сто на дню мы с Руфи обмывали мистера Мак-Брума и меняли ему белье. Его стул напоминал сухую горчицу, чуть разбавленную водой. Он весь корчился от боли и так громко стонал, что маленькая Элинор начинала подвывать ему. Нехорошо так говорить, но, когда он наконец умер, всем стало легче.
Следующая смерть пришла в августе шестьдесят шестого. Амос гулял с Элинор; они направлялись к фруктовому киоску мистера Хэрриса на Фриз-стрит. Руфи снова ждала ребенка, на этот раз Джо-Нелл, и, как это бывает на седьмом месяце, ей страшно хотелось персикового мороженого.
Напевая, она стояла на кухне и стряпала песочное печенье. Фредди, которой было четыре годика, взобралась на стульчик и смешивала масло и сахар, пачкая все вокруг. Я же вытаскивала из кладовки чан для приготовления мороженого и обтирала с него паутину, а потом разыскивала каменную соль. Тем временем Амос и Элинор свернули на Фриз-стрит. Как я узнала потом от мистера Хэрриса, в небе вдруг вспыхнула молния, грянул гром, и стал накрапывать дождик. Элинор убежала вперед и поджидала дедушку у фруктового киоска. Мистер Хэррис нагнулся угостить ее спелой сливой, а она обернулась к Амосу и крикнула: «Беги скорей сюда!» И тут ударила огромная молния. Амос упал на дорогу; его башмаки отлетели в сторону, а волосы вмиг обгорели и стали похожи на перепутанные медные проводки. «Он умер, еще не коснувшись земли», — уверял меня мистер Хэррис.
Сообщить нам об этом поручили Руфиному пастору. Он был еще совсем молод, только-только из баптистской семинарии. К тому времени, как он постучался к нам с черного хода, дождь уже лил, как из ведра. Ливень так лупил по крыше, словно на небе просыпался пятидесятифунтовый мешок кукурузы. Фредди слезла с табурета, отперла входную дверь и увидела пастора, молча стоявшего на пороге. Его волосы прилипли к щекам, с подбородка капала вода, а белая рубашка с коротким рукавом успела так намокнуть, что сквозь нее просвечивала розовая кожа. Руфи как раз вынимала печенье из духовки. Она поставила противень на кухонный стол, потерла спину и побрела к двери.
— Господи, брат Персон! Да вы же совсем промокли. — И она потащила его на кухню. Сквозь открытую дверь слышался шум дождя. Я заметила низкое серое небо и постоянный треск молний. Деревья вдали казались неясными зелеными кляксами и все колыхались из стороны в сторону. Дождь явно зарядил надолго. Поймав Фредди за подол платьица, я велела ей сбегать в ванную и принести проповеднику полотенце. Она убежала, а мы с Руфи попытались обтереть его прихватками. Нам и в голову не приходило, будто что-то тут не так, а между тем к нам никогда еще не наведывался насквозь промокший пастор.
Выбирать гроб я оправилась много позже, но Фреду и Руфи все равно пришлось идти со мной. Ливень не прекращался, а по радио предупреждали о разрядах молнии.
Гробовщик, мистер Юбэнкс, провел нас по скрипучей лесенке в подвал, где на бетонном полу были расставлены гробы. Под потолком там болталась одна-единственная лампочка, а стены были сложены из серых цементных блоков, местами потемневших от влаги. Я глубоко вздохнула, стараясь подготовиться к нелегкому делу. В воздухе пахло ржавчиной, и я поняла, что мы находимся глубоко под землей. Мне все казалось, что я слышу плеск воды за цементными стенами.
Руфи шла среди гробов, обхватив свой огромный живот. Ее веки опухли от слез, и за весь день она не съела ни крошки. Я тревожилась, как бы все это не сказалось на ребеночке. Она подняла какую-то брошюру и показала ее мне. Цены на гробы были просто сумасшедшие, выше, чем на мебельные гарнитуры. В общую стоимость входили (так говорилось в брошюрке) такие «бесценные» вещи, как три копии свидетельства о смерти, открытки с соболезнованием, печатные похоронные буклеты и уведомления для отдела социального страхования и для правительства в целях изменения налогообложения.
Мистер Юбэнкс уговаривал меня выбрать самый красивый гроб. Он был приятелем Амоса, а потому давал мне десятипроцентную скидку.
— А можете платить в рассрочку, — продолжал он, — погашать стоимость в течение тридцати месяцев.
Я рассматривала гробы, а мое сердце колотилось так, словно внутри у меня тоже бушевала гроза, словно и там шел град и грохотали громы. Я ни на секунду не верила, что Амосу интересно, какой гроб я ему выберу. Мне казалось, что он унесся в какие-то неведомые дали и там пропалывает кукурузу да выкапывает дикий папоротник с берега ручья. И все же я просто не могла положить его бедные останки в дешевый гроб! Это было бы неуважением к нему и ко всей нашей жизни.
И все же я просто не могла положить его бедные останки в дешевый гроб! Это было бы неуважением к нему и ко всей нашей жизни.
Руфи понравился серый полированный макет, внутри обитый пушистой синей тканью, и мы остановились на нем. По дороге назад Фред заметил большой сосновый ящик, стоявший под лестницей.
— А это что, клетка для кур? — спросил он.
— Что-то вроде того, — ответил мистер Юбэнкс, посмеиваясь в кулак, — но не для кур, а для самых никчемных ниггеров и белой рвани, которая не нужна даже собственной родне.
— А по-моему, вполне практичный, — усмехнулся Фред, присев на корточки. — Когда придет мой черед, Руфи, хорони меня в нем.
— Ни в коем случае! Только через мой труп. — Мистер Юбэнкс весь вспыхнул, и на лбу у него выступили капельки пота. Расстроенный, он стал подниматься по тускло освещенной лестнице. На следующей день в городской газете появилась заметка о гибели Амоса, которую там называли «иронией судьбы». Статья называлась: «Разряд молнии убил прохожего на Фриз-стрит».
Еще через два года мистер Юбэнкс сам отправился на вечный покой, как, впрочем, и Фред Мак-Брум. Дело было в конце декабря 1968 года. Шел сильный град, а Фред возвращался домой из Нашвилла. Он ездил туда за сковородками и за мешком неочищенной муки: в то время студенты просто помешались на всем натуральном. Буря разразилась внезапно, и всего за несколько часов температура упала с сорока до двадцати восьми градусов. Хлынул дождь, но, несмотря на холод, так и не перешел в снегопад: земля еще сохраняла тепло. Деревья и кусты покрылись льдом, а черневшие дороги блестели, словно залитые лаком.
На извилистом и опасном шоссе № 70 фургон Фреда заскользил, сломал ограничительную сетку и скатился с обрыва. Падая, он посшибал саженцы кедров. По словам полицейских, местность выглядела так, словно кто-то упражнялся с мачете, срезая деревца то тут, то там. Фред Мак-Брум умер по дороге в городскую больницу. Его смерть была вопиющей несправедливостью, ведь он ушел всего в двадцать восемь лет. При этом оставил жену, трех маленьких дочек и секрет приготовления лучших булочек в городе.
И вот мы с Руфи снова спустились в подвал похоронного бюро и побрели среди гробов. Карл Юбэнкс-младший расписывал нам достоинства и недостатки каждой модели. Со времени предыдущего визита цены успели подрасти. «Дело процветает, — пояснил нам Юбэнкс-младший, — благодаря вьетнамской войне». Бюро Юбэнксов первым в Теннесси разработало «патриотическую модель» — гроб с красной, белой и голубой полосками, обивкой в виде флага — и предоставляло возможность заказать патриотическую музыку — скажем, марш Сузы, — которую оркестр колледжа мог исполнить в зале прощания или на кладбище. По желанию заказчика.
Руфи рыдала в скомканный носовой платок. На руках у нее сидела двухлетняя малютка Джо-Нелл, все время норовившая стянуть очки Юбэнкса-младшего.
— Ах ты, маленькая егоза, — он попытался сказать это ласково, но я поняла, что детей он не любит. Вспомнив, как понравился Фреду сосновый гроб, я подумала, что это его пожелание мы не решимся исполнить. Руфи тогда было всего двадцать семь, слишком мало для вдовы. Я-то знала, каково это — остаться одной. Если не работать до упаду, горе просто сводит с ума. Я по-прежнему жила в нашем домике у ручья, и каждый божий день мне казалось, что Амос вот-вот войдет с черного хода и спросит, готов ли ужин. В полусне мне чудилось, что он зовет меня по имени. С замиранием сердца я просыпалась, и клянусь вам, в воздухе витал его запах.
В семидесятом она стала обхаживать богатого парня по имени Уайатт Пеннингтон. Он был единственным сыном Мани и Альфреда, владельцев шерстобойни подле Сикамор-роуд. Мани, окончившая педагогический колледж Джорджа Пибоди, растила сынка для блестящего будущего, в которое, разумеется, никак не вписывалась вдова с тремя дочками на руках.
Узнав о помолвке, Мани слегла. Себя она считала кем-то вроде местной королевы: ведь весь округ был назван в честь родни ее мужа. Ее же собственный род, Хавиланды, был и вовсе старинный: Мани клялась, что подпись одного из ее пращуров стоит на самой Великой хартии. Уже то, что Уайатт женился на простолюдинке, оказалось для нее кошмаром. Но мы с Амосом были еще и пришлые, так что Пеннингтоны просто рвали и метали.
— Техас! — восклицала Мани, наморщив носик. — Но это же совсем другой штат!
И что на это возразишь?! Раз мы приехали из Техаса, здешним было наплевать, кем мы там слыли: богатеями, середнячками или голытьбой. Мои предки были спекулянтами, а Амос родился в семье хозяев ранчо. Но кого здесь интересовало, каким чудом Прэй выжили в битве при Аламо?! Нет, местных зазнаек, и в особенности Мани, волновали лишь их собственные предания и родословные. Чужие легенды их не заботили. И я не тратила времени на рассказы о Техасе, о нашем ранчо, о стадах и персиковом саде. Было ясно, что Пеннингтоны уже составили свое мнение о нас. Так оно и бывает в маленьких городишках: местные всем скопом травят пришлых.
Многие тогда спрашивали меня, зачем Руфи вышла за Уайатта Пеннингтона. Ради денег? Ради славных предков, подписавших Великую хартию? Кто же знает… Когда-то она так радовалась возможности породниться с шотландскими королями. Но по правде говоря, Руфи не была гордячкой. Ей нравилось мести полы, месить тесто для хлеба и открывать по утрам парники с помидорами. В шкафу у нее висело всего четыре платья, что казалось мне просто позорищем, а из украшений она носила лишь золотой крестик, рождественский подарок отца. В других краях и в другое время она бы стала отличной горничной или примерной монахиней, но в Таллуле ей было уготовано выйти за испорченного и богатенького юнца.
Мани просто из кожи вон лезла, чтобы оттянуть венчание, но оно-таки состоялось вовремя. После медового месяца она стала требовать, чтоб сын начал работать.
— Можешь помогать мне в закусочной, — от чистого сердца предложила Руфи.
— Терпеть не могу запах дрожжей, — скривился Уайатт.
— Придется привыкнуть! — Мани аж топнула ножкой.
— Меня от него тошнит, — скорчил он рожу.
— Тогда выбирай, — отчеканила Мани. — Можешь работать в магазине мужской одежды: ты ведь прекрасно подбираешь галстуки к парадным костюмам. Или я устрою тебя страховым агентом.
— Даже не знаю, что лучше. — Уайатт разглядывал свои ногти. — Ни то ни другое мне не нравится.
— Сынок, дело и не должно тебе нравиться. Думаешь, отцу по нраву управлять шерстобойней?!
— Ха, папаша ничем не управляет! Играет себе в гольф, вот и все дела.
— Как, насмехаться над отцом?! Ты просто позор всей нашей семьи, — завопила Мани, — я вычеркну тебя из завещания!
— Ну-ну, — хмыкнул Уайатт и вжал голову в плечи, ожидая материнского подзатыльника.
Мани заявлялась в гости каждое воскресенье, в тот единственный день, когда Руфи не работала, и руководила перестановкой мебели. Мне же было велено оставить молодых в покое и приходить пореже. И она вечно просила Руфи отпустить девочек пожить у нее. «Для меня это такая радость», — сюсюкала она, подталкивая малышек к выходу. При этом все три бросали на меня умоляющие взгляды. Элинор тогда было двенадцать, Фредди — девять, а Джо-Нелл — четыре.
Кончилось тем, что Джо-Нелл стала прятаться, едва заслышав голос Мани. И сколько ее ни звали, она не откликалась. В то время она еще плохо говорила, но слух-то у нее был отменный, и к этой гостье она не выходила. Однажды ранним февральским утром я обнаружила ее за книжным шкафом. Голубые глазки пристально смотрели на меня. «Не бойся, деточка, — сказала я ей.
Однажды ранним февральским утром я обнаружила ее за книжным шкафом. Голубые глазки пристально смотрели на меня. «Не бойся, деточка, — сказала я ей. — Мани уже ушла».
Джо-Нелл тут же вылезла из-за шкафа.
— Хоцу пить, — сказала она.
— Идем-ка на кухню, я приготовлю тебе чашечку шоколада.
Я усадила ее за стол. Подняв чашку, она отпила глоточек и отставила шоколад в сторону.
— Гояцо, — пояснила она.
— Джо-Нелл, лапушка, — спросила я, — отчего ты не любишь Мани?
— Кись-Ма, — ответила она.
— Киска? — удивилась я.
— Нет. Кись-Ма, — поправила она. — Джоуней бо-бо.
«Джоуней» она называла саму себя, а «бо-бо» означало «больно».
— Тебе там делают больно? — Я старалась говорить тихо, чтоб не напугать ее.
Она кивнула.
— Но как?
— Кись-Ма, — твердила она и, задрав платьице, указывала на попку. Бог его знает, что такое «Кись-Ма», но явно ничего хорошего. И все же Мани как-никак была президентом клуба воспитателей. Просто не верилось, что она может мучить ребенка. Я рассказала об этом Руфи, и та пообещала разузнать, в чем дело. А жизнь между тем шла своим чередом. Элинор отсадили на заднюю парту, и оказалось, что ей нужны очки. Фредди выиграла олимпиаду штата по химии. Джо-Нелл захворала какой-то болезнью легких, кажется гистоплазмозом, — в общем, той, которой болеет каждая вторая девочка в Теннесси. В результате она пролежала в постели все лето.
А два года спустя Уайатт влюбился в стриптизершу. Разумеется, Руфи и понятия об этом не имела, а меня все это просто изумило. Казалось бы, чего еще надо для счастья: этот домик, где пахнет сладкими пирогами и плюшками с корицей, где в спальне лежит одеяло с электроподогревом, на окнах колышется белый тюль, а из-за венецианских жалюзи доносится запах реки. Одному богу известно, чего здесь не хватало Уайатту Пеннингтону.
Стояло лето семьдесят второго. В тот памятный день мы с Руфи сидели на кухне и резали лук с сельдереем для картофельного салата. Уайатт ввалился с черного хода, весь красный, с остекленевшим взглядом. Я сразу поняла, что он пьян, но Руфи так завертелась, что даже не заметила. Она глянула на него сквозь бегущие из-за лука слезы и, не выпуская ножа, помахала ему рукой. Уайатт, должно быть, не так ее понял и опрометью понесся наверх. Руфи озадаченно посмотрела на меня, а затем отложила нож и побежала за ним. Через минутку-другую я отправилась следом.
Она стояла в дверях и смотрела, как Уайатт собирает вещи, бегая от шкафа к кровати. Даже не зная, куда он едет, я знала, что сборы будут долгими: Уайатт просто обожал шикарно одеваться. Два раза в год Мани нанимала портного, и тот шил ему костюмы, рубашки и жилетки. Что до галстуков, то их привозили аж из самого Нью-Йорка.
— Ну скажи мне, Уайатт, — умоляла Руфи, — почему ты уезжаешь?
— А то ты не знаешь! — Он обернулся и уставился на нее. — А кто только что лил слезы и грозил мне ножом?!
— Я просто резала лук, — изумилась она.
— Ах вот оно что! — Он выдвинул ящик с бельем и вытащил аккуратную белую стопку.
— Уайатт, посмотри на меня. Ты чего-то не договариваешь.
— Я ухожу.
— Это я вижу. Но почему ты уходишь? — твердила она. Она явно надеялась, что он просто едет в Атланту на футбольный матч.
— Я еду в Нашвилл, — буркнул он, вытаскивая охапку трусов.
Повисло напряженное молчание, словно он грязно выругался.
— А туда-то зачем? — прошептала Руфи.
— Затем, что я люблю Бетти Джун Прайс.
— Затем, что я люблю Бетти Джун Прайс.
— Что-что? — У Руфи округлились глаза.
— Ей двадцать девять лет, и она — танцовщица, — пояснил он.
— Двадцать девять? Черта с два! — хмыкнула Руфи. — Она тебе врет.
Уайатт оторвался от вещей и глянул на Руфи:
— Ты ее даже не видела.
— Но могу себе представить. — Она скрестила руки на груди.
— А мне плевать, сколько ей. Она красавица. — И, щелкнув замками, Уайатт захлопнул свои синие чемоданы фирмы «Самсонайт». — А остальное неважно.
— А раньше ты меня считал красавицей. — Глаза Руфи наполнились слезами.
— Раньше, — ответил он, подмигнув, — это ты верно подметила.
И он укатил в Нашвилл на новеньком «ньюйоркере» ярко-зеленого цвета, сидя бок о бок со своей стриптизершей. Даже по здешним понятиям это было просто бесстыдством. Через несколько недель мы узнали, что он насмерть захлебнулся собственной блевотиной. Всю Таллулу интересовали грязные подробности: умер ли Уайатт Пеннингтон на руках своей зазнобы? Правда ли, что это случилось на оргии, или же он объелся жареной говядиной в кафе «Белль мид»? Кое-кто поговаривал, что его убили. Но как бы там ни было, правды никто не знал, так как стриптизерша бесследно исчезла. При этом она бросила собственных деток, которые так и остались в Таллуле с молоденькой нянькой. В конце концов узнали, что у нее есть родня в Огайо, и отправили туда малышей на автобусе компании «Грейхаунд».
В то утро, на которое назначили похороны Уайатта, разразилась ужасная гроза. За час до похорон оба унитаза в доме Руфи засорились и затопили уборные резаным луком и мочой.
— Да за что мне все это? — кричала Руфи, пытаясь прочистить унитаз. — Что, интересно, Господь хочет мне сказать?
— Дело в проклятии, — говорила ей я, — и ни в чем другом.
Вскоре пришел сосед и притащил с собой банку серной кислоты. Он вылил ее в дренажную трубу, и весь дом наполнился запахом гнили.
— Нужно вызвать водопроводчика, — сказал сосед.
— Позже, — крикнула Руфи, ведя девочек к выходу, — мы опаздываем на похороны.
Во время прощальной речи люди то и дело шмыгали носами, и я удивлялась, неужто им всем так жалко Уайатта. Но затем один мальчонка не выдержал и закричал: «Мам, а чем это так воняет?» Мать зашикала на него, но было уже поздно. Я поняла, что мы пропахли той гадостью, что притащил нам сосед. Мани, которая сидела неподалеку, тут же смерила нас с Руфи ледяным взглядом, словно говоря: «Это похороны. Могли бы хоть по такому случаю вымыться».
По дороге с кладбища Мани, обутая в лаковые лодочки, поскользнулась в грязи и шлепнулась на посыпанную гравием обочину. Ее сумочка скользнула под катафалк. В тот самый миг, когда Мани потянулась за ней, водитель сел за руль и катафалк тронулся. Ее кружевная блузка зацепилась за обод колеса, и Мани протащило по всей Брод-стрит. Похоронили ее на фамильном участке Пеннингтонов, между мужем и сыном.
Женщины из нашего прихода натащили нам огромных мисок с куриным холодцом, приправленным сыром, кусочками миндаля и крошеными картофельными чипсами. Мы все попробовали по ложечке и уселись на диван, который Уайатт купил незадолго до отъезда, обитый светлой кожей с огромными подушками. По телевизору показывали съезд демократической партии, и на стене плясали красно-синие блики. Мак-Говерна приветствовали все голливудские звезды, но в глубине души я чувствовала, что он обречен. Это читалось в его глазах с опущенными книзу наружными уголками. Мы ели холодец, передавая миску по кругу и выбирая кусочки покрупнее.
Но, несмотря на холодец, Руфи так исхудала, что обручальные кольца соскальзывали с ее пальцев, падали в раковину и проваливались в слив.
Как-то раз она не заметила стеклянной двери в банке «Ситизенс» и сломала себе нос. Весь город предсказывал, что она не протянет и года. Лицо у ней стало белым, как пшеничная мука. Иногда она стряпала всю ночь напролет под радио, игравшее бравурные польки.
Примерно тогда же она стала выпивать. Пристрастилась к «Джеку Дэниелсу» и «Уайлд терки» и разбавляла ими свой чай со льдом. Как-то раз Фредди по ошибке потянулась к ее стакану, и Руфи метнулась к ней, словно коршун.
— Нет-нет, этой мой, — закричала она, стараясь первой дотянуться до стакана, но дочка опередила ее.
— А что в нем? — Фредди поднесла его к носу.
— Просто чай с сиропом от кашля, — буркнула Руфи и вырвала у нее стакан. Я бы даже забеспокоилась, но пила она отнюдь не каждый вечер, а лишь когда подступала хандра. В такие дни она запиралась в спальне, плакала, пила и слушала записи Фрэнка Синатры.
Через пару лет она бросила пить и стала обхаживать мистера Питера Креншо. Он был владельцем магазина дешевых товаров, который назывался «Игл 5-10» и конкурировал с «Кунс». Все началось с того, что Руфи купила пару голубых попугайчиков. Мистер Креншо был в полном восторге. Он помог ей выбрать клетку, птичий корм и перекладинку и даже сам установил зеркальце для птичек. Руфи рассказывала, что он провожал ее до самой улицы. Покупатели так и вылупились, глядя, как он улыбается ей вслед. Он был вдовец и бывший президент благотворительного общества. «Немного староват для моей Руфи, — подумала я, — но кому какое дело?»
На следующий день она снова пришла к нему и купила зеленого попугайчика. Но лишь когда бедняжка приобрела себе седьмую пташку, Креншо решился наконец пригласить ее на ужин. Они поели у лодочного дока, а затем зашли к ней домой на бокал свежего лимонада (и его, и целый поднос печенья с арахисовым маслом девочки приготовили сами). Руфи настолько повеселела, что у меня отлегло от сердца. Мистер Креншо приносил ей всяких гостинцев: орешки в шоколадной глазури из своего магазинчика, пластиковые кошелечки для мелочи и ароматные пузырьки «Май син». Девочки обожали этого старикана и, разумеется, его лавчонку. Джо-Нелл забиралась к нему на колени и требовала, чтобы он подвигал кадыком. Иногда он вытаскивал из правого уха четвертаки и дарил их Фредди и Элинор. Но главное, у него был песик, помесь боксера и дворняжки, который ходил за ним по пятам. Пса звали Смутьян, а вокруг правого глаза у него было большое черное пятно. Как и его хозяин, пес умел показывать фокусы: подавать лапку, притворяться мертвым и подвывать, когда пели «О, Сюзанна».
Руфи сказала, что Питер не прочь бы жениться, но в Ок-Ридж у него взрослая дочь, и она может рассердиться.
— Дурной знак, — сказала я ей. По возрасту он был ближе ко мне, чем к ней.
— Да не волнуйся. С дочкой я управлюсь, — подмигнула она, — есть у меня одно секретное оружие.
— Прямо как у Никсона! — рассмеялась я.
— Нет, я серьезно.
— И какое же?
— Ну, что для мужчины самый крепкий магнит? То, что у нас между ног.
— Руфи!
— Едва я затащу его в постель, он забудет про нашу разницу в возрасте.
— Не вздумай с ним спать! — У меня даже зашумело в ушах.
— Мамочка, поверь, я уже не невинная крошка и знаю, что делаю.
— И слышать про такое не желаю, — и я заткнула уши.
Одиннадцать недель спустя мистер Креншо продал свой магазин и переехал в Ок-Ридж. На этот раз Руфи перестала не только есть, но и стряпать. Я приносила ей куриный бульон, мясной рулетик, пирожки с лососем и лазанью, но она ни к чему не притрагивалась. Ее лопатки торчали словно два крылышка.
Ее лопатки торчали словно два крылышка. Она целыми днями сидела в темной спальне, теребила в руках шарфик из магазина дешевых товаров и слушала Фрэнка Синатру, а в мусорном ведре снова появились бутылки из-под спиртного. Кроме того, она стала копить всякий никчемный хлам: баночки из-под соусов, газеты, жестянки и старые выпуски «Редбук». Кучи выросли сперва на кухне, а потом появились в столовой, коридоре и гостиной.
— Зачем тебе все это? — спрашивала я.
— Вот не могу ее выбросить, и все, — отвечала она, указывая на банку из-под французской горчицы, — а вдруг она мне пригодится?
Затем она выпустила попугайчиков из клетки, отдав в их распоряжение запасную спальню. Все накопленные газеты она расстилала там по полу, укрывая его от зерна и помета.
— Вы все подхватите какую-нибудь птичью болезнь, — твердила я ей, — разве закон не запрещает выпускать птиц из клеток?
— Следовало бы сочинить закон, запрещающий запирать их в клетки, — возражала она, — это жестоко.
Я уже опасалась самого худшего — беременности, но, как оказалось, напрасно; в чреве Руфи гнездилось лишь горе, пожиравшее ее заживо. Ровно через год после того, как мистер Креншо уехал из города, она повесилась на венецианских жалюзи в собственной спальне. Этого я никак не ожидала. Она не написала никакой записки, предоставив мне лишь гадать о причинах. Хуже всего было то, что нашла ее Элинор: вернувшись из школы, она наткнулась на болтавшуюся на окне мамочку.
К тому времени я слыла настоящим специалистом по похоронам. Когда я пришла к мистеру Юбэнксу, он похлопал меня по спине и сказал: «Минерва, я дам вам пятнадцатипроцентную скидку. В награду за то, что вы покупаете большую часть моих гробов».
Как я устала от всяких доброхотов, твердивших мне, что пора уже свыкнуться с невзгодами. Когда кто-то говорит тебе такое, сразу понимаешь: для такого умника что горе, что чесночная шелуха — все едино. Ведь есть же вещи, к которым нельзя привыкнуть! Нет, я не призываю упиваться бедой и всячески растравлять себя. Я лишь говорю, что горе никогда не проходит. Смерть близкого словно каменная скала, обрушившаяся к тебе во двор. Ты каждый день ходишь мимо этих глыб, острых, уродливых, неподъемных, и просто привыкаешь жить, несмотря на них. Одни обсаживают эти камни мхом и виноградом, другие оставляют как есть, а третьи собирают валуны один за другим и выстраивают из них себе стену.
Я заколотила свой дом у ручья и переехала к девочкам. Первым делом я изловила попугаев и подарила их вместе с клетками местной школе. Затем, засучив рукава, оттерла от грязи весь дом. Три месяца ушло на то, чтобы выволочь оттуда все банки, жестянки и газеты. Порой я валилась на постель от усталости, но все равно не могла уснуть: всю ночь слышала, как плачут девочки. Не знаю, хорошо ли я сделала, но только однажды отправилась в питомник и купила гортензию. Затем велела внучкам сесть за стол и написать маме письмо. «Напишите там все, что вы не успели ей сказать», — предложила я им. Потом мы вышли во двор, и я вырыла ямку. Они побросали туда свои письма, и мы посадили над ними гортензию. Деревце прижилось и стало цвести то кремовыми, то розовыми цветочками. Все то лето оно давало нам цветы и, что гораздо важнее, надежду.
Все эти годы я неотрывно возилась с кексами, дрожжами, духовками и детьми. Я превратила закусочную в гигантскую кухню. Там был длинный кухонный стол, на котором я месила тесто (по рецепту Аннетт Доннелл), а в четырех духовках постоянно пекся месячный запас шарлотки. Каждую среду я перерывала уйму газет в поисках рецептов. Годы шли один за другим, а я занималась все тем же: пекла, надписывала и замораживала. В глубокую заморозку я ставила пироги с персиками и орехами, слоеные шоколадные торты, булочки с бананами и орешками. Туда же шло жаркое, овощной суп, макароны, свинина в горшочке и соус чили.
Туда же шло жаркое, овощной суп, макароны, свинина в горшочке и соус чили. Я готовила все, что только можно заморозить. И стоило мне узнать, что кто-то шлепнулся замертво у себя в саду или скончался от мозговой опухоли, как я открывала морозилки, перебирала завернутые в фольгу контейнеры и неслась кормить осиротевших родственников. При этом я старалась привезти им полный обед. Позже, когда Джо-Нелл приучила меня ходить по распродажам, я купила себе две вертикальные морозильные камеры и установила их в нашем гараже. Получив столько нового пространства, я развернула бурную деятельность: стала возить свою стряпню еще и больным и увечным. Я навещала всякого, кто жил в Таллуле и хоть чем-либо заболевал: от камней в почках до рака печени.
На донышко мисок и блюд я наклеивала ярлычки со своим именем. Не для того, чтоб мне их вернули: посуда — недорогая штука, милые мои. Порой я спрашивала себя, а стоит ли вообще ее подписывать. Пусть у больного просто появится новенькое блюдо или еще один поднос; ведь настоящий благодетель не сообщает своего имени. И однако же я не могла не наклеивать эти ярлычки. Видать, мне хотелось, чтоб люди видели, как я о них забочусь, что это я принесла им шарлотку или вишневый салат. Вот развернут они мой пирог или жаркое, а он словно говорит им: «Это я, Минерва Прэй. Садитесь-ка поешьте! Устраивайтесь поудобнее и откусите кусочек. Ну что, полегчало?»
Мне казалось, что эти пироги и запеканки помогают мне управлять смертями да проклятиями. В этом вся я! Словно еда может исцелить душевные раны! Я, конечно, понимала, что одной жареной индейкой горю не поможешь. Поэтому стала дежурить у постели больных, чтобы их жены (или мужья) могли перекусить или постирать белье. Лучше всего было в больнице: там сразу понятно, кому и где нужна помощь. Если пациент был в коме, я брала с собой вязанье и садилась у окна. Тем же, кто был в сознании, я приносила мороженое, рассказывала про дела в клубе пенсионеров или читала газету.
— Минерва Прэй, вы просто ангел, — говорили мне люди, — вы посланы нам Господом.
Что ж, может, для них я и была ангелом, но моим собственным внучкам со мной не слишком повезло. Не нравилось им мое увлечение; каждая высмеивала его на свой лад, и все три советовали мне стать сиделкой и хотя бы получать за это деньги. Но я их не слушала. А годы шли, и постепенно они начали стыдиться своей колесившей по городу бабули. Старушенции, которая, открывая дверь их кавалерам, кричала скрипучим голосом: «Джо-Нелл!» или «Фредди!», а потом напутствовала юнцов: «Смотри, чтоб позже одиннадцати не засиживался».
Я уже доживала свой век, а они свой еще только начинали. Элинор была прирожденной кулинаркой, Фредди выигрывала все школьные конкурсы и олимпиады, а Джо-Нелл была помешана на мальчиках. Она переходила от одного к другому, как вино на дегустации: каждый делал по глоточку и смаковал букет.
И я прекрасно понимала, что происходит.
Господи, как мне хотелось быть им хорошей бабушкой! Не тюремным надзирателем, не занудой, заставляющей прибираться в шкафу и ходить в церковь, а доброй, хлебосольной бабулей, которая живет исключительно ради того, чтоб радовать внучат. Но нет, мне приходилось быть и мамой, и папой, и Минервой — всем сразу. Выбора не было. А когда они отдалились от меня — каждая по-своему, разумеется, — я сделалась бабулей для всего остального мира. Странное, конечно, занятие, но ничего другого мне в голову не приходило. Знай Руфи, что тут у нас происходит, она бы перевернулась в гробу. Раз я позвонила Хэтти и сказала:
— Я — отвратительная бабка.
— Ничего подобного, — ответила она, — просто нынче молодежь какая-то бешеная. Гормонов, видать, многовато. Но потом-то они поостынут, вот увидишь.
— Ты правда так думаешь? — вздохнула я. После целого дня возни со странными, больными теннессийцами (которые, вообще-то говоря, не слишком отличались от моих земляков из Маунт-Олив) ласковый голосок моей Хэтти был как бальзам на раны.
— Ты правда так думаешь? — вздохнула я. После целого дня возни со странными, больными теннессийцами (которые, вообще-то говоря, не слишком отличались от моих земляков из Маунт-Олив) ласковый голосок моей Хэтти был как бальзам на раны. Нежнее листового пирога с клубникой и кремом.
— Правда, — ответила она.
И мы с ней чуток помолчали. Где-то вдали шумела вода в раковине, и я догадалась, что она моет батат.
— Хэтти, ты согласна, что мы посланы на землю помогать друг другу? — спросила я наконец.
— Ну разумеется, — сказала она.
— А девочки говорят, что я слишком много помогаю и столько отдаю другим, что в итоге останусь ни с чем.
— В смысле, раздашь все припасы и останешься с пустым холодильником? — засмеялась она.
— Да кто их знает, о чем они!
— Может статься, они и сами не знают. Просто заняты своими делами. Они ведь так молоды, Минерва, все еще растут. Вот поживут с наше — станут набираться мудрости.
— Только это под конец и остается, — рассмеялась я, — мудрость.
— Минни, девочка моя, — вздохнула она, — а разве этого мало?
Джо-Нелл вышла замуж в 1984 году, на следующий день после окончания школы. Нехорошо так говорить, но я даже радовалась ее отъезду Мне больше не надо было ждать ее до глубокой ночи, волноваться, что с ней и как, не попала ли она в какую беду. Они с Бобби Хиллом сняли домик о двух спальнях рядом с колледжем и завели щенка гончую. Он продавал одежду на заднем дворе, а она жарила цыплят. Через три месяца после свадьбы Бобби врезался на своей открытой машинке в кузов промышленного грузовика, из которого посыпались техасские арбузы. По словам полицейских, его раздавило бы насмерть, даже будь у него нормальная машина с несъемной крышей.
— Я обречена на несчастья, — сказала Джо-Нелл на церемонии прощания, и все с ней согласились. Глаза ее так опухли от слез, что остались лишь узенькие щелочки. В последующие годы неприятности так и сыпались на нас: один любитель подглядывать подсмотрел, как Элинор вылезает из ванной, и первый завизжал от ужаса; Фредди выгнали из медицинского колледжа, а третий муж Джо-Нелл доводил ее своими выходками. И все же не могу сказать, чтоб на нас обрушилось какое-то новое горе, если не считать, конечно, гибели Бобби Хилла. Я даже стала думать, не истек ли срок действия проклятия.
Элинор наконец-то начала спускать воду, и та с урчанием хлынула в канализацию. Дверь ванной отворилась, на полу в коридоре появился треугольник света. Неслышно ступая, она вошла в мою комнату: косолапенькая, с плоским лицом, в розовых папильотках и старом отцовском халате из лиловой махры. Снаружи, похрустывая гравием на нашей дорожке, затормозила машина. Я услышала, как открылись дверцы и к дому зашагали двое человек.
— Должно быть, это Фредди.
— Давно пора. — Элинор подкралась к окну. Она раздвинула планки жалюзи, тех самых, на которых повесилась ее мама. До нас донесся звук голосов, и я прислушалась.
— Спасибо, что подвез, — сказала Фредди.
Дверца машины скрипнула, а затем захлопнулась. Элинор продолжала подглядывать, вся изогнувшись, чтобы хоть что-то разглядеть.
— Ого, да это старина Джексон Маннинг, — прошипела она.
— Сын Чили? — спросила я.
— Ага. Снова взялся за старое. Но она-то ведь замужем! Похоже, Фредди начала мести хвостом, как Джо-Нелл. Видно, это заразно.
— Думаю, он просто подвез ее, — ответила я, — а не заводит шуры-муры.
— Ха, это только начало, — фыркнула Элинор, — очень скоро она влипнет в омерзительный любовный треугольник.
— Думаю, вряд ли, — вздохнула я и пожалела, что живу не в Техасе.
Те детки, которых ты воспитала приличнее других, вырастают и уезжают за тридевять земель. Они селятся в Майами или Калифорнии, рядом со сказочными продуктовыми магазинами и нудистскими пляжами. И все благодаря тому что ты выучила их хорошо готовить и широко мыслить. Но с теми, кого ты воспитала не ахти как, выходит наоборот: они всю жизнь липнут к тебе, словно репейник. Хотя, кажется, могли бы уехать эти, а не те. Сколько ни живу на свете, не перестаю этому удивляться.
ДЖО-НЕЛЛ
Мисс Детройт зашла сделать мне укол анестетика. Вообще-то у меня ничего не болело, но успокоиться и правда не мешало. Так что я повернулась и покорно подставила ей задницу, сплошь покрытую синяками и оттого пятнистую, как подгнивший фрукт. Теперь я лежала на хирургическом отделении, а на окне у меня красовался тигровый амариллис. В прикрепленной к нему открытке говорилось: «Думаю о вас. Доктор Джей Ламберт». Рядом с амариллисом стояли две вазы роз: одна — от водителя скорой помощи, другая — от местного политика, с которым я когда-то встречалась. Он подписался инициалами: «Б. Д.». Уповая на высокий пост в республиканской партии Теннесси, он был вынужден пожертвовать отношениями со мной. Ну а на полу высилась корзина с папоротником: подарок от ребят из шиномонтажной мастерской Билли Рэя.
Я все разглядывала цветы, и постепенно они начали расплываться. Голова у меня закружилась, и, закрыв глаза, я поплыла по течению.
В детстве я не только видела цветные сны, но еще и бродила в ночи, как лунатик. Как-то раз даже вышла на улицу. На мне была коротенькая лиловая комбинашка, полученная в подарок на день рождения. В ту ночь Минерва открыла окно и завопила: «Джо-Нелл! Немедленно возвращайся домой!», и я с визгом побежала к ней. Из всей истории мне запомнилась лишь стоящая на крыльце Минерва и ее пронзительный вопль.
И теперь еще мне то и дело снится, что мама жива и катает нас с сестрами на машине. При этом она крутит на магнитоле «Американский пирог» или «Парк Мак-Артур» и подпевает. Песни про еду мама просто обожала. Бывают также сны про то, как мы выходим из зала прощания, в белых перчатках и платьях в оборочках, и все вздыхают: «Бедные маленькие сиротки». Снятся и наши походы на кладбище, как Минерва велит нам выбрать цветы, а в жимолости и анютиных глазках сидят жучки и красные гусеницы. Снится и про то, как мы едим пироги с орехами и лимоном или пьем мятный чай со льдом. Изредка снятся длинные, жаркие дни на кухне, и строительство террариума, и Фредди, загорающая на одеяле на заднем дворе под песни «Ты так тщеславна» и «Негодник Лерой Браун».
Но самые яркие сны, те, что словно раскрашены фломастерами «Техниколор», уносят меня в раннее детство, когда мама была замужем за мерзавцем Уайаттом Пеннингтоном. Мне снится, что меня воспитывают Мани и «доктор Спок»: «А» — «аптечка» и «аденоиды», «Б» — «баралгин» и «бронхит», «В» — «ветрянка» и «воспитание», «Г» — «грелка» и «горшок», «Д» — «дисциплина» и «диатез». Этот кошмар повторяется из года в год, четкий, как ненавистное воспоминание.
В этом сне в ванной комнате Мани, над самой дверью, висит красная резиновая груша, похожая на тушку ощипанного гуся. У нее длинный гнущийся носик с белой насадкой. Сперва Мани отсылает куда-нибудь моих сестер, а затем идет в пустую спальню и застилает кровать клеенкой.
— Джо-Нелл! — зовет она самым сахарным голоском.
Я хоть и совсем малявка, но все же не полная дура. Раз она так ласково растягивает мое имя, значит, собирается помучить. И я прячусь в ее шкафу, пропахшем кожей и потными ногами, буквально вжимаясь в его стенку «Кись-Ма», — думаю я.
И я прячусь в ее шкафу, пропахшем кожей и потными ногами, буквально вжимаясь в его стенку «Кись-Ма», — думаю я.
— Джо-Нелл! Котеночек! Не заставляй бабулю искать тебя.
Разумеется, она мне не бабуля, но спрятаться от нее невозможно. Сколько бы я ни брыкалась, сколько бы ни кусала ей руки, она все равно выгонит меня из шкафа ремнем, потащит на кровать, заголит мне зад и вопьется в него своей чертовой клизмой. Твердый наконечник она смазывает кремом «Пондс колд». Иногда она задирает грушу вверх, и мои внутренности разрываются от боли. Я пытаюсь вцепиться ей в лицо, но рука с клизмой подымается все выше и выше. При этом взгляд Мани суров, как у шахтера, который вгрызается в залежи породы. На ее верхней губе поблескивают капельки пота, глаза сверкают, а из горла вырывается что-то среднее между смехом и плачем.
— Не брыкайся, — предупреждает она и протягивает ремнем по моей ноге. И каждый раз, едва я дернусь или взвизгну, она стегает меня с кри ком: «Терпи!»
Сны про клизму бывают чуть разные. Иногда из меня так ничего и не выходит, словно мои внутренности пусты, как дуршлаг. Тогда я радуюсь, мечтая исчезнуть и посмотреть на ее изумленную рожу. Она заставляет меня лежать целых полчаса, а затем сажает на горшок. Если же ей все еще мало, она набирает новую порцию мыльной воды и ставит мне еще одну клизму На стене в ее ванной висит пожелтевшая таблица: 0,5 стакана — младенец, 1 стакан — годовалый ребенок, 1 пинта — ребенок дошкольного возраста.
В тех снах существуют как бы две Джо-Нелл: одна гоняет мотыльков вместе с сестрами, а другой ставят клизмы. Эта вторая до смерти боится собственного имени, журчания льющейся в таз воды, запаха крема «Пондс» и прикосновения холодных пальцев. Мани словно и не замечает меня, если только я не выгибаюсь и не начинаю орать. Порой, в самом страшном из кошмаров, комната плывет у меня перед глазами.
Вот один из таких снов о клизме: стоит пасмурный день, небо затянуто тучами. На западе уже началась гроза, но до нас ей идти еще часа два. Я сижу в гостях у Мани, но потом умудряюсь сбежать. И вот мы с двумя пацанами со Второй авеню играем у воды: разжигаем костер из Маниных угольных кирпичей и жарим над ним корни алтея до тех пор, пока они не вспыхнут огнем. Ребята то и дело ворошат прутиками сгоревшие угольки, серые, крошащиеся, с оранжевой сердцевинкой.
— Не надо так де-ать, — говорю я, и они испуганно смотрят на меня, переминаясь с ноги на ногу. Я старше любого из них и с удовольствием ими командую. Но стоит мне отвернуться, как они снова хватают прутики и лезут к тлеющим углям. Должно быть, Мани заметила меня с верхнего этажа; она вылетает из дома прямо в фартуке и бежит к нам, сломав по дороге тонкую ивовую ветку. Она обрывает все листья, мочит прут в воде и гонит им меня до самого дома. Там она тащит меня наверх и швыряет на кровать. Ее прут по-прежнему хлещет меня по рукам, ногам и спине. Лупцуя меня, она приговаривает: «Не играй с огнем! Не играй с огнем!»
Потом она бросает прут и выходит из комнаты. Быстро нагнувшись, я хватаю его и выбрасываю в окно. Мне слышно, как Мани хлопочет в ванной этажом ниже. И вот она взбирается по лестнице, держа в руках таз с дымящейся жидкостью, а клизма болтается у нее на шее. Я отбиваюсь как могу, изо всех сил пинаю ее по сиськам, но она страшно сильная. По своему обыкновению, она сперва засовывает мне в попку свой палец.
— Я смотрю, где тут дырочка, — поясняет она, — не то вода пойдет у тебя из ушей.
Потом она втыкает наконечник, и теплая вода наполняет мне кишки. Я даже не пытаюсь сдержаться и разом описываю клеенку и пол. При этом я визжу как резаная, а потом, изловчившись, пинаю ее в живот.
— Ай, — кричит она.
— Кись-Ма, — ору я.
— Прекрати, сейчас же прекрати это! — завывает Мани, поднимая грушу над головой и растягивая трубку.
Закончив с клизмой, она открывает дверь и выходит из комнаты, а я все так же лежу на боку, икая и задыхаясь. Через несколько минут ко мне приходит старая чернокожая горничная, Бернис. Она пытается поднять меня на ноги и надеть мне трусы, но по моим ногам все еще стекает мыльная вода. Я слышу, как хлопает парадная дверь, и мы с Бернис выглядываем в окно. Мани стоит внизу и подметает садовую дорожку. Мимо проносятся машины, на миг озаряя ее светом фар, а она все метет и метет, словно самая мирная старушка.
— Психопатка, — вздыхает Бернис.
— Ненавижу ее.
— Ее все ненавидят.
— Но в тебя-то она не вливает воду! — Я падаю на кровать и закрываю глаза.
— Нет, — соглашается Бернис, — меня она изводит по-другому.
Чуть позже Мани возвращается в дом и, даже не убрав на место метлу, заглядывает ко мне.
— Ну как, успокоилась? — спрашивает она. — Хочешь бутербродик с ветчиной?
— Нет, — я натягиваю одеяло до подбородка.
— О чем это вы с Бернис шептались?
— О тебе.
— Ого! — Она так и впивается в дверную ручку. — И что же вы обо мне говорили?
— Цто мне остоцейтейи твои Кись-Мы! — Я так ору, что у меня набухают все вены на шее. — Бойше ты никому их не ставишь! Поцему? Поцему?
— Потому что запор только у тебя и больше ни у кого. А если ты хоть кому-нибудь разболтаешь про это, я сверну твою гадкую шейку и сожгу твой жалкий домишко!
Она подходит к окну и выглядывает на улицу. Я вижу, что над горами уже нависли тучи, такие же темные, как вода в реке. Молния, словно тонюсенькая трещинка, прорезает почерневшее небо, а затем раздаются раскаты грома. В комнату дует легкий ветерок, шелестя листвой.
— А какой был хороший вечер, — вздыхает Мани и захлопывает окно.
ДЖЕКСОН
Букет я купил в «Флауэр пауэр» — тамошний продавец уже знает, что мне по вкусу: коралловые розы, тигровые лилии и райские птицы. Затем я поехал на кладбище. Припарковавшись у памятника павшим конфедератам, я прошел шесть рядов к востоку до участка Маннингов. Могилку Келли когда-то украсили херувимом, но теперь его крылышки пооблупились. Над маминым гробом лежит простая плита из розового гранита с надписью «Марта Джексон Маннинг». Она уверяла, что находится в родстве с Эндрю Джексоном, но отец в это не верил. Он вообще никогда не верил ее словам, даже когда она пожаловалась на какую-то «шишечку» в груди.
— Ради бога, Марта, — сказал он с досадой, — это обычный фиброаденоматоз.
— Ну, пощупай, — просила мама, пытаясь поймать его жилистую руку.
— Марта, я щупаю молочные железы с утра до вечера. Могу я хоть дома отдохнуть?!
Она и меня просила пощупать, но я тоже отказался. А через семь месяцев она умерла. У нее оказалась скоротечная форма рака, и метастазы сыпались, как конфетти из хлопушки.
Вскоре после этого я встретил Фредди. Как-то холодным вечером она предложила приготовить ужин у меня на квартире. Я откупорил бутылку божоле, и она утащила ее в мою тесную кухню, сказав, что приготовит мне «пьяную грушу». Я был просто потрясен и решил, что моя девушка — кулинарный гений. Сам-то я к таким изыскам не привык и слыхал разве что о «пьяной вишне». Когда я уже до отвала наелся сырных палочек и крекеров, моя захмелевшая подруга внесла наконец десерт. Она была совершенно голая, а в руках держала глиняный поднос, на котором красовались груши. В тот вечер она забыла отварить лосося, забыла приготовить салат или хотя бы бутерброды, но, боже мой, какие она сделала груши! Мы ели их прямо в постели, кормя друг друга с ложечки лимонным соусом.
Так что начало у нас получилось на редкость многообещающее.
Перед отъездом в медицинский колледж я достал из сейфа мамин бриллиант в два карата и заказал к нему оправу из белого золота: ведь я во что бы то ни стало собирался жениться на Фредди Мак-Брум. Я заказал кольцо по ее мерке, и, хотя она не любила «побрякушек», это колечко ей понравилось. Мы знали, что помолвка будет длинной, главным образом из-за моего отца, который твердил, что все браки, заключенные в медицинском колледже, быстро распадаются. Фредди не возражала. Ей дали комнату в общежитии, но жила она в основном у меня, в Мидтауне. Когда ее исключили, я был потрясен. Ну кто бы мог подумать, что ей не хватает денег? Она ведь почти ничего не тратила! Я просто рвал и метал.
— Ушам своим не верю! Тебя что, насовсем исключили?! Или ты можешь поступить заново?
— Не знаю, — бросила она, лежа на диване и прочищая флоссом зубы.
— Не знаешь?! — заорал я. — Как это «не знаешь»?
— Слушай, — сказала она, — это мое дело, а не твое.
— Какая разница? Твои дела и мои тоже.
— Не преувеличивай.
— А я и не думал!
— Слушай, может, тебе за меня стыдно? Дело ведь в этом, да?
Я молча уставился на нее, осознав, куда она клонит. С самого начала нашего романа, разгоревшегося в зоологической лаборатории, она постоянно говорила, что мы не пара: докторский сынок и дочь простого булочника. И уверяла, что мезальянс — залог краха.
— В голове не укладывается, — повторял я, шагая по крошечной гостиной, — ты выкрала это чертово сердце!
— И не только сердце, еще и желчный пузырь. Мне понадобились деньги, я была на мели.
— Но у меня-то есть деньги! — Я стучал себя в грудь, а потом наклонился и схватил ее за плечи. — Ты могла попросить у меня!
— Ты что же — мой спонсор?
— Нет, я тот дурак, что до безумия любит тебя. Точнее, любил.
Она ушла в спальню и стала складывать одежду в мешки. Вещей у нее всегда было мало: по ее словам, она не желала иметь ничего, с чем было бы жалко расстаться. Пока она собиралась, я положил ноги на стеклянный столик и сделал вид, что смотрю десятичасовые новости. Но в голове у меня вертелись египетские пирамиды, где на стенах нарисованы бредущие в загробный мир человечки, уносящие с собой цветы и фрукты, точь-в-точь как Фредди сейчас уносила свои пожитки в дом на Ривер-стрит. Собрав два холщовых мешка, она встала в дверях и объявила, что уходит. «Пока», — хмыкнул я, не отрывая взгляд от телевизора. Она сняла мое колечко, и оно со звоном упало в стеклянную пепельницу. Дверь захлопнулась, Фредди ушла в сырую ночь.
Живя с человеком, обычно узнаешь о нем тысячу мельчайших подробностей, но узнать что-либо о Фредди было практически невозможно. Красноречивее всего рассказывали о ней ее волосы: они пахли лишь свежевыглаженными льняными полотенцами. У Фредди не было никаких вещей: ни мебели, ни постеров — вообще ничего, кроме зубной щетки, учебников и пары поношенных шмоток. И эти скудные пожитки ровным счетом ничего не говорили о ее внутреннем мире. Кроме того, у нее не было дурных привычек: она не грызла карандаши и не разбрасывала по квартире носовые платки. Не было и любимого лакомства, скажем, оливок или плавленого сыра. Обычно человек оставляет свой след даже в гостиничном номере, но Фредди была минималисткой. Делая бутерброд с колбасой, она все начисто подтирала, не оставляя на столе ни крошки.
Моя бывшая жена оказалась полной противоположностью: о ее характере можно было судить уже за версту. По всему дому вечно валялись журналы «Вог», «Гурме», «Акитекчерел дайджест» и приходившие по подписке номера «Повседневной одежды для женщин».
В ванной было полно ракушек, привезенных с Бермуд, а также разноцветных пузырьков с ароматическими маслами, купленных в Мидтауне. На столе лежал толстый ежедневник, в котором был расписан каждый день ее жизни: теннис, маникюр, депиляция ног, шейпинг, поход к травнику, к аналитику, на матч младшей лиги, на обед с Джули Фей из «Новинок моды с Джули Фей». Из последнего романа Тома Клэнси торчали билеты на концерт, а крутом все было усеяно пилками для ногтей, лаками от «Эсте Лаудер» и вырезками из журнала «Коммершиал ньюс». Посреди стола стояла банка каперсов с торчавшей в ней серебряной ложкой. Конечно, это была лишь верхушка Изабеллиного айсберга, но тем не менее по ней можно было представить и подводную часть.
Когда Фредди ушла от меня, я всю ночь обшаривал квартиру. Она не оставила после себя ничего, кроме пары шпилек, завалившихся за ящик комода, двух длинных каштановых прядей, застрявших в сливе душевой кабинки, и приборчик для приготовления лимонного соуса. Я храню этот приборчик и по сей день, хотя волосы и булавки уже давно потерялись. К тому времени, когда я примчался за ней в Таллулу, она уже перебралась в Калифорнию. Через год жена моего отца (не помню, которая именно) прислала мне вырезку из таллульской газеты, где в крошечной заметке сообщалось, что Фредди вышла за доктора наук Сэма Эспая. Стало быть, тоже за доктора, но уже совсем другого.
Когда мы с Изабеллой поженились, я подарил ей золотое кольцо без камня, сославшись на бедность. Она мне поверила: тогда я был просто студентом-педиатром, которому оставался еще целый год до выпуска. В это самое время Фреддино колечко полеживало в сейфе банка «Либерти». Оно и сейчас там. Жене же я так и не купил бриллиант, быть может, потому, что в глубине души знал: мы с ней расстанемся. Она была золотоволосой красавицей и «лицом» самых модных бутиков Мемфиса и Джермантауна. Тогда мне казалось, что я люблю ее, но теперь-то стало ясно, что я просто хотел семьи. А Изабелла, по-видимому, хотела заарканить врача. Изначально я надеялся стать ангиохирургом, но меня не приняли в ординатуру. Пришлось идти в педиатрию, куда взяли с радостью. Разумеется, это вполне достойная область, но тогда она мне казалась сущей каторгой: ведь предстояло до конца жизни осматривать орущих младенцев и выслушивать бредни их мнительных мамаш. Уже потом я понял, что в этой-то сумятице и заключен весь риск: можно пропустить того единственного ребенка, который действительно болен. Малыша с лимфоцитарной лейкемией, менингитом или диабетом.
Однако заработок педиатра Изабеллу не устраивал. Она пыталась угнаться за женами кардиологов, хирургов-ортопедов, гинекологов и анестезиологов — врачей наиболее прибыльных специальностей. Но будь мой гонорар и много больше, ей все равно не нравилась Таллула. Не нравились выходившие на площадь краснокирпичные фасады. Не нравились магазины одежды, в которых до сих пор продавали дешевые кожаные башмаки, юбки клеш и прочую старушечью дребедень. К ее ужасу, в городишке не водилось ни балета, ни концертного зала, ни даже приличной чайной. Закусочная, по ее мнению, была сущим кошмаром. А уж о пристойном ювелирном магазине, разумеется, и речи не шло. В итоге она ездила в Нашвилл каждый день, словно поход по магазинам «Грин хиллс» и «Белль мид» был для нее священным долгом.
По прошествии двух лет я промотался до нитки. Мой банкир Джордж Кармайкл утверждал, что это просто невероятно: ведь я не вкладывал денег в убыточные компании, не покупал роскошных квартир или домов стоимостью в миллион долларов. И тем не менее я был гол как сокол. Когда я рассказал об этом жене, она зарыдала, а затем впала в бешенство. И на следующий же день заказала себе манто из чернобурки за пять тысяч. А обедая с одним пройдохой риелтором, присмотрела нам пару домов стоимостью около двух миллионов: «хижину» в пятнадцать комнат на участке в двести акров и точную копию Тары на участке в пол-акра.
А обедая с одним пройдохой риелтором, присмотрела нам пару домов стоимостью около двух миллионов: «хижину» в пятнадцать комнат на участке в двести акров и точную копию Тары на участке в пол-акра.
Со стрессом каждый справляется по-своему. Стыдно признаться, но я начал встречаться с медсестрой-практиканткой с педиатрического отделения — миловидной хохотушкой, напоминавшей мне Салли Филд в сериале «Летающая монашка».
Изабелла пронюхала о ней в два счета. А пронюхав, набросилась на меня с электрическим кухонным ножом. После развода у меня не осталось ничего: ни дома, ни машины, даже стула или лампы и то не осталось. Меня бросила и жена, и «летучая монашка», и обе обчистили, словно стая стервятников.
Тогда-то я и вспомнил о Фредди с ее спартанской неприхотливостью. Насколько все же выгодно ничего не иметь: и воры не тронут, и коллеги не позавидуют, и хозяйство вести несложно. Но на мое горе, Фредди рядом не было, а был лишь пустой банковский счет, куча долгов и профессия, полностью зависящая от заболеваемости детей. Я подумывал уехать — отправиться в Калифорнию и упросить Фредди вернуться ко мне. Однажды я даже сходил в «Булочки Фреда» и попытался расспросить о ней Джо-Нелл.
— Показать тебе пирожные со сливками? — спросила она.
Она оказалась светловолосой и голубоглазой копией Фредди с более пышными бедрами и грудью. Я заметил, что у них одинаковая улыбка и мелкие белые зубы.
— О, конечно, — ответил я. — Да, кстати, как там дела у Фредди? (Дипломатические тонкости были мне напрочь недоступны.)
— Получает уже вторую магистерскую степень, — отозвалась Джо-Нелл, опускаясь на корточки и вытаскивая поднос с выпечкой.
— Что? — изумился я. Я-то не слыхал и о первой степени. В таллульской газете сообщают отнюдь не обо всех достижениях местных жителей. Если событие проходит незамеченным, на то может быть две причины: редактор газеты, мисс Филлис Госсетт, либо не знала о нем, либо утверждает, что не знала, что на самом деле означает «отсеяла как неинтересное». С точки зрения Филлис Госсетт, люди делятся на тех, кто стоит особого внимания, и тех, кто его вовсе не стоит. Будучи типичной карьеристкой, она всячески подлизывается к городским толстосумам, мастерски определяя тех, кто может быть ей полезен. Словом, настоящая хищница. Всех Пеннингтонов она чтит как небожителей, но те, кто носит фамилию Прэй или Мак-Брум, ей совершенно неинтересны.
— Я сообщала в газету, — говорила Джо-Нелл, — но об этом ничего не написали. А ведь я сказала Филлис Госсетт, что Фредди работает с китами. Настоящими, живыми китами! А она мне: «Господи, надеюсь, они не проглотят нашу коротышку». Ну разве не стерва? Ведь ей же просто завидно!
— Что ж, это в духе старушки Филлис, — ответил я. Меня это все порядком разозлило, даже пот прошиб. — Вечно злобствует, слыша о тех, кто удачливее нее.
— Да она просто дрянь.
— Завистливая дура.
— Вот что дура, так это точно. — И Джо-Нелл вынула из духовки еще один поднос с пирожными. — Фредди аж диву дается: похоже, ее уважают повсюду, кроме Таллулы. Минерва ей как-то сказала: «Не переживай, Фредди, даже Иисуса не чтили в Его родном городе». Ну, а я-то надеюсь, что мисс Госсетт в жизни не поднимется выше таллульской газеты.
— Уверен, что так и будет. — Я думал, как бы вывести разговор снова на Фредди, но Джо-Нелл в любой ситуации берет дело в свои руки. В результате я купил дюжину булочек со сливками, кучу слоек с корицей, печенья с повидлом и целую упаковку шоколадных пирожных. Все это я отнес в сестринскую педиатрического отделения и оставил там на столе. Сверху возложил рецептурный бланк с надписью: «Лакомиться по три раза в день.
Доктор Дж. Маннинг».
Этот шаг стал своего рода поворотным этапом в моей жизни, потому что с тех пор медсестры не давали мне прохода. Я не хвастаюсь, это чистая правда. Один мой разведенный коллега, гастроэнтеролог Дейв Уильямс, говорит, что это просто издержки нашей профессии. Причем успех почти не зависит от внешних данных или материального достатка. «Все дело в красной буквочке «Д» на твоем халате, — пояснил мне Дейв. — Быть разведенным доктором — это все равно что оказаться в открытом океане с артериальным кровотечением. Рано или поздно к тебе устремятся сотни акул». И вот мое «кровотечение» продолжается уже много лет, а раны по-прежнему не затягиваются.
Наткнувшись на Фредди в доме Сисси, я вызвался подвезти ее до дому. Она согласилась, и я решил, что мне снова улыбнулась удача. Я и понятия не имел, как там у нее дела, в Калифорнии, а знал лишь, что меня по-прежнему тянет к ней: слава богу, в машине было темно и моя эрекция осталась незамеченной. Задень она меня нечаянно рукавом, произошел бы немедленный взрыв. Больше всего мне хотелось отвезти ее домой и неспешно расстегнуть на ней блузку, но было бы здорово даже просто посидеть в машине, вдыхая аромат ее волос: они теперь были коротко и чертовски сексуально острижены, но по-прежнему пахли свежевыглаженными полотенцами. Но я сидел смирно. Малейшее сопротивление с ее стороны повергло бы меня просто в уныние. Наконец, свернув на Ривер-стрит, я сделал глубокий вдох и пошел ва-банк:
— Может, заедем ко мне на ферму на глоточек пива?
— Пива? — спросила она, покосившись на меня.
— Ну, не пива, так вина, минералки, свежепрофильтрованной воды, — настаивал я, пытаясь шутить.
Она рассмеялась:
— Как соблазнительно!
— Тогда едем? — Мое сердце трещало, как спелый арбуз, полный сладкой и липкой мякоти.
— Мне пора домой.
— Но еще так рано.
— Знаю, но я что-то устала.
— Это из-за вечеринки, — сказал я, прекрасно понимая, что она врет. В полутемном салоне ее глаза казались совершенно бездонными; зрачки расширились и словно затягивали меня. Я знал эти глаза так, словно они были моими собственными.
На следующий день я проехал по проселочной дороге, на которую выходят задворки ее дома. Она стояла в саду, подбирая сломанные сучья и кидая их в тачку. На ней была старая фуфайка с капюшоном, размера на два больше, чем нужно, с вышивкой на груди «Государственный университет Сан-Франциско». Я поехал побыстрее, надеясь, что она меня не заметила, и размышляя, чья эта огромная фуфайка — неужели ее мужа? На следующий день я снова приехал и стал заглядывать в глубь сада и в окна. Знаю, нормальные люди так не делают, но я просто не мог удержаться.
Как-то днем я заметил ее в больничном кафе и тут же потащил свой поднос к ее столику.
— У тебя тут не занято? — спросил я, моля бога, чтоб она никого не ждала.
— Садись, — ответила она, указав на пустой стул. И я сел. Неожиданно я понял, что понятия не имею, о чем нам говорить. В голове вертелась та фуфайка с капюшоном, и я спросил, где она училась на магистра.
— В Скриппсе, — сказала она, облизывая ложку. Ей нравится сладкий кофе, вспомнилось мне вдруг, с большим количеством сливок.
— А твой муж — он тоже там учился? — бросил я и сам подивился, как ловко и непринужденно это прозвучало: словно я собираю анамнез у пациента.
— Да. Но первые четыре года он отучился в Государственном университете Сан-Франциско. Взгляды у него тогда были крайне левые, хотя, впрочем, он и теперь не особо поправел. — Она указала на мой салат с тунцом: — Вот твой обед он решительно не одобрил бы.
— Почему, интересно? — Я уставился на свой поднос и мысленно пожалел, что заговорил о ее муже.
— Почему, интересно? — Я уставился на свой поднос и мысленно пожалел, что заговорил о ее муже.
— Рыба и яйца. — Она пожала плечами и загадочно улыбнулась. — Сэм — веган.
— В смысле — житель планеты в системе Веги? — поддразнил я.
— В смысле — строгий вегетарианец. Он не ест ни мяса, ни…
— Я знаю, кто такие веганы, — прервал я, но все равно чувствовал себя круглым идиотом. На ее тарелке лежали остатки салата. — Так ты что, тоже на диете?
— Я? — улыбнулась она. — Как бы не так.
— Докажи. — Я разломил свой бутерброд и протянул ей половинку. Она съела все до последней крошки и облизала пальчики.
— Боже, как вкусно, — сказала она, разглядывая ладонь, — похоже, я крепко проголодалась.
— Хочешь и вторую половинку? — Я протянул ей остатки бутерброда, но она покачала головой. Муж-веган вряд ли мог быть серьезным соперником, и в душе у меня снова зацвела надежда. Хотя, может быть, это расцветало вожделение. Но, как бы это растение ни называлось, его аромат был силен, как запах соуса карри с чесноком. Я все думал, есть ли у меня еще шанс, или ее сердце осталось на Диком, Диком Западе.
— Ну что ж, предварительное испытание ты прошла. А как насчет стопроцентно невегетарианского ужина в эту пятницу? — Я произнес это совершенно непринужденно, скрестив руки на столе. — Съешь ли ты отвратительную, изобилующую холестерином жареную рыбу с жирным соусом, квашеной капустой и печеным картофелем?
— Такое подают лишь в одном заведении, — заключила она, чуть приподняв брови, — «Озеро Сентер-Хилл».
— Угадала, — подтвердил я, — в ресторане Бадди у лодочного дока.
— Даже не знаю. — Она закусила палец, явно терзаясь сомнениями; я никак не мог понять, в чем загвоздка: в холестерине или в предполагаемом спутнике. Во всем, что не касается детских инфекций, стрептококковых ангин или кожных высыпаний, я начисто лишен интуиции. И главной загадкой являются женщины. Фредди по-прежнему покусывала палец.
— Фредди, — окликнул я, — что скажешь?
— Идем. Сто лет не ела рыбу у Бадди, — и она взъерошила свои стриженые волосы. Вот оно: ее фирменное пренебрежение к красоте и лоску!
Уйдя из больницы, я отправился на кладбище. Зимой там особенно хорошо: холодное, открытое всем ветрам плато, с круговым обзором. Обычно меня никто не спрашивает, зачем я туда хожу, но, если кто вдруг полюбопытствует, я отвечу: «Послушай, я ведь южный парень, а южане чтут своих предков». «Предки!» — изумится собеседник и представит себе бессчетные поколения Маннингов и Джексонов. Пока отец не перебрался во Флориду, я думал, что и его здесь похоронят. Теперь-то стало ясно, что его многочисленные жены этого не допустят, так что мама вновь обречена на одиночество, он и при жизни-то никогда не был рядом. Когда подошло время отдавать сына в детский сад, она предпочла растить меня дома. Мы с ней много гуляли и порой заходили на кладбище, где копались мисс Минерва и девочки Мак-Брум. Они выпалывали сорняки и расставляли цветочки в пластмассовых стаканах, нагруженных щебенкой.
Маму уже тогда интересовали мертвые, хотя, впрочем, живые занимали ее гораздо больше. Она разрешала мне подбирать бездомных кошек, попугаев с перебитыми лапками, черепашек, питавшихся помидорами, и лягушек, которые выпрыгивали из обувной коробки, забивались под кухонную раковину и квакали там все лето напролет. После смерти Келли мы остались втроем: Чили, Марта и я. Теперь же я единственный Маннинг в телефонном справочнике Таллулы. Порой мне кажется, что я уже сирота, хотя отец и звонит мне раз месяц из Тампы. Зимой он постоянно шлет ящики апельсинов и мандаринов, завернутых в мятую зеленую бумагу.
Зимой он постоянно шлет ящики апельсинов и мандаринов, завернутых в мятую зеленую бумагу. Думаю, мне не хватает семьи, но родственников на заказ не штампуют. Либо у тебя есть тетки и кузины, либо — извини.
Неожиданно среди деревьев замаячила женщина в светлом кожаном пальто и красном шарфе. Ее спина казалась совершенно бескостной, круглой и мягкой, словно тело кита. Когда она разогнулась, я понял, что это Минерва Прэй. Я пробежал мимо дюжины надгробий и, запыхавшись, подошел к ней. Она подняла глаза и явно удивилась.
— Мисс Минерва! — воскликнул я. — Никак это вы?!
— Я, а то кто же? — Она сунула руку в карман и вытащила нитяные перчатки. — Решила глянуть, не сдул ли ветер цветочки моего Амоса. Но цветочки на месте.
— Думаю, вы замерзли, — сказал я, — может, подвезти вас домой?
— Вот уж не откажусь. — Она натянула перчатки. — Спасибо тебе, дорогой.
Я подал ей руку, и она оперлась на нее. Даже сквозь перчатки ощущалось, что ее пальцы мокрые и холодные, как свежеразмороженные куриные грудки.
— Ходил проведать маму, мой мальчик? — спросила она.
— Да, мэм.
— Что ж, молодчина, Джексон. Прочие-то молодые не особо вспоминают мертвецов.
— Да, мэм.
Пару минут мы молча шагали. Затем она произнесла:
— Я тут давеча испекла шоколадный торт. Шоколад-то ты любишь, Джексон?
— О да, мэм. Еще бы.
— Что ж, могу угостить тебя кусочком. И чашечкой горячего кофейку в придачу. Торт я испекла по журналу; по средам там всегда печатают превосходные рецепты. Вот только все журнальные кушанья надо сперва попробовать.
— Я с удовольствием попробую ваш торт, — заверил ее я.
От мысли, что я снова увижу Фредди — второй раз за день! — сердце у меня так и подпрыгнуло. Правда, она могла решить, что я ее преследую, но я настолько ошалел от любви, что мне уже было все равно. А если мы с ней не встретимся, я, может быть, буду есть той же вилкой, которой недавно ела она.
ФРЕДДИ
Когда Джексон пригласил меня на ужин в «Озеро Сентер-Хилл», я едва не отказалась. Разумеется, не из-за ресторана — он в Таллуле своего рода легенда: здание из стекла и кедра, которое словно плывет по воде, соединенное с пристанью сваями, а также вереницей доков и лодочных сараев с рифлеными жестяными крышами. Кухня там четырехзвездочная, ее расхваливают во всех туристических проспектах. Все блюда готовятся по южным рецептам и на вкус просто пища богов. В тамошних оладьях резаный лук и кукурузная мука смешаны в единственно верной пропорции. Квашеная капуста хрустящая, сладкая и терпкая. Мясо откормленных кукурузой телок маринуется в особом соусе Бадди и жарится в гриле. Свежих окуней и форелей обжаривают, фаршируют или же тушат в сливочном масле и лимонном соке. Картошку пекут с луком и чесноком. Секрет успеха этого заведения — в свежих продуктах и опытных поварах: там работают пожилые женщины, знающие все тонкости местной кухни. Кроме того, с посетителями изо всех сил любезничают крутобедрые официантки, в массе своей крашеные брюнетки.
И все же, несмотря на воспоминания о пленительных рыбных лакомствах, я волновалась. К этому озеру я питала смешанные чувства и в тот момент пыталась обуздать негативные. Да, там я провела одну из самых кошмарных ночей в своей жизни, но ведь там же научилась и плавать. Я твердила себе, что озеро — это всего лишь скопление пресной воды, а не хранилище радостей и бед.
Мы подъехали к доку, и Джексон припарковался на холме. Спустившись в док по сотне бетонных ступенек, мы прошли по шаткому веревочному мостику. Я успела замерзнуть, так как сдуру надела коротенькое платье, чулки и туфли на каблуках, найденные в огромной гардеробной Джо-Нелл.
В результате я дрожала как лист. Январские вечера в Теннесси бывают очень промозглыми; это еще одна особенность, которую я успела забыть. Джексон обнял меня. Солнце за деревьями еще не село, а луна уже начинала всходить. Мы прошли мимо лодок, гулко протопав по деревянному настилу. В конце дока какой-то мужчина в резиновой куртке намывал борт своей лодки шваброй. Его переносной приемник был настроен на канал ретро: до нас донеслась песня Джорни «Крошка, это сильнее меня».
Пеннингтоны обожали лодки, и за мамино недолгое замужество с Уайаттом мы часто ходили на Сильвер-Пойнт посмотреть, не обокрал ли какой-нибудь вандал их яхту. Но в плавание нас не брали. Мы не умели даже барахтаться по-собачьи, так что Уайатт не желал заводить для нас мотор. Нам разрешалось лишь сидеть на пристани и болтать ногами в зеленой воде. Помню, как я с завистью смотрела на Джексона и Чили Маннингов, которые возвращались на пристань загорелые и оживленные, прокатавшись весь день на водных лыжах. Да я бы что угодно отдала тогда за такие приключения!
— Лодка твоего отца стояла где-то там, да? — И я кивнула в сторону одного из сараев. Мне было интересно, есть ли теперь у Джексона лодка: сейчас, вероятно, он плавал не на убогой байдарке, а на чем-то шикарном и скоростном. Я полагала, что его жизнь заполнена дорогими игрушками, как и жизнь всякого врача в маленьком городишке. Хотя, как ни странно, он ездил на потрепанном старом пикапе. Я представила себе, как блондинистая риелторша полеживает на палубе скоростной яхты, как сияют ее натертые маслом ноги, а плечи под полуденным солнцем становятся пунцовыми, словно намазанные малиной.
— Давно это было, — ответил Джексон, — помнишь, как мы с отцом учили тебя плавать?
— Еще бы.
Это умение переменило всю мою жизнь. Они бросили якорь в какой-то бухточке и аккуратно опустили меня в теплую зеленую воду. Джексон держался позади и страховал. Стоявший в лодке Чили хлопал в ладоши, уговаривая меня сделать пару гребков.
— Фредди, представь, что ты часть воды, — твердил мне Джексон, — а я небо, и ты уплываешь прямо в меня.
— Не могу! — вопила я.
Мне было по-настоящему страшно, но в то же время и неловко. Я была единственной из девушек Джексона, которая не умела плавать. И вот я оттолкнулась от него и выставила руки вперед, словно собирая опавшую листву. Потом подтянула ноги по-лягушачьи и резко, как учил меня Чили, распрямила. Так я сделала рывок к лодке.
— Она плывет! — заорал Джексон, а затем откинул голову и издал победный клич. — Еще разок, детка! Давай, еще разочек!
А теперь он вел меня в ресторан.
— Когда-то мы рыбачили каждые выходные, — рассказывал он, — мама ужасно расстраивалась. Она хотела, чтоб отец вел себя как все нормальные люди, Ну, ты понимаешь: ходил в церковь по воскресеньям, стриг газончики, сгребал в кучи опавшие листья, заменял перегоревшие лампочки. А ему все это было неинтересно. — Он глянул куда-то за лодочный сарай. Закат осветил воду и разбросал жутковатые, дрожащие отблески по жестяной крыше. Джексон стиснул мое плечо и потянул к ресторану.
— Я просто обожаю это место, а ты? Будь у меня лодка, я бы взял тебя порыбачить этой весной.
«Ну, к приходу весны меня тут уже не будет», — подумала я. Хотя как знать. Минерва говорит, что несчастья приходят в наш дом не по три, а по шесть кряду. Кто знает, что тут еще произойдет; глядишь, мне и правда придется застрять в Теннесси до весны. Озеро начинало действовать мне на нервы. Неподалеку отсюда, в старой алюминиевой лодке, я потеряла невинность в объятиях Джимбо Шримплетта, бывшего мужа Сисси Ол-сап. Я тогда только-только окончила школу. Сисси с подругами укатила на выходные в Панаму, а в Таллуле остался безутешный и бурлящий гормонами Джимбо Шримплетт.
Как-то вечером он проезжал мимо нашего дома в своем лимонно-зеленом «ягуаре» и притормозил, увидев меня на крыльце. Остановив машину, он спросил, не хочу ли я съездить с ним на Сентер-Хилл. Я была польщена и тут же согласилась. Сбегав предупредить Минерву, я пулей вернулась к Джимбо. Мы поехали в Клиффе, тихое местечко в скалах, куда все ходят загорать голышом. У Джимбо было серебристое каноэ, и прежде чем я что-либо поняла, он уже накачал меня пивом и затащил на борт. Пока он тискал и раздевал меня, я казалась себе гигантской креветкой, такой розовенькой и блестящей. Но затем он резко вошел в меня, и мысли о креветках как ветром сдуло. Он двигался все быстрее и быстрее, не обращая внимания на мои исступленные крики. Когда я наконец встала на ноги, из меня струилась кровь. Плавать я не умела и потому была как в ловушке. Прыгни я за борт, мне было бы ни за что не выплыть. Обо мне бы раструбили в вечерних новостях: «Аквалангисты прочесывают озеро в поисках восемнадцатилетней Фредди Мак-Брум, уроженки Таллулы, о пропаже которой сообщил ее друг». В ту ночь я поняла, как важно уметь плавать, но до появления Джексона в моей жизни так и не решилась попробовать.
— Идем же, — повторил он, сняв куртку и накинув ее мне на плечи. — Похоже, ты совсем замерзла.
— Зря я не надела куртку.
— Оставь себе мою. — Он отворил стеклянную дверь, и мы вошли в ресторан. Там было темно, и на каждом столике горели свечи, блики от которых плясали на стенах. Из спрятанных где-то динамиков лился голос Роя Орбисона, певший «Мечтай, детка». Через окно было видно, как серебрится в лучах заката вода, постепенно погружаясь в коричневатую мглу. На противоположном берегу маячил скалистый мыс, поросший кедрами, среди которых бродило стадо коз. Я снова оглядела ресторан. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я разглядела висевшие на стенах чучела рыб, расположенные так, словно они плывут. Тут были крупные и мелкие окуни, краппи и усатые сомы. Из тени вынырнула официантка с ярко-зелеными веками и протянула нам огромные меню в бордовых пластиковых обложках.
— Столик на двоих? — официантка улыбнулась, обнажив щелочку между передними зубами. Волосы у нее были начесаны от самых корней.
— Да.
И она повела нас к столику, виляя в полумраке своими пышными бедрами. Стараясь не споткнуться, мы двинулись вслед за ней мимо столов с семейными парами и официанток, снующих туда-сюда с подносами жареной рыбы, кукурузных оладий и шипящих бифштексов. Наша провожатая остановилась у столика перед окном, положила на него оба меню и, не переставая улыбаться, исчезла. Джексон отодвинул мой стул. Когда я уселась, его руки скользнули по моим плечам и слегка их сжали:
— Ну как, согрелась? — шепнул он мне на ухо.
Я быстро кивнула.
— Да. Спасибо. — На мне все еще была его куртка. Я попыталась вернуть ее, но он повесил куртку на спинку моего стула.
— Она тебе пригодится, — улыбнулся он и тоже сел. За его спиной маячила медная поверхность озера. Из динамиков тем временем понеслись голоса «Ю-2», исполнявших «Один». Я стала теребить волосы. К нам подошла похожая на ведьму темноволосая официантка, приняла заказ и забрала меню. Зимними вечерами, даже по пятницам, ресторан просто переполнен. Джексон сказал мне, что последние пятьдесят лет это самое популярное заведение в здешних местах.
— Пятьдесят? — удивилась я. — Надо же, как давно.
— Вот видишь? — Он хитро подмигнул мне. — Штат Теннесси полон приятных сюрпризов.
В чем-чем, а в этом я сильно сомневалась. Наша официантка вновь возникла из мрака и поставила на стол чай со льдом в высоких стаканах, из которых торчали огромные дольки лимона. Вот еще одна вещь, от которой я совершенно отвыкла, — чай.
Вот еще одна вещь, от которой я совершенно отвыкла, — чай. Местные жители, и Джексон в том числе, пьют его круглый год. Я же пью в Мексике «Сидралс», текилу или просто газировку, а в остальные месяцы, в Калифорнии, признаю лишь эспрессо, воду «Эвиан» и фирменный лимонад, который готовит мой свекр. Не считая редкой баночки «Лап-санг сушонг», которую я иногда выпиваю на завтрак, мы почти что не пьем холодного чая.
— После маминой смерти папа стал водить сюда своих подружек, — сказал Джексон, водя рукой над свечкой. Небо за его спиной приобрело кобальтовый оттенок, чуть светлее воды.
— Он женился опять? — Я запамятовала, был ли он женат, но самого доктора Маннинга помнила предельно отчетливо. Он стригся очень коротко, и его шевелюра казалась прозрачной, как стекловолокно. На нем всегда был огромный халат ниже колен, маскировавший массивный живот; неизменные густые усы и круглые бифокальные очки в железной оправе придавали ему сходство с Тедди Рузвельтом.
— О да, клянусь богом! — Джексон тряхнул головой и откинулся на спинку. — И не раз. Рассказываю по порядку: сперва была медсестра из его офиса по имени Фэй. Имя писалось через «э». Эта умерла от алкогольного отравления. Затем Памела, медсестра с кардиологического отделения, которую отправили в реабилитационную клинику.
— А с этой-то что стряслось?
— Подсела на транквилизаторы, которые ей выписывал мой отец. Предпочитала валиум и перкордан. С ней он развелся… в восемьдесят девятом? Нет, в девяностом. Уже через семь месяцев после этого он женился на некой Сэлли, имя которой тоже пишется через «э». Кажется, они познакомились в больнице. Она моя сверстница, но уже вырастила двух дочерей. Так вот, эта самая Сэлли обожает бриллианты, роскошные квартиры, шикарные машины и круизы. На ней он до сих пор и женат. Два года назад они перебрались в Тампу. Бедный папочка просто жить не может без красоток.
— А сколько ему сейчас? — Я все поднимала и опускала свой стакан с чаем, и на столике образовались влажные круги.
— Семьдесят один год.
— Да он просто живчик!
— Думаю, его поддерживает тестостерон. Хотя, если честно, отец уже староват для игр с медсестрами. — Он нагнулся над столом и похлопал меня по руке. — Сердце у него неважное. По правде говоря, миокард уже вконец износился. В прошлом году ему сделали шунтирование, но, по-моему, отец вот-вот окончательно загонит свой моторчик.
Я не нашлась, что ему ответить, и просто уставилась на его руки, на плоские розовые ногти и волоски, что курчавились на пальцах, точь-в-точь как у Чили Маннинга. Мне пришло в голову, что гены значат немало, куда больше, чем многие считают. Вполне возможно, что Джексон — тоже сердцеед.
— Отец всегда был ловеласом, — произнес Джексон, словно читая мои мысли. Он охватил мое запястье большим и указательным пальцами. — Возможно, отчасти из-за этого мама так легко сдалась и даже не попыталась побороться с раком.
— Ты винишь отца в ее смерти? — спросила я вдруг, покосившись на него. Вышло слишком резко, но, раз уж я открыла рот, надо было продолжать. — Считаешь, что рак возник от волнений из-за его интрижек?
— Не знаю. — Он наморщил брови. — Теперь, вспоминая ее, я прекрасно понимаю, какой издерганной она была. И очень несчастной. Думаю, ей стоило уйти от него, но в те времена женщины так не поступали. Я любил ее больше всех на свете, но отец был с нею холоден.
Я снова не знала, что сказать. Мне пришло в голову, что она все-таки ушла от доктора Маннинга: ведь смерть в каком-то смысле тоже уход, причем самый бесповоротный. Но мне не хотелось философствовать об умерших родственниках. Затем я вдруг подумала, что оба мужчины, которых я любила, росли без матери и оба никогда не уезжали из родных мест.
Затем я вдруг подумала, что оба мужчины, которых я любила, росли без матери и оба никогда не уезжали из родных мест. Это о чем-то да говорило, причем скорее обо мне, чем о них. В конце концов я подняла глаза:
— Сэм тоже потерял мать. Она утонула в заливе Томалес.
— Сэм? — Джексон выглядел озадаченным. — Это твой муж?
Я кивнула, и Джексон отвел взгляд в сторону. Мне вдруг захотелось рассказать ему про миссис Эспай, но я сдержалась. Она погибла задолго до того, как мы с Сэмом познакомились, но он рассказывал, как в конце сороковых она завоевала бронзовую медаль по плаванию на Олимпийских играх. В ней было что-то от девочки-скаута. Она никогда не врала и славилась безжалостной прямотой. Когда подруга спрашивала ее: «Я кажусь очень толстой в этом платье?», она отвечала «Да». Миссис Эспай выполняла все свои клятвы: от зарока плавать каждый день до обещания хранить верность «пока смерть не разлучит». Она утонула в заливе во время одного из своих утренних заплывов. Эта женщина свято верила, что должна быть в идеальной форме ради мистера Эспая, хотя, видит бог, он не из тех, кто начал бы поглядывать по сторонам. Поскольку ее тело так и не нашли, Эспай решили, что его унесло течением в открытый океан и засосало в печально знаменитый треугольник, где на серферов и байдарочников то и дело нападают акулы.
Мне показалось, что Джексон вздохнул с облегчением, когда к нам подошла официантка с огромным подносом в руках. Она расставила перед нами дымящиеся тарелки с жаренной на углях форелью. Головы у рыбин были отрезаны, хвосты — подвернуты внутрь, а все блюдо украшала петрушка и морковная стружка. Зеленый салат с бледными зимними помидорами был полит французским соусом. На печеном картофеле, обильно сдобренном маслом и сметаной, лопалась кожура, обнажая нежное пюреобразное нутро. У самого локтя Джексона она поставила красную пластиковую миску с булочками и кукурузными лепешками.
— Кофе? — спросила она у Джексона, и он, подняв брови, поглядел на меня. Я улыбнулась и кивнула.
— Да, пожалуйста. Два кофе.
Официантка ненадолго исчезла. Вернувшись, она поставила на стол две звякнувшие о блюдца чашечки. В белом фарфоре дымящийся кофе казался совсем темным.
— Думаю, отец — просто дитя своего времени, — произнес Джексон, — он был врачом еще до появления «Медикеар», в те времена, когда доктор мог сделать что угодно и никто бы не стал лезть к нему с вопросами. В бытность его студентом медсестры городской больницы были обязаны вставать при появлении доктора.
Он рассмеялся и откинулся назад.
Я начала открывать баночки со сливками. При всем уважении к Джексону должна сказать: его отец был странным субъектом. Долгие годы возни с больными и увечными притупили его чувства, и он походил на человека с атрофией вкусовых рецепторов, который посыпает все, что ест, огромным количеством соли и перца. Его внимание могло захватить лишь что-то вычурное, вроде яркой чернильной кляксы в идеально чистой комнате. Мисс Марта была истинной красавицей. Я часто видела ее в библиотеке, куда она заходила за порцией свежих бестселлеров. У нее был точеный нос и выступающие скулы, белокурые волосы, постриженные длинным каре. Она носила очки для чтения и золотые часики на изящном браслете, всегда поставленные на десять минут вперед. Ее гардероб состоял из льняных платьев кремовых тонов, которые чуть морщились, когда она садилась. Мне казалось, что Чили женился на воплощенной элегантности, но в глубине души его тянуло к дешевкам: платиновым блондинкам с выщипанными бровями и отбеленными зубами: к женщинам, красившим веки в тон своим ядовито-зеленым костюмам и наносившим на ресницы целые тонны туши; к «сиренам», что украшали волосы диадемами и пахли дешевой парфюмерией. Почему-то его сердце было уязвимо только для тех красоток, на которых даже подлинные драгоценности кажутся безвкусными побрякушками, купленными в дешевом универмаге.
— Итак, — произнес Джексон, взявшись за вилку, — как долго ты еще будешь в городе?
— Похоже, я тут застряла, — мрачно ответила я, — сегодня утром говорила с агентом из местного бюро путешествий. Он сказал, что можно добраться до Ла-Паса, но не до Герреро-Негро. Оказывается, выехать из Мексики куда проще.
— Ну разумеется. В Мексике важно иметь полезных знакомых. Когда я сам был в Мехико… — Внезапно он изменился в лице. Глядя на что-то за моей спиной, он медленно поднялся с места.
— Джексон? — окликнула я его. Но он уже бежал к столику за нами, где лысеющий толстяк в красном свитере отчаянно хватался за горло. Лицо толстяка стало серовато-сизым. На его тарелке лежал недоеденный бифштекс, а красный соус растекался по жареной картошке. Рядом с ним суетилась женщина с седыми, залитыми лаком волосами и хлопала мужа по спине.
— Откашляйся, Уолтер, — кричала она, — хорошенько откашляйся!
Я встала, уронив лежащую у меня на коленях салфетку. Джексон бросился к толстяку и сильно ударил его промеж лопаток. Это не помогло. Тот все таращил глаза и искал руку жены, по ошибке хватая рукав. Джексон обхватил бедолагу сзади за талию, словно обнимая или силясь удержать, сжал кулаки под грудиной и рванул вверх. Сперва ничего не произошло. Лицо толстяка уже совсем посерело, а губы приняли синеватый оттенок. Джексон сделал еще один рывок, послышался какой-то звук, и из горла толстяка выскочил кусочек мяса.
— О господи, — ахнула жена, глядя, как ошметок пролетел через весь зал. Стоявшая в том конце официантка подняла злосчастный кусочек и уставилась на него. Толстяк захрипел и судорожно вдохнул. Закрыв глаза, он прижал руку к сердцу. Его лицо все еще оставалось серым, но щеки уже начинали розоветь. В ресторане было тихо, почти как в церкви. К их столику сбежалась целая толпа, и все с напряженным вниманием следили за происходящим. Кто-то окликнул Джексона.
Сквозь толпу пробилась хорошо сложенная брюнетка, не сводившая с Джексона изумленного взгляда. На ней было голубое платье, а шею обвивал легкий шарфик. Все еще сидевший на стуле толстяк уставился было на нее, но затем просиял и обернулся к Джексону.
— Я жив, — прохрипел он.
— Еще бы, — отозвалась брюнетка. Она улыбнулась и поглядела на Джексона. — Повезло вам, что доктор решил поужинать именно здесь.
— Доктор? — захрипел толстяк, округлив глаза.
— Доктор Джексон Маннинг, — кивнула брюнетка, — он местный педиатр, но, как видите, умеет спасать и взрослых.
Джексон вернулся к нашему столику, а брюнетка увязалась за ним. Я по-прежнему стояла столбом, и брюнетка уставилась на меня, а затем пожала мне руку:
— Привет, я Энн Пресли. Кажется, мы не встречались?
Пальцы у нее были холодные и влажные, как мороженые крабовые палочки. Я не собиралась представляться, а потому отступила на шаг. Она начала что-то говорить, но тут к Джексону подскочил спасенный толстяк.
— Сколько я вам должен? — пророкотал он. Лицо его теперь было почти пунцовым. Он все еще немного хрипел, но в остальном дыхание уже восстановилось.
— Да-да, сколько мы должны? — вторила его седовласая женушка. Она уже открыла сумочку и вытащила из нее чековую книжку.
— Ровным счетом ничего. — Джексон поднял обе руки.
— Ну можно мы хотя бы оплатим ваш ужин? — вскричала жена. — Ну пожалуйста.
— Нет, мэм, это неэтично, — ответил Джексон, пытаясь сдержать улыбку. — Но все равно спасибо.
— А почему бы нет, Джексон? — изумилась Энн Пресли. Затем она хитро сощурилась. — Забавно, что мы тут встретились. Все же мир тесен!
— Это когда как, — вежливо отозвался Джексон, — иногда он бывает настолько огромен, что можно кого-то потерять.
Затем она хитро сощурилась. — Забавно, что мы тут встретились. Все же мир тесен!
— Это когда как, — вежливо отозвался Джексон, — иногда он бывает настолько огромен, что можно кого-то потерять.
— Мне это незнакомо. — Энн Пресли нервно хихикнула. — В жизни никого не теряла.
— Приятного вам ужина, Энн. — Джексон вытащил свой бумажник и выложил на стол несколько банкнот. «Чаевые для официантки», — подумала я. Затем он подхватил меня под руку, помог встать из-за стола и повел к выходу. Когда мы остановились у кассы, чтобы рассчитаться за ужин, я на миг обернулась. Энн Пресли по-прежнему смотрела нам вслед. «Интересно, кто она? — размышляла я. — Подруга Сисси? Бывшая любовница Джексона? Мать кого-то из его пациентов?» И с ужасом представила, чт о Энн может выступать во всех этих ипостасях одновременно. Но меня все это не касалось.
— Готова? — спросил Джексон. Обняв меня одной рукой, он уже распахнул дверь свободной. Над нами зазвенел колокольчик.
— Эта женщина все еще пялится на нас, — сообщила я.
— Ну и пусть ее! — И Джексон поцеловал меня прямо в губы. За нашей спиной дверь тихонько прошуршала и захлопнулась, а звон колокольчика стал едва слышен. Он взял меня за руку, и мы вышли в холодную зимнюю ночь.
ДЖО-НЕЛЛ
Перед тем как сбежать со стриптизершей, отчим велел мне запомнить три вещи: во-первых, что ему страшно жаль, во-вторых, что я должна беречь маму, и, в-третьих, что у всякой радости бывают какие-то последствия. Тогда я была еще слишком мала и понятия не имела, о чем он. А через несколько дней мы узнали, что он приказал долго жить — захлебнулся собственной блевотиной. Теперь же я поняла его мысль: все, что было с тобою в прошлом, отнюдь не исчезает, а только ждет подходящего момента, чтобы всплыть и смешать тебе все карты. Я хотела спросить, что думает об этом Фредди, но не стала. Были вопросы и поважнее.
— Так как прошло твое свидание с Джексоном? — полюбопытствовала я.
Мы играли нашу первую партию в шахматы, и я еще плохо помнила, какие фигуры как ходят: слоны, кони, пешки и эти похожие на колонны штуковины, не помню, как называются. Но вся соль игры в том, чтобы слопать короля. Я играла черными, а Фредди — белыми.
— При чем тут свидание? — Фредди крутила в ладонях слона, напоминавшего мне то разминаемый пекарем кусочек теста, то мужской «инструмент», который ласкают умелые женские руки.
— Так вы же ходили в ресторан?
— Мы ужинали, а не прелюбодействовали, — нахмурилась она, — ты можешь опошлить что угодно!
— Что верно, то верно. — Я и правда постоянно сбиваюсь на пошлость и никак не могу остановиться. Когда пеку, мне хочется заняться сексом, а когда я с кем-то в постели, хочется печь. Словно одно каким-то образом подпитывает другое. Очень странная ситуация.
— Ну а потом?
— Он отвез меня домой.
— И все?!
— Все.
— Ты что, ничего к нему не чувствуешь? То есть от былого пожара не осталось даже малюсенькой искорки?
— Если б и осталось, я б тебе все равно не сказала.
— А почему бы нет? Исповедь облегчит твою совесть и поможет убить время.
— Твой ход, — кивнула она на доску.
— Передвинь моего коня на две клетки вправо, по диагонали.
— Не коня, а слона, — поправила она. Я следила, как она передвигает фигуру.
— Ну вот, — объявила я. — Спасибо. По-моему, шах и мат.
— Нет, просто шах.
— Черт! Тогда я сдаюсь.
— Да погоди ты!
— Мне скучно.
— Да погоди ты!
— Мне скучно. — Я глубоко вздохнула и задумалась, как бы съесть Фреддину королеву. Но, как назло, ее загораживали мои же собственные пешки. Так что я принялась теребить оборки своей розовой ночнушки: она была одной из самых пристойных в моем гардеробе и при этом досталась мне в секонд-хэнде за сущий бесценок. Из белья мне больше всего нравятся трусики с прорезью вместо ластовицы, но в больнице в таких не полежишь. Сустав, казалось, просто окаменел, словно всю кость заменили на искусственную.
— Ну, соберись, — сказала она.
— Что за дерьмовая игра! Уж лучше б мы играли в «Скрэббл»: тогда бы я набрала магнитиков и составила из них фразу «Пошли все на…!»
— Джо-Нелл, ты все время ругаешься!
— Но мне это идет. — Я протянула руку и потрепала ее по голове. — Слушай, а как там дела с пресловутой Ниной?
— Не знаю. — Она взяла королеву и съела ею моего коня.
— Ты это специально! — рассмеялась я. — А у меня вот хорошие новости: поскольку мой «фольксваген» разбился всмятку, страховая компания даст мне денег на новую тачку!
— И что ты купишь? — спросила она.
— Я мечтаю о «лексусе», но он, зараза, дорогой. Может, куплю «камаро» или «форд-эксплорер». В них столько всего влезает!
— Только смотри, чтоб в них были подушки безопасности, — голос ее звучал встревоженно, как у заботливой мамаши.
— Фредди?
— Что?
— Как думаешь, у тебя когда-нибудь будет ребенок?
— Думаю, вряд ли.
— И у меня, наверное, тоже, — не люблю об этом вспоминать, но у меня эндометриоз. Внутри я вся в шрамах и царапинах, как бракованный компакт-диск. В музыкальных магазинах в таких случаях возвращают деньги или разрешают выбрать новую запись, но детородные органы так легко не заменишь.
Когда она вышла, я с головой укрылась простыней и притворилась спящей. При помощи этой нехитрой уловки мне удавалось отделаться от медсестер. Бог мой, какие тут были мымры! Миляга Дуэйн в реанимации меня просто избаловал, а здесь, на обычном отделении, медсестры даже кровать не перестилают, а уж о том, чтоб обмыть пациента влажной губкой, и речи не идет. Зато они обожали тыкать меня иголочками и заставлять ходить по коридору — настоящие садистки, ей-богу.
Лежа под простыней, я размышляла, как бы им насолить, как вдруг меня кто-то окликнул. Я подумала о зеленоглазом ковбое Джесси, и мое сердце застрекотало, как газонокосилка.
— Чего?
Я открыла глаза и увидела Джексона Маннинга. Он сидел в изножье моей кровати, и я едва не прослезилась. На моем матрасе уже целую вечность не сидел ни один приличный мужик! По правде говоря, этот парень мне никогда особо не нравился, но на безрыбье и рак рыба. Голодная женщина не слишком разборчива. И все же я отлично понимала, что пришел он вовсе не ради меня.
— Я по поводу Фредди, — заявил он, глядя на меня маннинговскими синими глазами.
— Что-что? — опешила я.
— У меня есть надежда?
— И никаких вокруг да около! — усмехнулась я.
— На это просто нет времени. Боюсь, она вот-вот уедет.
— Ну, вот тебе и ответ. — Я развела руками. — Что толку заваривать кашу, если не будет времени ее попробовать?
— Но я не могу иначе! Она особенная, не такая, как все остальные женщины!
— Ты уверен, что это комплимент? — рассмеялась я.
— Меня неудержимо тянет обнимать ее, любить ее, заводить с ней детей.
Я аж заморгала.
— Я действительно люблю ее, Джо-Нелл.
— Я действительно люблю ее, Джо-Нелл. Так сильно, что она просто не может ничего ко мне не чувствовать.
Я уже таращилась во все глаза.
— Что? — Тут он тоже вытаращился. — Что я такого сказал?
— Да ничего. Просто прикидываю, на что мне может пригодиться по уши влюбленный мужик, — улыбнулась я. — Моей сестре повезло, но, знаешь ли, она замужем.
— Она с ним счастлива? — Его брови поднялись трагическим домиком. Он опустил руку и вздохнул.
— Мне-то откуда знать? — Я дернула плечом, и, словно по сигналу, с него соскользнула бретелька моей нежно-розовой ночнушки. Я сделала вид, что ничего не заметила, и с интересом следила за его реакцией. — Из нее же и слова не выжмешь: молчит как рыба!
— Она словно… где-то совсем далеко. — Он потер подбородок, глядя вдаль, будто на мне была пуританская фланелевая пижама. «Да, влюблен как мальчишка», — подумала я. Но эта мысль меня почему-то не порадовала.
— Быть может, она скучает по Сэму, — сказала я, наблюдая за его лицом.
— Возможно. Даже когда мы разговариваем, она словно где-то витает.
— Ты просто-напросто на взводе, ведь она не спешит поиграть с твоим богатырем.
— Что?!
— Ой, только не строй из себя невинность!
— Не думаю, что в этом все дело.
— А по-моему, в этом.
— Не думаю.
Мы зашли в тупик.
— Может, поговоришь с ней? — спросил он.
— И что я ей скажу?
— Что я без ума от нее.
— И все?
— Что я готов встать на колени и умолять ее вернуться.
— Вот, уже лучше. — Я улыбнулась. — Почаще тренируйся, и получится.
— Тебе бы все шутить, но для меня-то это не шутки.
— Повторяю тебе: она замужем.
— Я знаю. — И он потер затылок.
— Слушай, — начала я, — я, конечно, не консультант по вопросам семьи и брака, но многие говорят, что у меня бы получилось. Так бывает: в собственной жизни все вверх дном, зато в чужой наводишь порядок в два счета. Короче, на мой взгляд, проблема стара как мир. Даже если она вдруг без памяти втрескается в тебя и бросит Сэма, сложностей будет по горло. Ведь в Теннесси нет китов.
— Понял, к чему ты клонишь.
— У тебя-то все иначе. Тебе ничего не стоит взять и попробовать, как пойдут дела, ведь ты не женат. И твоя профессия не завязана на наличии соленой воды. Нет, серьезно: если вынешь ее, как рыбку из воды, не жди, что она воскликнет: «Ура! Как раз об этом-то я и мечтала! Спасибочки!» Будь твоими пациентами новорожденные китята, тебе небось было бы страшно жалко их бросить!
— Еще бы. — Он положил голову на руки, задумчиво уставившись в пространство.
— Если начнешь обхаживать мою сестру, смотри не наломай дров. Ты вот думаешь, что ваш роман будет Фредди бесценным даром, но на самом деле он грозит кучей потерь. А на фига они ей? Ведь, с какой стороны ни посмотри, из вас двоих рискует лишь она. Нечестно, согласен?
— Согласен, разумеется.
— Так что мой тебе совет: даже и не думай к ней клеиться, если она тебе и вправду дорога.
Вид у него был совершенно обескураженный, и я показалась себе страшно умной: вот хоть завтра подавай объявление в газету и начинай загребать по пятьдесят долларов в час. Я бы специализировалась на мужчинах; с ними как с луком: наплачешься, пока до сердцевинки доберешься. Причем пробираться в их сердце нужно постепенно, бережно снимая защитную шелуху и пленочки и аккуратно обходя все гнилые места. Если я когда-нибудь выберусь из этой треклятой больницы, непременно рвану в Техас и найду там себе приличного мужика.
Если я когда-нибудь выберусь из этой треклятой больницы, непременно рвану в Техас и найду там себе приличного мужика. (В таком-то огромном штате даже самая жуткая репутация будет известна отнюдь не всем.) Я перееду в домик Хэтти и открою свой бизнес. Не знаю, правда, слыхали ли в Маунт-Олив про аперитив, но я могу вести рекламную кампанию в Остине или Сан-Антонио. Всю оставшуюся жизнь я бы потчевала клиентов советами и бутербродами с куриным салатом. В салат клала бы кишмиш и жареные орешки, а заправляла бы его майонезом и соусом карри. В моих мечтах, взлелеянных в таллульской городской больнице, все шло как по маслу и жизнь в Техасе обещала быть просто раем. Еще бы, ведь это край суровых тканей и грубых ковбоев, взращенных на тамошней земле.
После долгих раздумий я пришла к выводу, что мужики просто из кожи вон лезут, чтобы казаться крутыми. Причем эти-то усилия и превращают их в рохлей. Их воспитывают женщины, и всю оставшуюся жизнь они стараются походить на собственных папаш. Но господи боже, всех на свете папаш тоже воспитывали женщины. Понимаете, к чему я клоню? На мой взгляд, мужчины были бы совершенны, не пугай их всех до такой степени их собственная Х-хромосома. Все беды-то, все инь-янские противоречия идут от Y, от длинной, болтающейся из стороны в сторону Y, похожей на беспомощно повисший член. Этих последних я перевидала уже целую бездну и, если так и дальше пойдет, увижу еще столько же. А эта перспектива меня просто удручает, богом клянусь.
ЭЛИНОР
К парадному входу подошел посыльный из «Федерал экспресс» и постучался. Я была одна: Фредди ушла в больницу, а Минерва отвозила запеченные спагетти Матильде Ланкастер, которая приболела. Я побежала на второй этаж, открыла окно и крикнула ему:
— Да-да, что вы хотели?
Посыльный отступил на пару шагов и стал разглядывать дом, гадая, из которого окна раздался мой голос.
— Выше, — подсказала я.
— Э-э-э, да, мэм, — сказал он, вынимая что-то из кармана, — не могли бы вы расписаться в получении? Отправление на имя… сейчас гляну… мисс Джо-Нелл Мак-Брум.
— Я не Джо-Нелл.
— Но расписаться-то вы можете?
— Раньше мы ни за что не расписывались, хотя почту получаем каждый день.
— Не я составлял эти правила, мэм. — Он глянул в свой блокнот. — Тут написано, что нужна расписка в получении.
Я прямо не знала, как мне быть. Посыльный был вежлив и одет в самую настоящую униформу «Федерал экспресс». Может, стоило и правда подписаться, но я была не одета. Я кинулась в спальню и стала искать свои оранжевые рейтузы и зеленый свитер. Будь Минерва дома, я бы открыла ему, даже не задумываясь. Просто накинула бы плащ-дождевик поверх ночнушки. Но, сидя тут одна-одинешенька, я начинала нервничать. Мне не нравится быть одной, так что пусть не говорят, будто я нелюдимая. Знаю, обо мне потом скажут: милая она была, но такая затворница. Но это не так! Я же устраиваю бездну вечеринок для старушек. Джо-Нелл твердит, что это не в счет, и уверяет, что все мои беды от асоциальности. Но я просто не очень много общаюсь с мужчинами. В старших классах у меня была пара свиданий. Пока я к ним готовилась, Джо-Нелл садилась на край ванны и смотрела, как я чищу зубы. Ей тогда исполнилось девять или десять, но она уже была милашкой с чудесными белокурыми хвостиками. Когда раздавался звонок, она бежала вниз и осматривала кавалера, а затем возвращалась ко мне и говорила, надевать каблуки или нет. Я-то уже тогда была длинной как каланча.
Совсем недавно Джо-Нелл сообщила, что готовит мне свидание вслепую. «Нет!» — завопила я, представив себе кавалера в темных очках и с собакой-поводырем.
— Но он отличный парень, — возразила Джо-Нелл, — почтальон.
— Нет уж, спасибо, — огрызнулась я.
— Но не все же мужчины плохи, — рассмеялась она.
Я подала ей свой альбом.
— Тед Банди был мужчиной, — напомнила я.
— Нет, он был монстром.
Из сада донесся голос почтальона:
— Мэм, ну где же вы?
— Одну секундочку! — Я натянула рейтузы, и резинка на них противно скрипнула. Затем я было отправилась к лестнице, но вдруг остановилась как громом пораженная. Я вспомнила одно из шоу Опры, где нанятый ею мошенник заявился к какой-то домохозяйке, прикинувшись почтальоном. И та ему открыла! Затем Опра привела в студию некоего эксперта, который советовал женщинам быть бдительными и держать все двери на запоре.
— По-моему, это чересчур, — воскликнула Опра, наморщив носик, — я бы чувствовала себя полной дурой, сидя взаперти.
— Уж лучше оказаться в дурацком положении, чем в сводке жертв, — ответил эксперт.
Я вернулась к окну и извинилась:
— Я, знаете ли, больна. Причем ужасно заразной болезнью, — кричала я, — бульбарным менингитом. Боюсь, как бы вас не заразить.
(Понятия не имею, есть ли такая болезнь, но название показалось мне очень убедительным.)
— Ого! — Почтальон отступил. — Что ж, тогда я просто оставлю вам на подпись эту бумагу, а завтра зайду за ней.
— Отлично. — Я проследила, как он сел в свой грузовик и уехал. И тут мне в голову пришла забавная мысль. А что это за бандероль, в получении которой нужно расписываться? Может, Джо-Нелл снова заказала съедобные трусики? С виду они похожи на фруктовые тянучки и все по-разному пахнут: ванилью, вишневой кока-колой или ирисками.
С почтальоном вышло довольно дико, но мне не впервой. В наше время женщины по всей Америке расписываются в получении посылок, ездят в универмаги и даже путешествуют через всю страну. Почему, интересно, им так легко дается то, что мне просто не под силу? Разве они не знают об ужасах, что происходят вокруг? В одном из выпусков новостей говорили, что какую-то учительницу похитили прямо из магазина. Она покупала себе бутерброд, и тут ее схватил какой-то подросток, увез в укромное место и задушил. Я рассказала об этом Фредди, но она лишь хмыкнула: «Какой кошмар!»
— Не просто «кошмар», — подхватила я. — Если опасности подстерегают даже при покупке бутерброда, то лучше вообще не выходить из дома!
Но Фредди так вылупилась, словно я сморозила полную чушь. Пожив в Калифорнии, она очерствела душой и привыкла к беспределу вокруг. Но я-то вижу весь ужас происходящего. Когда я была маленькой, в Таллуле никто и дверей-то не запирал, а теперь у всех поставлена сигнализация. Одному богу известно, куда катится этот мир!
Минерва считает, что все мои беды начались, когда я обнаружила мертвую маму. Дело было зимой, и дождь лил как из ведра. Как назло на уроке домоводства я, переворачивая блин, задела рукой сковородку. Училка, старая дева мисс Маллиган, намазала ожог маслом и забинтовала мне руку.
— Запомни, Элинор, — сказала она, — масло и бинт должны быть твоими главными кухонными принадлежностями.
Я попыталась дозвониться до мамы и упросить ее заехать за мной, но ни дома, ни в закусочной трубку никто не брал. Я сказала мисс Маллиган, что пойду домой пешком. Забилась под черный зонт и прошла через десяток чужих садов, считая вывешенные в них бельевые веревки. Подойдя к дому, я заметила, что фургон стоит в гараже. Заглянула на кухню и окликнула: «Мама!»
Ответа не было. «Классно, — подумала я, — она ушла. Можно попить молочного коктейля и слопать целую коробку шоколадного печенья». Из-за моей полноты мама запрещала мне есть шоколад. Хотя мне было всего семнадцать, я уже вымахала до пяти футов и одиннадцати дюймов и все продолжала расти! Аппетит у меня был просто волчий, словно внутри жил кто-то жутко голодный, которого никакими силами не удавалось накормить.
Хотя мне было всего семнадцать, я уже вымахала до пяти футов и одиннадцати дюймов и все продолжала расти! Аппетит у меня был просто волчий, словно внутри жил кто-то жутко голодный, которого никакими силами не удавалось накормить.
Я взяла печенье, включила телевизор и стала смотреть «Путеводный свет». Это шоу мне никогда особо не нравилось, но выбирать не приходилось. Потом у меня разболелась рука, и я поднялась посмотреть, не завалялось ли в аптечке какой-нибудь мази. Проходя мимо маминой комнаты, я мельком заглянула в нее. Там было темно и чем-то неприятно пахло. Жалюзи были опущены, и свет едва-едва пробивался сквозь плотно пригнанные пластинки. На столике рядом с кроватью я заметила лампу, очки, коробку вишни в шоколаде и книгу (она читала «Карен», в кратком пересказе). Я уже выходила из комнаты, когда что-то привлекло мое внимание. Включив свет, я посмотрела на окно и завизжала. На шнуре от венецианских жалюзи висела моя мама. Ее синий халат распахнулся, из-под него виднелись нейлоновая сорочка и отвислые груди.
Я снова завизжала, а затем подбежала к ней и стала приподнимать ее за ноги. Ее голова упала на грудь, а рука свесилась и ударила меня по голове. Я думала, что она еще жива, и все старалась ее приподнять. Если веревка не крепко затянута, то она сможет дышать. Веревка скользила вокруг ее шеи, но мама была страшно тяжелая. «Господи Боже, ну пожалуйста, — думала я, — ну помоги же мне! Мамочка, посмотри на меня: это же я, Элинор!»
Потом помню, как пришла Минерва и перерезала веревку портновскими ножницами. За окном лил дождь, серый и грязный, словно помои. Мама упала на меня всей тяжестью, так что я даже покачнулась.
— Давай отнесем ее на кровать, — сказала Минерва, взяв маму за ноги. Но было уже слишком поздно, она начинала коченеть. Потом, много позже, когда домой пришли сестры, я услышала, как Минерва говорит им: «Идите сюда, мои деточки. Идите, бедненькие. У Минервы для вас очень-очень плохая весть».
Потом помню, как нас выворачивало в один и тот же унитаз, как мы нагибались над ним, кашляли и отплевывались. Казалось, из нас выходит все, что мы когда-либо съели после маминого грудного молочка. Я клялась, что уже чувствую его вкус, и Джо-Нелл тоже чувствовала. С кем-то из сестер я столкнулась лбом, теперь уже не помню с кем. Да и неважно: мы все были словно один раздираемый рвотой организм, словно тройняшки с тремя головами и одним желудком.
Через пять лет началась новая полоса неудач. Я ехала по шоссе в нашем фургоне и подпевала радио: на всех станциях крутили песни Стинга. Вдруг под машиной что-то громко хлопнуло. Руль ни с того ни с сего начал дрожать и трястись, и мне едва удалось дотянуть до аварийной зоны. Оказалось, что у меня спустила шина. Тем временем мимо проносились потоки машин. Какой-то грузовик протарахтел мимо, оглушительно сигналя. Затем к аварийной зоне подъехал коричневый «скайларк» и остановился возле меня. Из него вылез мужик с пивным брюшком и подошел ко мне. Я опустила стекло.
— Похоже, у вас спустило колесо, — сказал он, — может, подвезти?
— Да, — сказала я, но тут нее исправилась: — Хотя нет, не надо.
— Вы уж определитесь, — засмеялся мужик, ощерив гнилую пасть, — колесо само собой не надуется.
— Нет, но все равно спасибо, — сказала я, стараясь быть вежливой. — Я просто дождусь полицейских.
— Долго же вы будете ждать.
— Ничего. — Я уже немного испугалась.
— На вашем месте я бы побоялся сидеть здесь вечером.
— Но вы же не на моем месте, — сказала я, — а на своем.
— Ах ты, маленькая сучка! — И он кинулся к моему окошку, но я его опередила и подняла стекло, придавив ему пальцы. Он заорал и попытался вырваться, а его пальцы стали розовыми и пухлыми, как сосиски.
Он заорал и попытался вырваться, а его пальцы стали розовыми и пухлыми, как сосиски. Я ударила по стеклу, и его рука выскочила наружу. Он помчался к своему «скайларку» и рванул с места, так что гравий брызнул из-под колес. Через час подъехали полицейские и вызвали работников станции техобслуживания, которые накачали мне шину. Когда я рассказала про мужчину из «скайларка», полицейский похвалил меня, сказав, что сесть в ту машину было бы страшной ошибкой. Он отказался объяснить почему, но у меня, слава богу, богатое воображение.
Так я чудом спаслась от верной гибели. Однако это лишь увеличило мои шансы угодить в новую передрягу. На мой взгляд, каждому человеку отведен определенный запас удачи, и как только он исчерпывается, беды идут одна за другой.
В какой-то момент Джо-Нелл сильно увлеклась «Розовой леди» — напитком, а не волонтершей при больнице.
— Если хорошенько подумать, — говорила она мне, силясь не рыгнуть, — ничего удивительного, что мы выросли такими какие есть: жизнь у нас была не из легких.
Я от души с ней согласилась.
— Мужики либо умирают, — говорила она, — либо бросают нас.
— А еще они насилуют, грабят и избивают женщин, — ввернула я.
— Да я же не об этом. — Она отхлебнула своей настойки и перемазала губы розовым. — Папа помер, и я его даже не помню. А Уайатт бросил нас.
— И тоже помер, — напомнила я.
— Не думаю, что его гадкая смерть хоть как-то связана с уходом от нас.
— А я думаю, связана.
— Да нет, просто ему не повезло.
— То была Божья воля.
— Но Бога нет.
— Джо-Нелл! — Я огляделась вокруг, словно Господь мог притаиться в уголке и, укоризненно качая головой, слушать нашу болтовню. Взяла бутылку и налила себе рюмочку. Мне нравился вкус «Розовой леди», и к тому же, слава богу, напиток назывался «Леди», а не «Джентльмен». В противном случае я бы к нему и не притронулась. Джо-Нелл в восторге от этих негодников, но я не нахожу в них ничего хорошего.
— Многие знаменитые повара — мужчины, — заявила Джо-Нелл, словно читая мои мысли. — Их то и дело показывают по ТВ: они вечно что-то шинкуют, взбивают, жарят, пассеруют. Кулинария вовсе не женское занятие, как считают многие, в ней столько агрессии.
— Но рожают-то женщины, — возразила я.
— Женщины, да только не мы. — Она осушила свой бокал и уставилась на остатки пены.
— И все же мы относимся к рожающей половине человечества.
Джо-Нелл было нечем крыть: ни один мужчина еще не родил на свет ребеночка. Так что на сей раз победа в споре была за мной, и это радовало. Чем больше я пила, тем больше мне хотелось жить в чисто женском городе. Проезжая по нему, я бы смотрела, как дамы в смешных садовых шляпах подвязывают помидоры, как в июле они готовят кукурузный соус, в августе — виноградный джем, а в сентябре — фруктово-овощные приправы. Круглый год, даже в дождь и ветер, они бы развешивали белье на веревках в саду, подметали бы дом, месили бы тесто, чистили и резали овощи. Иногда бы они ложились отдыхать ногами кверху и читали газетку, а пятифунтовый цыпленок с гарниром из овощей медленно подрумянивался бы в духовке. Среди этих женщин я бы жила как равная среди равных, как маленький, но незаменимый ингредиент в большом пироге.
ФРЕДДИ
В понедельник вечером ударил мороз, и Элинор перепугалась, что у нас замерзнут все трубы. Пока они с Минервой ходили по дому и включали водопроводные краны, я сидела в гостиной и смотрела, как Дэвид Лэттерман кокетничает со своей постоянной гостьей Сарой Джессикой Паркер. В голове все вертелся рассказ Джо-Нелл.
Два дня назад Джексон пришел к ней в палату и расспрашивал обо мне.
— Обо мне? — переспросила я и неожиданно для самой себя почувствовала, что жутко рада.
Когда он позвонил в следующий раз, я пригласила его на испеченный Элинор кофейный торт с карамелью. Потом он сводил меня в кинотеатр «Принцесса» на новый и довольно забавный фильм о вампирах. Я постоянно твердила себе, что не делаю ничего дурного. Когда зазвонил телефон, я подскочила с места и полетела на кухню прямо в носках. Успела к третьему звонку.
— Фредди! — Услышав голос Сэма, я была несколько разочарована. До этой самой минуты мне и в голову не приходило, что я, оказывается, жду звонка Джексона. Затем, практически мгновенно, меня захлестнуло чувство вины. Я же замужняя женщина и не вправе мечтать о каком-то другом мужчине.
— Привет, — ответила я, стараясь говорить как можно радостнее.
— У тебя уже появился акцент!
— Разве?
— Может, это заразно, — рассмеялся он, — как думаешь?
— Возможно. — Внезапно я увидела его словно воочию: в поношенной футболке из «Хард-рок кафе» и обрезанных джинсах. Штанины болтались вокруг его босых ног, а с пяток облезала кожа.
— Да нет, ты замечательно звучишь, — продолжал он, — я соскучился.
— А откуда ты звонишь? — Я заткнула одно ухо. — Где это так орет музыка?
— В «Магдалене».
— А почему ты не в «Мирабель»?
— Да как-то занесло сюда. А потом, мне жутко захотелось услышать твой голос.
— А. — Я представила, как он стоит у старинного черного аппарата рядом с потрескавшейся цементной стеной. Краска оттенка соуса карри местами отслоилась; рядом с телефоном на ней нацарапаны номера и испанские граффити. Я представила себе длинный замызганный прилавок в кафе и шаткие деревянные стульчики. И тут послышался женский смех, пронзительный, как стрекотание бурундука.
— Как дела у Нины? — спросила я и чуть затаила дыхание.
— Отлично.
— Передай ей привет.
— Тебе привет от Фредди, — крикнул он в сторону. Затем, снова в трубку, сообщил: -Тебе от нее тоже привет. Мы зашли сюда перекусить.
— Помнится, вы с ней уже ужинали пару дней назад.
— Ага.
— И как все прошло?
— Нормально.
— Что заказывали?
— В смысле?
— Ну, что вы ели? Какие блюда заказали?
— Ой, ну ты же знаешь здешнее меню — сущий кошмар для вегетарианца, — простонал он, — но атмосфера здесь классная. Я ограничился рисом, а Нина слопала морское ушко, маринованное в текиле.
— Я бы заказала то же самое. — Теперь, полакомившись с Джексоном настоящей южной жареной форелью, я могла быть благосклонной к Сэму, который шиковал в захудалом мексиканском кафе.
— Мне показалось, что в рисе многовато кориандра, но все остальные заказали добавку.
— Все остальные?
— А я не сказал, что с нами ребята из морского музея? Человек семь, если не ошибаюсь.
— Похоже, у вас там весело. — Я зажмурила глаза.
— Да, с ними не соскучишься. Так как там твоя сестра?
— Поправляется. Ее перевели из реанимации на обычное ортопедическое отделение. Учится пользоваться ходунками.
— То есть почти порядок?
— Ну, в общем, да. Вот только с докторами кокетничает как скаженная.
— «Скаженная»?! — рассмеялся Сэм. — Это что, словечко южных панков?
— Не знаю.
Мы помолчали, и до меня доносились лишь помехи, похожие на шелест целлофана.
— Прошлый ночью я видел просто жуткий сон, — сказал он, — ты была с каким-то мужчиной.
— Я? — Я облокотилась на стол и затаила дыхание.
— Ага. И вы с ним трахались как сумасшедшие.
— Забавный сон.
— И такой реальный.
— Да уж, судя по твоему описанию.
— Но я же знаю: этого не было.
— Чего не было?
— Ну, ты ни с кем не спала.
— А ты?
— Между мной и Ниной ничего не происходит, если это тебя беспокоит.
— Меня ничего не беспокоит, это тебе снятся какие-то странные сны. — Я стала постукивать ногтем по трубке. — А я тебе говорила про наш ужин с Джексоном Маннингом?
— Минуточку, это не тот ли парень, с которым вы были помолвлены?
— Ага.
— Но он же, кажется, женился?
— Уже развелся. Но мы просто поужинали. Как вы с Ниной и музейной компанией. Что плохого в обычном ужине?
— Ровным счетом ничего. — Его голос как-то изменился и звучал одновременно настороженно и заинтересованно.
— Мы ходили в доки и ели форель под соусом Бадди, слегка поджаренную, выловленную тем же утром в Кейни-Форк. Однако вкус был немного не тот, должно быть, повариха жарит кукурузу на сале.
— Не на оливковом масле?
— Думаю, в округе Пеннингтон вообще не продают оливковое масло.
— Ну просто беда! — рассмеялся он. — Ты же терпеть не можешь сала! Я скучаю по тебе, солнышко, — прибавил он, глубоко вздохнув. — Но раз ты нужна сестре, побудь с ней, сколько потребуется.
Мне бы хотелось услышать нечто совсем другое, и внутри у меня что-то упало. Лучше бы он сказал: «Я чувствую твой запах, несмотря на расстояние. Я слышу что-то не то в твоем голосе. Возвращайся, малышка, и я больше никогда не отпущу тебя».
Когда мы повесили трубки, мне вспомнилось самое начало нашего с Сэмом романа. Как-то раз мы взяли двухместную байдарку и отправились в открытый океан. Оттуда огромное шоссе № 1 казалось тоненькой ниточкой, по которой пауками скользили машины и грузовики. Мы проплыли мимо морского льва, который распластался по скале, словно разваренная сосиска. Подняв голову, он задумчиво оглядел нас, а затем нырнул в воду. Мы забрались уже довольно далеко, когда я заметила туман, надвигавшийся с океана. Присмотревшись, я поняла, что на нас движется пятнадцатифутовая волна. Я схватила Сэма за плечо. Он обернулся, увидел волну и закричал: «Скорее к берегу! Весла на воду!»
Никогда еще мои руки не двигались так быстро, но и этой скорости оказалось недостаточно. Темно-синяя стена налетела на нас, и мы взвились над водой. В какой-то момент я поняла, что вожу веслом по воздуху. Затем байдарка упала на следующую волну. От удара у меня перехватило дыхание, но я все равно продолжала грести.
— Кажется, я влюбился, — крикнул Сэм, но я так никогда и не поняла, что он имел в виду: влюбился в меня или в греблю?
Весь следующий вечер я думала о Сэме и попыталась позвонить ему в отель.
— Что-что? — переспросил меня оператор «Саут сентрал белл». — Куда вы хотите позвонить?
— В Герреро-Негро, отель «Мирабель», — ответила я, внезапно ощутив усталость. Я сидела на кухонном столе и наматывала спиральный телефонный шнур на пальцы ступни. И вдруг из чистой вредности прибавила: — Persona a persona[22].
— Что, простите? — удивился оператор.
— Да так, ничего.
Последовало долгое молчание. Потом до меня донеслась какая-то трель, сопровождавшаяся треском и шумами.
Потом до меня донеслась какая-то трель, сопровождавшаяся треском и шумами. После шестого звонка менеджер отеля поднял трубку. Убийственно растягивая слова, оператор попросил соединить с комнатой «Сеньора Сэма Эс-с-с-пия».
— О’кей, — ответил менеджер, после чего послышалась серия долгих гудков. Затем сонный женский голос пробормотал:
— Bueno? Qu'e pas'o?[23]
«Что, черт побери, происходит?» — подумала я. Голос походил на Нинин, но точно сказать было трудно: я плохо помнила ее тембр. Оператор снова изрек свой вопрос. Женщина ответила:
— Простите, он вышел. Но уже вот-вот вернется.
Послышался шорох, и я представила себе, как два тела ворочаются на мексиканском матрасе.
— Спасибо, — отчеканил оператор, а затем обратился ко мне: — Назначить звонок на другое время?
Я повесила трубку и подтянула колени к подбородку. Может быть, менеджер соединил меня с чужим номером? Но нет, эта женщина (Нина?) сказала, что Сэм вот-вот вернется. Разумеется, этому должно быть какое-то логическое объяснение. Нина была в его комнате… потому что в ее номере начался пожар. Или потому что Сэм выскочил в ближайший магазин за выпивкой и презервативами. Господи, да что же это такое? Я тупо уставилась на кухонное окно, за которым виднелась старая магнолия. Мы посадили ее как-то летом — я, Элинор и Джо-Нелл, — чтобы порадовать маму, убитую уходом Уайатта. Именно его измена, а не смерть, запомнилась нам как окончание их отношений. Сколько времени продолжалась его интрижка, мы, конечно же, не знали — не подозревали даже о существовании этой стриптизерши. Мне тогда было лет десять, и я и не представляла себе, что отчим может удрать с какой-то другой женщиной.
В тот вечер, когда он уехал, я сидела на кухне и делала себе бутерброд с арахисовым маслом и бананом. Кухонный стол был весь завален обрезками лука и вареной картошки. Со второго этажа донесся голос Уайатта, который говорил маме, что едет в Нашвилл. Элинор была уже достаточно взрослой, чтоб смекнуть, что к чему. Она подслушивала, стоя у подножия лестницы, и по лицу ее бежали слезы. Ей нравился Уайатт. Помню, что я посмотрела на бутерброд и решила, что он не полезет мне в горло. Тут в кухню вошла Джо-Нелл, которой тогда только-только исполнилось шесть. Она уставилась на мой бутерброд, и я отдала его ей. Бутерброд был проглочен в два счета, ручонка Джо-Нелл снова потянулась ко мне, и раздался писк: «Исе!»
На следующий день мы с Элинор отправились в питомник и выбрали эту магнолию. Хотя лето было в разгаре, а летом растения не пересаживают, мы вырыли ямку и полили ее сульфатом магния, который Минерва считала настоящей садовой панацеей. И теперь, более двадцати лет спустя, я сидела на той же самой кухне, смотрела на магнолию и изумлялась, что она еще жива. Магнолия переросла наш дом. Она уже пережила и Уайатта, и маму, и, возможно, переживет всех нас. Я закусила кожу на колене. Где-то, за тысячу миль отсюда, какая-то другая женщина сидит в гостиничном номере моего любимого! Интересно, она сообразила, кто звонил? Расскажет ли она Сэму о моем звонке? Я попыталась представить себе ход мыслей расчетливой авантюристки. Потом мне захотелось снять трубку и попросить оператора, чтобы повторил звонок. На сей раз я спрошу Нину какого черта она делает в комнате моего мужа. Хотя какая разница, что она скажет?! Ведь вина-то все равно не ее, а Сэма. Во многих отношениях он обходительней любого южанина, но в то же время способен на измену: живя со мной, он мог спать с кем-то еще.
Элинор и Минерва вошли в кухню с большой коробкой банок фирмы «Мейзон», обсуждая «этот собачий холод». Они принялись выгружать на стол банки: пол- и четвертьлитровые, с узором в виде ромбика на боках и Минервиным коронным соусом чатни внутри. Бабуля заготавливает его каждую осень, а затем прячет в кладовку, где соус густеет, настаивается и превращается в нечто по-истине божественное.
Бабуля заготавливает его каждую осень, а затем прячет в кладовку, где соус густеет, настаивается и превращается в нечто по-истине божественное.
— Ненавижу январь, — бубнила Элинор, вынимая банки из коробки. — Раз уж стоит такой холод, так пусть бы хоть снег выпал.
— Вот уж не надо, — возразила Минерва, — если выпадет снег, я могу поскользнуться и сломать себе ногу.
— Тьфу-тьфу, — сказала я, — только этого нам не хватало.
Они обернулись и с удивлением заметили, что я сижу на столе.
— Ах вот ты где! — радостно воскликнула Минерва.
— Помоги-ка нам, — буркнула Элинор.
Я с облегчением вздохнула: они и не заметили моего расстройства. Джо-Нелл тут же увидела бы, что я не в духе, но Элинор была совершенно невинна в вопросах любви. Что до Минервы, то ее мысли, слава богу, занимало только одно: она раскладывала по банкам кружочки красного ситца, надевала поверх них крышки и фиксировала их резинкой. Я уже дала ей слово, что помогу доставить эти банки в клуб пенсионеров. Соскользнув со стола, я уселась по-турецки на одном из стульев и принялась надписывать ярлыки.
Когда зазвонил телефон, я даже не тронулась с места. Сидя на стуле, я старательно выводила: «Чатни. Рецепт Минервы Прэй», но про себя думала: «Это Сэм. Он уже в «Мирабель» и звонит рассказать, что Нина разревелась как дитя, узнав, что я буду в Лос-Кабосе через три дня». Затем мне подумалось, что это Джексон, который зовет меня на выходные в Новый Орлеан. Протянув свою ручищу, Элинор подняла трубку.
— Алло? — сказала она, подозрительно сощурившись, а затем передала трубку мне. — Тебя. Какой-то мужчина.
Я взяла трубку, решив, что Нина сообщила Сэму о звонке. Я почувствовала облегчение, но и очень удивилась, ибо ожидала большего коварства. Хотя это все равно не объясняло, почему она болталась в нашем номере.
— Привет, Фредди, — сказал голос Джексона. — Надеюсь, я не слишком поздно?
— Да нет. — Я облокотилась на стол. Элинор метала в меня ядовитые взгляды, Минерва же углубилась в свои записи и выводила на ярлычках какие-то закорючки.
— Замечательно. — Он издал какой-то странный звук, нечто среднее между бормотанием и смешком; казалось, он попробовал что-то очень вкусное. — Послушай, а ты не хочешь покататься?
— Сейчас? — изумилась я. Тут уже на меня уставились и Элинор, и Минерва.
— Земля на Каф-Киллер-роуд по-прежнему принадлежит моему отцу. Зимой эти места сильно смахивают на Калифорнию, по крайней мере на Калифорнию из кино. Прямо панорама Лос-Анджелеса. Вот я и подумал, что тебе там понравится. Но можно съездить и в другой раз. Или не ездить вовсе. Как скажешь.
— Значит, панорама Лос-Анджелеса? — Я зажала трубку между щекой и плечом и улыбнулась. Сейчас он был так похож на того, прежнего Джексона — искреннего, жаждущего обрадовать меня мальчишку, — что я была тронута. Язык просто не поворачивался сказать ему, что в Лос-Анджелесе я была всего пять или шесть раз, причем все знаменитые панорамы скрывал смог. А дважды начинались пожары, поднятые Санта-Аной. «Не повезло, — твердили наши друзья, — так не вовремя».
— Туда и обратно, — говорил он, — обещаю, что привезу тебя к шоу Леттермана, а то и раньше.
— Хорошо, — сказала я и вздрогнула. Я повесила трубку и поглядела на Минерву. — Поеду погулять. Может, что-нибудь надо купить: хлеба или молока?
Минерва промолчала. Она лишь нагнулась вперед и уставилась на что-то во мраке за окном.
— И ты поедешь куда-то в такой час? — пробормотала Элинор, бледнея.
— Еще нет и девяти, — пожала я плечами.
— Да, — еле выговорила она, — но Таллула теперь не та, что раньше. Тут орудует какой-то вор.
— Успокойся, я же не еду в «Кей-Март».
— Но в такое время работают лишь «Гит-энд-Гоу» и «Кей-Март». Вы же не едете в «Гит»?
— Нет.
— Тогда куда же? — Элинор ошарашенно моргала, а ее глаза напоминали огромные темно-желтые лепешки.
— Джексон хочет мне что-то показать.
— И это не подождет до утра? Останься-ка лучше дома: сегодня обещали дожди.
— Послушай, ты мне не мать.
— Разумеется, нет, — фыркнула Элинор, — но ты поступаешь дурно.
— Это не так, — сказала Минерва.
— Это так.
Я вышла в коридор и задумалась, нужны ли мне духи, румяна и губная помада. Но все это лежало наверху, в комнате Джо-Нелл. Я подняла синюю джинсовую куртку нашла в ее кармане гигиеническую помаду и намазала губы. Ее восковой привкус сразу напомнил мне маму и как мы, все три, строились на кухне в очередь, а она мазала нас этой помадой. Я выглянула из окна, высматривая грузовик Джексона. Минут через десять он подкатил к нашему дому. Я выбежала навстречу, поскользнувшись на гравии, и открыла дверцу. Когда я захлопнула ее за собой, дверца тут же отскочила. Я снова рванула ее на себя, но дверь и не думала закрываться. Джексон перегнулся через сиденье, задевая мои ноги, взялся за замок и со всей силы дернул. Я затаила дыхание, ожидая, что теперь-то дверь закроется, но она снова отворилась. Тут мне в голову пришел вопрос: «Интересно, а в этой машине и все остальное в таком состоянии?»
— Старые машины требуют огромного терпения, — сказал Джексон, словно читая мои мысли. И снова дернул дверцу. На это раз послышался щелчок.
— Она не откроется? — спросила я в воздух у него над головой. Он выпрямился, и ремни безопасности заскрипели.
— Главное, не опирайся на нее. И знаешь, тебе стоит подвинуться поближе к центру. — Он рассмеялся и легонько ущипнул меня за куртку.
— Я не выпаду, — сказала я, но при этом уцепилась за приборную панель. Мы ехали молча, двигаясь в глубь округа, где дома казались совсем деревенскими, а на дороге было всего три полосы. Стояла безлунная ночь — холодная и ясная. Свет наших фар прорезал темноту и высвечивал на дороге две круглые плошки неровного асфальта. Позади нас постепенно таяли огни Таллулы, отбрасывавшие на небо розоватый отсвет. Вокруг же раскинулась непроглядная и зловещая тьма.
— Мы почти приехали, — сказал Джексон.
Я обозревала его профиль, надеясь, что наши взгляды встретятся, но он упорно смотрел на дорогу. На миг я закрыла глаза. В медицинском колледже я как-то слышала, что оптические образы остаются на сетчатке не дольше секунды. Однако он до сих пор стоял у меня перед глазами. Его лицо словно отпечаталось на внутренней стороне моих век — крыло его носа, мальчишеская, беззащитная линия шеи. Он свернул на посыпанную гравием дорожку, и автомобиль, подрагивая, стал взбираться на холм, а заросли сорняков хлестали по колесам. На вершине холма он выключил фары. Сквозь ветровое стекло было видно, как зимняя луна отражается в замерзшем пруду. Земля вокруг нас словно вздымалась вверх и рассыпалась черными волнами холмов. Где-то совсем вдали маячили огоньки Таллулы.
— Ах, Джексон, — сказала я, нагнувшись вперед, — как здесь красиво.
— Я же говорил: панорама Лос-Анджелеса. Отец купил этот холм еще в шестидесятых годах. Ему всегда хотелось поселиться прямо тут.
Я стала вглядываться, стараясь отыскать знакомые места: красный мигающий огонек радиостанции, параллельные ряды фонарей Саут-Джефферсон-авеню. Мне даже удалось найти вывеску «Кей-Марта»: красное «Кей» и синее «Март».
Мне даже удалось найти вывеску «Кей-Марта»: красное «Кей» и синее «Март». Джексон откинулся в кресле и ласково отвел мне челку со лба. В мечтах я часто представляла себя в подобных обстоятельствах — не с Джексоном, если быть точной, но с неким загадочным, влюбленным в меня мужчиной, чей облик мне рисовался смутно. Я верю в супружеские обязательства. Всю свою жизнь я не без гордости считала себя верной женой. Но теперь я улыбалась ему, и он отвечал мне улыбкой. Единственное, что меня беспокоило: он не поцелует меня — совесть заговорит. Он поднял мою руку, разжал пальцы и поцеловал ладошку. В этом было столько нежности, что я едва не расплакалась. Закрыв глаза, я почувствовала, что его губы скользят к моему запястью.
— Вот так все и должно быть, — сказал он и поцеловал меня. Мои пальцы пробежали по его волосам, а затем я обняла его за шею. Он придвинулся ко мне и слез с водительского сиденья. Его губы оказались удивительно знакомыми, хотя и совсем непохожими на губы Сэма. После свадьбы я ни разу не целовалась с посторонним мужчиной, но, как выяснилось, прекрасно помнила, что делать. Протянув руку, я сжала его бедро чуть выше колена. Он прижал меня к спинке сиденья и стал расстегивать мою рубашку. Его пальцы показались мне очень холодными, и, когда я закрыла глаза, мне вдруг представилось, что я нахожусь под водой. Его пояс звякнул, и брюки сползли вниз. Я ощутила его дыхание, его горячие губы и руки, скользящие по моей шее.
— Боже, как ты прекрасна!..
Когда мужчина говорит эти слова, дыхание захватывает, даже если ты ему не веришь. Но в этот раз сомнения мгновенно улетучились: я знала, что и вправду прекрасна. Мне не терпелось ощутить в себе его плоть, которая, как я чувствовала бедром, уже напряглась до предела. Увернувшись от него, я залезла в сумочку и вытащила Нинин презерватив. После стольких лет замужества я уже отвыкла от неловкости предварительных переговоров: «Как насчет контрацепции?» Он взял презерватив и разглядел его в свете луны. Я затаила дыхание, ожидая, что он скажет что-то умное, но он просто разгрыз пластиковую обертку и стянул с меня джинсы. Я отбросила их ногами, и они упали где-то возле руля. Одним рывком он откинулся на спинку и усадил меня на себя. Держась за его плечи, я вскочила верхом и, задыхаясь, приникла к его губам, пока он входил в меня все глубже и глубже. Я металась из стороны в сторону, словно оседлав морскую волну, и мои волосы хлестали меня по щекам. Мне казалось, что я утопаю в черной воде, потоки которой ласкают меня, делая гладкой, как ракушки на дне океана.
Мы любили друг друга так, словно ждали этого всю свою жизнь. В такие мгновения раскрываются все твои секреты: твоя любовь, твои утраты, все прожитые годы. Я подумала, что все это время между Мемфисом и настоящим моментом было чем-то вроде зимней спячки. И теперь мы словно проснулись, дико изголодавшиеся друг по другу. Мы быстро закончили, и я лежала на нем, закрыв глаза, слушая стук его сердца и недавно начавшегося дождя. Капли барабанили по крыше пикапа, а я тем временем думала, что поступила так, как обычно поступают мужчины: поддаются своим даже самым мимолетным страстям и не испытывают никаких угрызений совести. Словно всплывающему на поверхность аквалангисту, мне казалось, что я двигаюсь навстречу свету из голубой и безмолвной глубины.
В ту ночь я так и не уснула. Лежа на боку в своей детской кровати, я смотрела, как волны дождя растекаются по окнам. Я знала, что сказала бы мне Джо-Нелл: «Первосортный секс еще далеко не любовь, даже если вы исхитрились получить удовольствие в машине».
Просто не думай об этом.
На улице волнами поднимался туман, заставляя меня тосковать по Калифорнии. На карте Дьюи обозначен лишь маленькой зазубринкой в том месте, где в океан впадают горные реки с обрывистыми берегами. После влажной зимы холмы покроются роскошным зеленым ковром, усеянным лютиками, маргаритками и цветками лаванды на длинных стебельках.
После влажной зимы холмы покроются роскошным зеленым ковром, усеянным лютиками, маргаритками и цветками лаванды на длинных стебельках. Стоит прищурить глаза, и холмы превращаются в зеленых китов. По вечерам мы с Сэмом часто пьем вино в открытой беседке мистера Эспая, в которой есть каменный очаг, решетка для жарки мяса и крыша из виноградной лозы. Извилистая тропка от этой беседки ведет вдоль речки к скалистому пляжу. В конце владений Эспаев, у самого океана, высится старая наблюдательная вышка Сэма. Еще мальчиком он следил с нее за передвижением китов и выкрикивал какие-то цифры стоящим внизу маме или мистеру Эспаю, которые заносили их в специальный блокнотик.
В заливе Томалес холодное дыхание Калифорнийского течения сталкивается с теплым прибрежным воздухом, и в результате возникают утренние и вечерние туманы. Сейчас, наверное, из открытого океана надвигается густой туман, и все огни в доме мистера Эспая горят, словно темное золото, словно маяк, сигналящий кому-то сквозь дождь и мглу. Я ясно видела, как мой свекр ходит по комнатам, обшитым панелями красного дерева, как он насыпает в миску кошачий корм, поливает мои африканские фиалки и ждет, пока экономка Ху Ши Лаонг позовет его ужинать. В воздухе разольется густой аромат: морские гребешки, запеченные в фольге с полентой, шафраном и сладким перцем, маринованные грибы под соусом чили с чесноком и трюфельным маслом. А может быть, Ху Ши приготовит что-нибудь полегче, скажем салат из груш, козьего сыра, пансетты и вишневого уксуса.
Я представила себе обеденный стол: длинная полированная поверхность розового дерева, на которой накрыт ужин для одного человека. Вот поблескивают разномастные приборы и старинный фарфор, выписанный мистером Эспаем из Сан-Франциско много десятилетий тому назад. Розы на тарелках молчаливо напоминают, сколько уже потеряно и сколько потерь еще впереди. Мистер Эспай всегда намекал Сэму, что был бы рад, если б тот занялся ранчо или каким-то другим сухопутным делом. Его землю окружает узкий залив Томалес, повторяющий изгибы разлома Сан-Андреас, что дремлет глубоко внизу, под морем, огромная трещина, уходящая в никуда.
Тут за стеной послышался грохот, от которого задрожали оконные стекла. Я села и по привычке подумала о землетрясении, но быстро вспомнила, где нахожусь: плоская, как стол, Таллула лежит на тоннах известняка. Затаив дыхание, я подумала, что же это могло быть. Я ждала, что шум повторится, но до меня доносился только шорох дождя, сеющегося на палую листву в канавах, на заросли тиса и самшита. И тут мне пришло в голову, что Минерва могла упасть с кровати, у людей ее возраста так легко ломается шейка бедра.
Я вскочила с постели, прошлепала по коридору и открыла ее дверь. У изголовья горела лампа, но сама койка была пуста, а одеяло — откинуто. Минерва лежала на полу на полпути между кроватью и комодом. Я бросилась к ней и нащупала пульс: он был слабый, нитевидный, но ритмичный. Одинакового размера зрачки рефлекторно сузились, едва я подняла ей веки. Я сразу поняла: это сердечный приступ. Ее лицо было пепельно-серым, а все тело покрылось испариной.
— Минерва? — крикнула я, схватив ее кисть. — Если ты меня слышишь, сожми мою руку.
Ни движения: она была без сознания. Потянувшись к кровати, я сдернула телефон с ночного столика, и он со звоном ударился об пол. Подтянув его к себе, я набрала 911 и прокричала, что моя бабка потеряла сознание.
— Она упала? — спросила операторша.
— Не знаю, но думаю, да. Вышлите скорую по адресу Ривер-стрит, дом двести один. Это такой желтенький домик на углу.
— Да знаем мы, где это, золотце, — сказала операторша, щелкая жвачкой прямо в трубку, — не волнуйся, мы мигом!
ЭЛИНОР
По дороге в больницу Фредди гнала машину так, словно только что ограбила банк. Колеса нашего фургона жалобно повизгивали на поворотах.
— Сбавь скорость, — орала ей я, — на дорогах мокро, и мы обязательно поскользнемся!
— Я точно знаю, что это сердце, — твердила она, — типичный ИМ.
— ИМ? — уставилась я на нее.
— Инфаркт миокарда.
— Да не может быть, — сказала я, но при этом вся похолодела.
Когда она свернула в зону, где запрещена парковка, я тут же выпалила:
— Здесь парковаться нельзя!
— Почему?
— Да вон же надпись: «Только для а/м больницы». Наш фургон отбуксируют куда-нибудь в другое место.
— Мы приехали к пациенту, значит, это машина больницы.
— Но не «скорая помощь»!
— Ну так пусть отвезут ее, куда захотят.
— Но это мой фургон!
— Так что ж ты не садишься за руль?
— Потому что по ночам мне страшно водить, — провопила я ей. Мне хотелось добавить, что я боюсь мужчин, которые все как один воры, насильники и мучители женщин. Но я не успела. Она выскочила из машины и побежала, а мне пришлось броситься за ней. Едва мы оказались на отделении скорой помощи, я прямо рот раскрыла: волосы у Фредди были взъерошены, словно мех, который причесали не в ту сторону. Ее рубашка расстегнулась, и мне показалось, что на шее засос. Медсестра привела нас в крошечный бокс. Минерва лежала на кушетке, подключенная к каким-то аппаратам и трубкам.
— Не переживайте, деточки, — сказала она, приоткрыв один глаз, — тутошний доктор сказал, что у меня сильное сердце.
— Так это не сердечный приступ? — выговорила я, хватая воздух ртом. — А то Фредди говорит…
— Да нет же. Просто старушечье головокружение.
— Не верю, — отчеканила Фредди, рассматривая кардиомонитор, — где учился этот доктор?
— Лапушка, он не сказал мне, — ответила Минерва, но голос у нее был какой-то слабый. — Я себя превосходно чувствую. Я просто пошла в туалет и, видимо, упала в обморок.
— Если человек теряет сознание, — сказала Фредди, поднявшись на цыпочки у монитора, — то дело либо в сердце, либо в головном мозге.
— Так, стало быть, все дело в мозге, моя деточка. Он у меня и раньше-то был неважнецкий.
— Не говори глупостей, — сказала я.
— А в груди не давит? — спросила Фредди.
— Ни капельки.
— А дышать не тяжело?
— Нет.
— Очень странно. — Фредди посмотрела на меня.
— Только у меня ничего не спрашивай. — Я подняла руки, чтоб ее остановить. — Я всего лишь пекарь и ничего не смыслю во всяких ИМ.
— Я этого так не оставлю. — Фредди вышла из бокса и накинулась на врача скорой помощи. Она притащила его к Минерве и стала сыпать учеными терминами: кардиальные симптомы, энзимы, кардиограммы. Она требовала, чтоб вызвали кардиолога.
— Я как-то обращалась к доктору Бернарду, — пролепетала Минерва чуть слышным голоском, — меня-то он лечил от давления, но вообще к нему ходят сердечники.
— Боюсь, сейчас не его смена, — сказал врач скорой помощи, — а его нового коллеги.
— Насколько нового? — сощурилась Фредди.
— Он в городе уже шесть недель.
— И кто этот тип? — спросила она, скрестив руки на груди. — Что вы о нем знаете?
— Этот тип, — ответил врач, поджав губы, — доктор Старбак, и у него есть все необходимые сертификаты.
— Что за странная фамилия для кардиолога, — фыркнула Фредди, — Старбак.
— Он отличный доктор, — рассердился врач, — его рекомендовали как блестящего специалиста.
— Тогда что, интересно, он делает в Таллуле? — хмыкнула я, но доктор проигнорировал мои слова.
— У нас большая кардиологическая бригада, — уверял он Фредди, — и превосходные специалисты.
Мы ждали, пока появится этот новенький доктор. Часа четыре спустя он вызвал нас в коридор и заверил, что Минерва крепка как огурчик. Просто подвержена злокачественным обморокам.
— Что-то никогда о таких не слыхала, — проворчала Фредди.
— А она, между прочим, тоже доктор, — ввернула я.
— Что, в самом деле? — Казалось, его это не особенно впечатлило. — Ну, то, что вы о них не слышали, еще не значит, что их не существует. От злокачественных обмороков ваша бабуля не умрет, хотя, по-видимому, время от времени будет терять сознание. Водить машину ей теперь не стоит.
— Но вы уверены, что это не сердце?
— Абсолютно уверен. Но я хотел бы подержать ее здесь пару дней для небольшого обследования.
— Сделать артериограмму?
— Если будут показания. — Глаза доктора Старбака слегка сузились. — Быть может, вы хотели бы, чтобы я проконсультировался с неврологом?
— Если есть показания, — отчеканила Фредди глазом не моргнув.
Он захлопнул карточку и вышел в коридор, а мы вернулись в бокс к Минерве.
— Как вам этот мальчик?
— Не нравится он мне, — сказала Фредди.
— Мне тоже, — кивнула я, — у него глаза как бусинки.
— А по-моему, он просто прелесть, — заявила Минерва, — такой красавчик.
Ее положили на кардиологическое отделение. Минерву подключили к кардиомонитору и капельнице, а вот кислородной маски ей не дали. Она все время дремала.
— Ступайте-ка обе домой, — велела она нам, замахав морщинистой рукой, к которой тянулась трубочка, отходящая от пластикового пакета. Я все смотрела, нет ли в этой трубке пузырьков воздуха, которые, попадая в кровь, переносятся прямо в мозг и вызывают мгновенную смерть.
— С ней все в порядке. — Я хлопнула Фредди по руке. — Пошли.
— Нет. Я хочу присутствовать при проведении анализов.
— Лапушка, но этим займутся только завтра, — возразила Минерва.
— К твоему сведению, Минерва, — сказала Фредди, — завтра уже наступило.
— Ну пожалуйста, деточки, идите домой. Отдохните. Я ж никуда не денусь. А то вы тут трещите как сороки, и мне никак не уснуть.
Ее седые волосы вдруг показались мне совсем жиденькими, сквозь них просвечивал череп, чуть прикрытый полупрозрачной кожей. Как она постарела! У меня защипало в глазах, но я решила быть сильной.
Через некоторое время мы ушли. По дороге к выходу я потянула Фредди за рукав ее куртки. Точнее говоря, за рукав красной куртки Джо-Нелл, купленной в секонд-хенде. Моя сестра — большая поклонница распродаж.
— Как думаешь, Минерва поправится? — спросила я.
— Надеюсь, что да. — Она кивнула головой на врачей: — Теперь все в их руках.
— Думаешь, у нее и вправду злокачественные обмороки?
— Как бы не так.
— А что же тогда?
— Не знаю. Быть может, анализы что-то покажут.
Едва встало солнце, она позвонила Джексону Маннингу и стала донимать его бесконечными расспросами, хотя он всего лишь педиатр. Повесив трубку, она повернулась ко мне.
— Он считает, что диагноз ошибочный. Злокачественные обмороки — это какой-то вздор. А о докторе Старбаке он ровным счетом ничего не знает — ни хорошего, ни плохого.
— А что еще?
— Он обещал посмотреть Минервину карточку, когда придет в больницу. Может, что-то и прояснится.
Меня так и подмывало хмыкнуть: «Но он же детский доктор!», но я придержала язык. Разозлившись, она тут же удерет к старине Джексону, а я останусь одна как перст.
И как это ей хватало совести жить в Мексике с одним парнем, а в Таллуле — с другим?! С каждым днем она все больше напоминала мне Джо-Нелл. Нет, кроме шуток, она идет с ним на ужин, а затем возвращается в помятой одежде! Что в такой ситуации остается думать ее сестре?
Только не считайте, что я ее осуждаю. Порой я сама размышляю о любви и браке, но всегда представляю себе лишь детей, а не мужа. Вот бы заполучить готового ребеночка без участия этих монстров! Честно говоря, если в доме находится мужчина, я не могу даже сходить за большое. Да что там мужчина: мне трудно делать свои дела даже при портрете брата Стоуи!
Когда Фредди сбежала в Калифорнию, Джексон все звонил нам и спрашивал, где она. «Понятия не имею», — отвечала я. И в общем-то, так оно и было. Его звонки мне жутко надоели. В конце концов я заявила ему: «Слушай, она уже не вернется. Ступай-ка лучше и найди себе новую подружку». Через несколько лет я прочитала в газете, что он женился на фотомодели. Она специализировалась на рекламе шляп (и, по некоторым сведениям, нижнего белья). Говорили, что она могла бы стать Синди Кроуфорд Мемфиса — точнее, зеленоглазой и золотоволосой версией Синди, — но отказалась от карьеры ради замужества с Джексоном. Кто-то говорил, что она сглупила, но я так не думаю. И ничуть не удивилась ее решению. Такой красавчик, как Джексон, и сам по себе был бы хорошей партией, а он ведь еще и при деньгах. Что ни говори, а богатенькие врачи на улице не валяются!
Окончив медицинский колледж, Джексон переехал в Таллулу и обзавелся практикой. В первый же раз, когда его жена заглянула в закусочную, я поняла, что скандала не миновать. Она подплыла к прилавку и спросила, нет ли у нас мадленок.
— Мадлен? — переспросила я, стараясь быть с ней повежливей. — Нет, не встречала никого с таким именем.
— Да нет же, — произнесла она ледяным тоном, — мадленки! Это такое печенье.
— Таких у нас нет, но зато есть отличные свежие булочки.
— Ну а шотландское песочное печенье? — Она подняла ярко-каштановую бровь, и я тут же поняла, что она не натуральная блондинка.
— Мисс, — сказала я, — наше песочное печенье — американское. Оно вполне рассыпчатое, хотя и не особенно популярно.
— Боже, что за дикое место! — Она захлопала ресницами. — Что ж, попробую в последний раз. Нет ли у вас хотя бы бискотти с фундуком?
— Все, что есть, перед вами. — Я уже и сама начинала злиться. — Чего нет на витрине, того нет и в продаже.
— Да что это за кондитерская, в которой нет даже бискотти? — завопила она.
— Таллульская, — рявкнула я. — Так вы возьмете булочек или нет?
— Господи, ни за что! — прокричала она и выскочила из магазина. Вскоре после этого она оставила Джексона и вернулась в Мемфис.
На следующее утро по дороге к Минерве мы зашли рассказать обо всем Джо-Нелл. Она была в бодром настроении и без умолку трещала, что, выйдя из больницы, уедет подальше от Таллулы и своей дурной репутации. Она не давала нам и словечка вставить.
— У тебя и так отличная репутация, — изумилась Фредди.
— Вовсе нет, — затрясла головой Джо-Нелл, — часть мужиков считают меня ангелом смерти: «Чуть переспишь с этой крошкой — и тут же склеишь ласты!» Оставшиеся держат меня за шлюху: мол, все самое замечательное у меня между ног.
А теперь, после автокатастрофы, я стану чем-то вроде музейной редкости. Меня будут разглядывать, расспрашивать и обходить стороной как чумную. Типа, невезучесть заразна.
— Ты преувеличиваешь, — возразила Фредди.
Я только покосилась на нее. Господи, меня просто тошнило от того, как она цацкается с Джо-Нелл. Сидя на железном стуле и уткнув подбородок в ладони, я думала, что Джо-Нелл совершенно права: у нее безобразная репутация. Но нельзя же заигрывать с чужими мужьями и ожидать всобщего одобрения! Их жены, разумеется, ненавидели Джо-Нелл. И если она уедет из Таллулы, ей придется перебраться за границу, чтобы спрятаться от молвы. Но стоит ей приехать туда, как она тут же встретится с кем-то из Таллулы.
Я и раньше знала, что когда-нибудь это случится: Джо-Нелл попадет шлея под хвост, и она решит удрать. Я даже стала обрабатывать Фредди: попыталась уговорить ее остаться в Таллуле.
— Что может быть важнее семьи, — сказала я ей как-то вечером.
— Разумеется, ничего, — согласилась Фредди. Она лежала на диване, обитом тканью в цветочек, и ела попкорн.
— Уж конечно, не изучение китов, — прибавила я.
— Что? — изумилась Фредди и уронила кусочек попкорна.
— Я хочу сказать, можно спасать и других животных.
— Да о чем это ты? — Фредди наморщила лоб. Она поднялась на диване, прижав к груди ведерко с попкорном.
— Вот, к примеру, африканские носороги, — пояснила я, — браконьеры истребляют их из-за рогов. Есть даже специальные полицейские по охране носорогов, но их не хватает. Представляешь, какой кошмар?
— Но моя специальность — киты, — возразила Фредди.
— Ну и что? А ты перемени ее. — Я щелкнула пальцами. — Или тебе наплевать, что в африканском национальном парке (забыла название) осталось менее тридцати носорогов?!
— Ты-то откуда знаешь?
— Телевизор смотрю.
— А-а, — протянула Фредди, уставившись в ведерко, — а у нас в Дьюи нет телевизора.
— А как же ты смотришь шоу Леттермана?
— А я и не смотрю.
— Купила бы хоть самый маленький, фирмы «Сони», — сказала я. — Ты и представить себе не можешь, как много упускаешь.
Не мне, конечно, говорить об упущениях, но она же не видела списка безопасных и небезопасных мест. В нем все как в песне «Мир так тесен». Иногда я задумываюсь, не составлен ли он для людей вроде меня. Наконец я поднесла свои часики к свету и увидела, что мы сидим у Джо-Нелл уже целых пятнадцать минут. Я решила, что пора закругляться, а потому встала и объявила:
— Джо-Нелл, у нас тут очень плохие новости.
— Стой, я угадаю! — перебила она. — Фредди перепихнулась с Джексоном?
— Это тебя не касается, — заорала я. — Слушай, ты, озабоченная! У нас большая беда: Минерву положили в больницу, на шестой этаж.
— Что?!
— Она упала в обморок, — пояснила я.
— Но теперь-то хоть оправилась?
— Кардиолог говорит, что все в порядке, но я как-то не уверена, — вставила Фредди. — Сегодня ее обследуют.
— Боже, что же такое с нашей семьей? — воскликнула Джо-Нелл.
— Все дело в проклятии, — пробормотала я себе под нос, — и ни в чем другом.
Как только мы с Фредди вошли в лифт и остались одни, я спросила:
— Так вы с Джексоном и правда занимались этим?
— А тебе-то что?
— Просто любопытно. — Я пожала плечами. — Я вот думаю: неужто ты снова клюнешь на него. Во второй раз!
— Можно подумать, тебе не все равно.
— Я пожала плечами. — Я вот думаю: неужто ты снова клюнешь на него. Во второй раз!
— Можно подумать, тебе не все равно.
— Нет, вовсе нет.
— С чего это вдруг?
— С того, что Минерва в больнице и с ней бог весть что творится, Джо-Нелл переезжает, а с тобой вообще ничего не понятно. И только я по-прежнему сижу на старом месте, как всегда. Словно и не живу.
— Просто ты трусиха.
— Вовсе нет.
— Р-р-р! — зарычала вдруг она, раскинув руки. От неожиданности я завизжала и отскочила к противоположной стенке лифта.
— Вот видишь?
— Это от неожиданности. — Я оправила юбку, разгладив все складочки.
— Если ты боишься грабителей, — поучала меня Фредди, — купи себе газовый балончик.
— В Таллуле таких не продают.
— Ну так что-нибудь в этом роде.
Двери лифта со свистом открылись, и на нас уставились две медсестры. Я выскочила наружу, шарахнувшись от Фредди, как от умалишенной, и радостно вдохнула прохладный, не загрязненный бактериями воздух.
ДЖО-НЕЛЛ
Теперь, когда Минерва тоже попала в больницу, сестры стали навещать меня по очереди. Если Фредди шла наверх, Элинор сидела у меня: они словно сговорились не оставлять меня наедине со сновавшими туда-сюда докторами. Забегая в мою палату, доктор Джей Ламберт с изумлением глядел, как Элинор кромсает «Нэшнл инкуайрер». На его лице было написано: «Боже, куда я попал?! Да тут же сумасшедший дом!» Мы свободно вздохнули, лишь когда эта обжора убралась в кафетерий «перекусить». Джей Ламберт задернул за собой занавеску и кинулся ко мне, на ходу расстегивая ширинку.
— Только осторожно, — предупредила я, оберегая свою ногу.
— Конечно-конечно. — И он стянул с меня одеяло. — Но я очень спешу.
— Ничего, зато мне вот спешить некуда, — ответила я, поглаживая его мгновенно напрягшийся причиндал.
После его ухода я стала смотреть мыльные оперы. Казалось, моя жизнь превратилась в нечто подобное: только без нарядов и красивых мужчин. Рано или поздно Джей Ламберт заявит, что надо поостеречься, а то его жена что-то заподозрила. Если бы мне давали по десять центов за каждую подозрительную жену, я бы уже скопила на «лексус». Но какая разница! Через пару месяцев у меня будет совершенно новый адрес: Маунт-Олив, штат Техас.
Джей забегал ко мне каждое утро, как раз перед началом «Дерзких и красивых». Приносил цветы, конфеты и золотые побрякушки. Больше всего мне понравилась булавка с лягушкой.
— Из-за тебя я просто теряю голову, — говорил он. И я, как обычно, не спрашивала, что об этом думает его жена.
— Рада слышать, — отвечала я, — но лучше будь повнимательней.
— А что? — Он так сморщился, словно был готов расплакаться.
— Видишь ли, мой милый, — я погладила его по лицу, — без головы тебе будет несладко. Ты же — доктор.
Подняв глаза, я вдруг увидела какого-то пожилого мужичка. Его лицо показалось мне жутко знакомым, и я сказала:
— Привет, чем могу служить?
— Я — брат Стоуи, — ответил он.
Тут я чуть с кровати не свалилась. На свой портрет он был не очень-то похож: в реальности брат Стоуи выглядел гораздо старше, лет за пятьдесят. На нем был красный свитер и темно-синие брюки, свое тяжелое серое пальто он перебросил через руку. И все же я была тронута, что он навестил такую заблудшую овцу, как я.
Вошедшая в палату Элинор так и отвесила челюсть. В ее глазах без труда читалось: «Проповедник из нашего санузла! Живой!»
— Ах, брат Стоуи, — сказала она чрезвычайно вежливо, — как мило, что вы зашли!
— Здравствуйте, — ответил он, протягивая ей руку, — простите, мы уже встречались?
— Да нет, — едва выговорила она.
— Тогда как же…
— Минерва держит ваш портрет у нас над унитазом, — пояснила я.
Преподобный тихо охнул.
— Не над унитазом, — разозлилась Элинор, — а напротив него.
И мы уставились на брата Стоуи. Щеки у него надулись, а на лбу заблестели капельки пота.
— Минерва — замечательная женщина, — промямлил он, и мне показалось, что о нас с Элинор он несколько иного мнения. — Чуть кто-то заболеет или умрет, и она тут как тут с кастрюлькой какой-то стряпни. Я только что был у нее, — он указал на потолок, будто навещал ее на небесах, — и застал бодрой и веселой.
— Она всегда такая, — кивнула Элинор.
— Да. — Он попытался стереть с пальто какое-то пятнышко, затем воззрился на меня: — Джо-Нелл, она говорит, что вы чудом спаслись от смерти. Ведь вы попали в автокатастрофу, не так ли?
— Ага, — ответила я, радуясь, что разговор перешел на меня. — Этот чертов поезд едва не поломал мне хребет. Мне просто дьявольски повезло, отец Стоуи.
— Брат, — поправил он, — брат Стоуи, а не отец. Я же не католик.
— Да, в религии я ни фига не смыслю, — честно подтвердила я — что толку врать слуге Господа. — Конечно, за такое везение стоило поблагодарить и Иисуса, и всю остальную компанию. Но мне было так хреново, что я просто не могла встать на колени и отвешивать поклоны. К тому же я неверующая.
— Этого я не знал, — пробормотал брат Стоуи.
— Не переживайте, — ухмыльнулась я, — вы ж не экстрасенс.
Стоявшая у окна Элинор как-то странно захрипела, словно чем-то поперхнулась.
— Да что с тобой? — спросила я у нее. Она прикрыла ладонью рот и нос, словно проверяя, не пахнет ли у нее изо рта.
— Что ж, мне пора бежать, — сказал брат Стоуи, — надо еще стольких навестить!
— Заходите почаще, святой отец.
Он вышмыгнул за дверь, и Элинор наконец-то оправилась. Сощурив свои желтые глаза, она прошипела:
— Да как тебе не стыдно!
— А что?
— Ты сказала «хреново» при брате Стоуи!
— Да ладно. — А я и не заметила, богом клянусь.
— Сказала-сказала.
— Ну я же не специально. Просто вырвалось.
— А еще ты поминала черта.
— Ну это-то слово он знает не хуже меня, — пожала я плечами. — В любом случае он, похоже, не обиделся.
— Думаю, он просто в шоке. — Элинор села на стул и уставилась на экран. — Ну, что нового в моем любимом сериале?
— Значит, так: ровно перед свадьбой Кристины и Пола невеста любезничала с Дэнни. Это ее бывший.
— Да знаю я, кто такой Дэнни.
— И Пол их застукал, но тот момент я, к сожалению, пропустила. Короче, они расстались. А тем временем Филлис, предыдущая зазноба Дэнни, плетет интриги, чтобы его вернуть.
— Да плевать на нее! Как там у Никки с Виктором?
В этот же день ко мне зашла Фредди. Не дав ей даже перевести дыхания, я выпалила:
— Так как все прошло?
— Ты о чем? — удивилась она. Она села на обтянутый коричневым винилом стул и подтянула колени к подбородку.
— Только не прикидывайся дурочкой, — засмеялась я, — у тебя на лбу все написано.
— Что именно?
— Что вы переспали, дуреха. — Дело в том, что женщина, которую как следует ублажили, начинает сиять, как лампочка. Ее волосы блестят, глаза светятся, а улыбка становится просто ослепительной. — Но ты упорно скрываешь, как все прошло.
— Что именно?
— Что вы переспали, дуреха. — Дело в том, что женщина, которую как следует ублажили, начинает сиять, как лампочка. Ее волосы блестят, глаза светятся, а улыбка становится просто ослепительной. — Но ты упорно скрываешь, как все прошло.
Она передернула плечами и принялась кусать свою коленку.
— Секс — это еще не все, — напомнила я ей, — к тому же врачи — отвратительные любовники.
— Я бы так не сказала. — Она подняла голову и поглядела сквозь меня своими карими глазами.
— А как же Сэм?
Она снова пожала плечами. «Вот тебе и разговор, — подумала я, — да из нее не выжмешь ни слова!»
— А как же все ваши приключения, о которых ты мне рассказывала? Ваши заплывы с акулами, наблюдения за китами, рыбалка на испанском побережье? Мне вот казалось, что у вас там интересная жизнь.
— Пожалуй.
— И ты от нее откажешься?
— Возможно, у меня не будет выбора.
— А, понятно. Хочешь бросить его первой, пока он от тебя не сбежал. Парень сходил разок налево, а тебе все никак не забыть: так и ждешь, что он снова загуляет. И вот, едва вы расстались, ты приревновала его к какой-то блондиночке…
— Не без оснований.
— …И тут же закрутила свою интрижку.
— Можешь думать что угодно, — сказала она, — но учти: мне не хватало внимания.
— И хорошего перепихона, это-то тоже надо учесть!
— Порой мне в голову приходят просто безумные мысли, — пробормотала она.
— О, от оргазмов это бывает.
— Я стала всерьез подумывать о том, чтобы остаться здесь.
— В смысле, у нас? — Я схватилась за железную перекладину и встала на ноги. Вообще-то нога при ходьбе не болела, но я боялась вывихнуть сустав. — В Таллуле?
Она кивнула.
— Вот тебе раз! — выдохнула я. — Но, Фредди, это же страшно глупо!
— Естественно. Сущее безумие.
— Что точно, то точно. Настоящий маразм. Ну, с мужиками-то понятно, но как ты бросишь работу?
— Но можно и здесь заниматься китами.
— К твоему сведению, в Таллуле есть лишь два водоема — река и бассейн Сисси Олсап. Кстати о Сисси: подумай, как ты уживешься с этой стервой! Ведь она специально свела вас с Джексоном и этой риелторшей в надежде, что вы все перегрызетесь.
— Какое мне до нее дело? — Фредди упрямо набычилась.
— Вот переедешь сюда, и все изменится.
— Буду держать ее на расстоянии.
— Это ее-то? Ты просто не знаешь Сисси.
— Не буду ей звонить.
— О, можешь не сомневаться: она сама тебе позвонит.
— Что ж, заведу автоответчик, — она пожала плечами, — и не буду перезванивать. И она сама все поймет.
— Да хрен с ней, с Сисси и с ее телефонными звонками. Рассказывай лучше о Джексоне. Так ты его любишь?
— О любви пока что рановато говорить.
— Ну вы же не вчера познакомились. Ваш роман — как сушеные шампиньоны, что продаются в магазинах для гурманов. Стоит залить их водой, и — хоп! — они разбухают больше прежнего.
Она рассмеялась.
— Везет тебе, однако. Сразу двое мужиков!
— Да нет, не два.
— Но как же! У тебя же и Сэм, и…
— Я позвонила ему в номер, и мне ответила его ассистентка.
— О господи! — Я аж зажала рот руками. — Так он с ней переспал?
— Откуда же мне знать? — И она глубоко вздохнула.
— Так вот оно что, — сказала я, — око за око. Узнала про них и отомстила ему со стариной Джексоном. Просто свела счеты.
— Вовсе нет. — Она нахмурилась и ощупала царапину на руке. Затем посмотрела мне в глаза и чуть улыбнулась. — Ну, разве что самую капельку.
— Ну, я же говорю. — Я хлопнула рукой по простыне.
— Ты только что сама сказала: мы с Джексоном не вчера познакомились.
— Подумаешь! Можно трахаться вообще с кем попало и быть от этого на седьмом небе. Только все это иногда выходит боком.
— Как?
— Можно сделать ошибку. Выбрать не того, кто тебе нужен, и втрескаться по самые уши. А потом — расхлебывать эту кашу.
— Но у меня же нет выбора! Если Сэм там забавляется с Ниной, он мне больше не нужен.
— Нет уж, выбор есть всегда, это-то точно! Ты ж говорила, что без ума от Сэма. Что он — твой Единственный и все такое.
— Да, разумеется. Только, когда в моей семье стряслась беда, он развлекается с посторонними женщинами в отеле «Мирабель»!
— Подожди, там вроде была только одна женщина?
— Изменить мне в такой момент — это просто подлость! Все равно что пнуть лежачего!
— Слушай, у тебя же не рентгеновские лучи вместо глаз. Ты не можешь заглянуть в этот чертов номер! Может быть, она пришла к нему по какой-то вполне безобидной причине.
— Черта с два!
— Но наверняка-то ты не знаешь! Зато вбила себе в голову, что поймала их с поличным, и тут же закрутила с Джексоном.
— Все немного сложнее. — Она шмыгнула носом.
— Да уж, разумеется. Ты загуляла, совсем как я. Но в том-то и штука, что ты не такая, как я. Чуть с кем-то переспишь — и тут же начинаешь раскаиваться. Ты просто не умеешь спать ни с кем, кроме мужа. У Элизабет Тейлор та же проблема: вот не может баба завести интрижку и просто забыть о ней. Фредди, бери пример с меня! Никакого раскаяния! Радуйся жизни и меньше думай!
— Я и сама не знаю, чего мне надо.
— Мой тебе совет: не вздумай выложить все Сэму. Ни слова ему не говори: он этого не поймет. Мужчины считают, что могут спать с кем заблагорассудится, но их жены должны быть непорочны, как монашки. Мой девиз: «Меньше знает — крепче спит».
— Ненавижу врать.
— Но ложь во спасение необходима — помогает нам выбраться из дерьма. И кстати о честности: думаешь, тебе бы понравилось, рассказывай тебе муж всю-всю правду?
— Да.
— А я думаю, ты бы свихнулась уже через полгода. — Я приподняла прядь своих волос и обнюхала ее. Пахло потными ногами. — Не знаю, как у Джексона с честностью, но спорт он просто обожает. Как и все южане, он просто сам не свой до футбола. Держу пари, что у него сезонный абонемент на все игры клуба. — Я помахала кулаком: — Вперед, «Орандж»!
— Ну и что? Ты и сама частенько ездила в Ноксвилл.
— Да, но с ухажерами, а не с мужьями! То есть у меня был выбор. Ни один из этих чокнутых фанатов не был мне мужем. К тому же я-то люблю контактные виды спорта, в отличие от некоторых. Ведь ты и по телевизору-то смотришь одно фигурное катание. Небось ни разу не была в Кэндлстик-парке?
— А вот и была.
— Надо же! Но готова поспорить, что у Джексона весь шкаф забит клубными футболками от оранжевых до яично-желтых. Это как в старом анекдоте: «Почему Теннесси такой красочный в октябре? Потому что осенью там желтеют все футбольные болельщики».
— А что плохого в любви к футболу? — Фредди пожала плечами. — Вот Сэм болеет за «49».
— Однако он не уезжает из Мексики на Сахарный кубок.
— Вот Сэм болеет за «49».
— Однако он не уезжает из Мексики на Сахарный кубок. И этим все сказано! Ты даже не представляешь себе, что значит фанат.
— Но может, Джексон и не фанат.
— Возможно. Но ты и понятия не имеешь, как спорт разъединяет людей. Фанаты и не фанаты расходятся, как масло с водой. Половина моих бывших любовников никогда бы не клюнули на меня, ходи их жены на футбольные матчи.
— Зря стараешься, — сказала она, — моя проблема не в футболе и не в яично-желтых футболках.
— Ну, может, с футболками я и погорячилась, — сказала я, — а вот с оттенком все в точку: как ни крути, в проблемах женщины всегда замешана пара яиц.
Она закинула голову и расхохоталась. А затем обняла меня и воскликнула:
— Ну что бы я без тебя делала?!
— Это точно, — сказала я и взъерошила ее волосы, — без меня ты как без рук.
МИНЕРВА ПРЭЙ
Моя палата была в самом конце небольшого коридорчика, который тут все зовут «малой кардиологией». Медсестры посиживали за своим столом, щебетали как птички, ели попкорн и чипсы и притворялись, что страшно заняты. Я была очень рада, когда Фредди привезла ко мне Джо-Нелл и мы все вместе посмотрели «Живем только раз». На гипсе Джо-Нелл расписались уже все медсестры, и потому он походил на грязную тряпку.
— А где же Элинор? — спросила я.
— Тс-с-с, — зашипела Джо-Нелл, — дурачка помянешь, он и появится!
— Она в закусочной, — сказала Фредди.
— Ни за что не угадаешь, какие у нас тут новости, — объявила Джо-Нелл. — Фредди подумывает остаться в Таллуле!
— Вовсе нет, — завопила Фредди, а ее щеки залились краской.
— А вот и подумываешь.
— С чего это вдруг? — спросила я ее.
— Я сказала лишь, что, может быть, останусь.
Вот оно и вышло наружу. Правда сидела в ней все это время, словно застрявшее зернышко в зобу у цыпленка.
— Известно, «с чего это вдруг», — продолжала Джо-Нелл, — все из-за Джексона. К тому же она позвонила Сэму, а трубку подняла его помощница.
— Заткнись, — твердила Фредди, а ее глаза буквально прожигали сестру насквозь.
— Фредди уже взрослая женщина, — сказала я, — и сама все решит.
— Да у нее же соображения как у клопа!
— Может, и так, — буркнула Фредди.
— Сколько ты тут вытерпишь, а? Шесть месяцев? Год? Три года?! И все это время кругом будут виться гиены вроде Сисси. А как тебе Клуб христианок, Общество добровольных медсестер или Союз таллульских жен? Да ты помрешь с тоски на их заседаниях!
Честно говоря, я думала то же самое: ей все это не понравится.
— Говорю тебе, сестренка, в Таллуле только этим и занимаются, — говорила Джо-Нелл, — ходят по клубам да сплетничают. А в перерывах трахаются до потери пульса.
— Джо-Нелл! — вскрикнула я и попыталась сесть, от чего мое сердце так и подскочило. На мониторе вспыхнул красный огонек. — Попридержи язык!
— Посмотрим, скоро ли объявятся медсестры, — сказала Фредди, взглянув на свои часы с простым черным циферблатом.
— Медсестры сюда и не заглядывают, — пожаловалась я, — они позабыли, что я тут. Такие странные!
— По-моему, это просто несправедливо! — стенала Джо-Нелл. — Фредди возвращается ровно в тот момент, когда я решила уехать.
— Да кто тебе сказал, что я возвращаюсь? — возмутилась Фредди.
Я не промолвила ни слова, но страшно обеспокоилась.
Я не промолвила ни слова, но страшно обеспокоилась. Быть снова рядом с Фредди было бы огромной радостью, но Таллула и вправду будет ей в тягость.
— Однажды ты уже сбежала из этого паршивого городишки, причем именно из-за Джексона, — наступала Джо-Нелл. — Не забывай об этом!
— Но он был ни в чем не виноват. Это я наломала дров, а потом сама же устыдилась.
— Но ведь вся твоя жизнь в Калифорнии.
— По крайней мере, так мне казалось. — Она уставилась на свои руки, пальцы которых были нервно сцеплены. — А к Таллуле ты несправедлива: не такая уж она и паршивая.
— Ты же так расхваливала тот прекрасный городок — как там он называется?
— Дьюи.
— Точно. Где на автозаправках продают всякие деликатесы.
— Быть может, я просто придиралась к Таллуле, — продолжала Фредди, — а на все надо смотреть непредвзято. Иначе можно один раз наткнуться на букашку в пудинге и на всю жизнь отказаться от выпечки.
— Элинор именно так бы и сделала, — заметила я.
Мы все рассмеялись, но вскоре умолкли.
— Нет, я тебя просто не понимаю, — снова прицепилась Джо-Нелл к Фредди. — Вот я уже по горло сыта этим городом и его жителями. Моя подноготная известна всем и каждому, причем, уверяю тебя, в Таллуле гораздо чаще врут, чем говорят правду.
— Как и везде, — обронила Фредди.
— Это точно, — кивнула я и подумала, что, несмотря на разный выговор и разные вкусы, где-то внутри мы все очень схожи меж собой. — Люди-то — они повсюду одинаковы. — Я оправила простыни и глянула на монитор: мое сердце постукивало мерно, как капли воды, которые срываются с подтекающего водопроводного крана.
— Надеюсь, что нет. Ведь все местные просто жалкие сплетники, — фыркнула Джо-Нелл. — Надоела эта крысиная нора: как только встану на ноги, меня отсюда как ветром сдует.
— И куда же ты поедешь, лапушка? — ласково спросила я.
— Не знаю. Подумываю про Техас.
— Маунт-Олив еще меньше Таллулы, — сказала Фредди, — к тому же ты будешь новенькой, да еще и внучатой племянницей Хэтти. Это привлечет внимание.
— Я справлюсь, — заявила Джо-Нелл, — думай лучше о себе.
— Но ты не готова к переезду, — возразила Фредди.
— Слушай, мы смотрим на мир с разных колоколен. Ты вот видишь Таллулу и думаешь: «Хм, а может, я ошибалась? Может, тут не так уж и плохо!» Тут Джексон, тут Минерва… И вот ты готова попробовать еще разок. Ну а я намерена рвать отсюда когти.
— Всякое место хорошо своими жителями, Джо-Нелл, — осторожно сказала я, — а сорная трава найдется в любом саду.
— Да знаю я, — проворчала она, — но здешние сорняки мне уже известны наперечет. Пора мне вырваться на свободу: ведь я никогда еще не уезжала из дома. К тому же наш истинный дом не здесь, а в Техасе!
— Только не мой, — мрачно хмыкнула Фредди.
— Ну, мой-то там, — проговорила я, подумав, — на нашем общем ранчо. Может, Джо-Нелл и правда стоит съездить туда. А то после Хэтти там никто не живет, и дом скоро начнет разваливаться. Отсюда я не могу за ним приглядывать.
— Если я и правда отправлюсь в Техас, — вдруг сказала Джо-Нелл, — круг семейных скитаний замкнется.
— Ну не уезжай хоть какое-то время, поживи в Таллуле. — Фредди потянула ее за рукав. — Помнишь, как мы бегали по распродажам?
— Да ты там в жизни ничего не покупала.
— А теперь, может, и куплю, — улыбнулась Фредди.
Я-то понимала, о чем она.
Я-то понимала, о чем она. Хотела попытаться еще разок дать Таллуле последний шанс, прежде чем окончательно списать ее со счетов. Бог свидетель, я никогда не собиралась остаться тут навсегда. Но не успела оглянуться, как пролетело целых двадцать пять лет. А потом и тридцать. А потом я состарилась и поняла, что порядком обжилась на этом месте. Жизнь тут как лоскутное одеяльце, за которое я принялась в сорок первом году и которое теперь стало таким большим, что мне под ним тепло и уютно. Я укрываюсь им каждую ночь, и в каждом из его лоскутков спрятано какое-то воспоминание. Вот — кусочек распашонки с узором в виде арбузов. А вот — теплые мужские кальсоны и халатик для беременных, затканный виноградными листьями. Оно сшито моими руками, лоскут за лоскутом, стежок за стежком. Многое я пристрочила вкривь и вкось, но от неровных строчек одеяло греет ничуть не хуже. Будь оно идеальным, я бы вечно боялась за него: вдруг испачкается? Или помнется? Что, если на него залезет кошка? Такие неидеальные вещи просто необходимы, если хочешь радоваться жизни, а не влачить унылое существование через силу.
— О, не волнуйся: тебя на них сводит Сисси, — издевалась Джо-Нелл, — она так развлекается. Такими «делами» заполнен весь ее ежедневник.
— Да не собираюсь я тратить на нее время. Здесь есть и нормальные женщины, те, что сами выращивают помидоры и ирисы. Ну, как ты, Минерва.
— Я? — удивилась я и замахала рукой.
— Ты умеешь быть счастливой даже в самых диких местах.
— Да уж, более дикого места, чем Таллула, наверное, и не сыщешь, — снова зафыркала Джо-Нелл. — Может, вы с Минервой поедете со мной в Маунт-Олив?
— Я — нет, — покачала я головой, — у меня тут, лапушка, куча дел.
— У меня тоже, — кивнула Фредди.
— Черт, если он настолько хорош в постели, — рассмеялась Джо-Нелл, — привози его с собой. Просто посади в машину и приезжай с ним.
Когда девочки ушли, на отделении снова стало тихо. Я сидела одна-одинешенька перед телевизором и думала о внучках. Бедняжки совсем запутались. Одна возвращается, другая уезжает, а третья снова остается одна. Джо-Нелл хочется начать все сначала, она смотрит в будущее, а Фредди возвращается к прошлому и пытается в нем разобраться. Ну а бедняга Элинор, оставшись наедине со мной, просто с ума сойдет от страха. Я ей частенько говорю: «Делать нечего: надо просто набраться храбрости и перестать стучать зубами, отправляясь в магазин». Ей ужас как не нравятся эти слова про стучащие зубы, но, бог свидетель, я не преувеличиваю.
Уж поверьте мне, простые радости — вот что помогает нам жить. Растущий салат. Прополотые фиалки. Виноградный джем, который варишь в августе. Петрушка и тимьян с собственных грядок. Влажные простыни на веревке, которые хлопают тебя по ногам, словно твой собственный домашний ветерок. Рассказы мамы о ее детстве, а потом — о детстве ее мамы, и так про всех предков до самой Евы и запретного плода. Когда-то я не раз повторяла Руфи: «Пока ты пишешь списки покупок и составляешь себе расписание, настоящая жизнь проходит мимо». И знаете что? Именно так оно и случилось.
Это непростой урок, и многим не дано его выучить. Я знала одну даму, которая построила дом, а потом просто обезумела из-за дверных ручек. Она выбрала ручки в форме яиц, и я еще решила: «Какие миленькие». Но она так и умерла, думая, что надо было выбрать другие, с узорчиками. Знавала я и таких приверед, что просто с ног сбивались, подбирая оттенок краски для потолка. Казалось, вся их жизнь зависит от того, гармонируют ли ягодки на диване с яблочками на диванных подушках. А по мне, так фрукты — это просто фрукты. Многие из них — красные. Конечно, я не слепая и вижу, что все они разных оттенков.
Есть розоватые, есть коричневатые, есть рыженькие. Но, родные мои, разве можно так волноваться из-за них? Цвета не сделают тебя счастливей ни на йоту. Уж лучше посадить себе куртинку нарциссов и азалии. Просто встать на коленки и покопаться в мягкой и прохладной землице, благодаря Господа, что на это еще хватает сил.
ЭЛИНОР
В газете говорилось: «Воришка из «Кей-Марта» украл еще одну сумочку: пострадавшая была госпитализирована с легкой травмой». Я прочитала это, когда мы с Фредди ели салат из курицы и пшеничного зерна. Схватив ножницы, я немедленно вырезала статью, а Фредди захохотала.
— Волна преступлений докатилась до американской провинции, — провозгласила она.
— И в этом нет ничего смешного.
— Элинор, но нельзя же всю жизнь дрожать от страха, ожидая, что тебя ограбит какой-то бандит.
— Я и не дрожу, — разозлилась я, — но надо иметь в виду, что в Таллуле орудует вор.
— Просто ходи без сумки. — И она надкусила бутерброд, аппетитно похрустывая салатом.
— Да я скорее умру, — сказала я, и это было чистой правдой. В этой сумке — вся моя жизнь. Мои очки, мои водительские права, фотографии нашей семьи, таблетки от несварения, просроченные счета, купоны, деньги, ключи, лосьон для рук, список необходимых дел, список покупок, рецепты, жевательная резинка, таймер в форме яйца, градусник и экседрин (ведь наперед-то не знаешь, когда поднимется давление и разболится голова).
— Да выбрось ты этот альбом. — Фредди отложила бутерброд. Ее глаза вдруг сузились.
— Зачем? Это мое хобби.
— Найди себе другое.
— Ха, легко сказать.
— Слушай, я не придираюсь к тебе. — Она вытерла рот салфеткой. Последнее время она постоянно пользовалась помадой, а также гардеробом Джо-Нелл и ее муссом для волос. А если женщина наводит марафет, тут явно замешан мужчина.
— Тебе так кажется?!
— Я просто говорю, что тебе нужно стать более уверенной в себе. Может, пройдешь курс самообороны?
— Мне он не нужен.
— А я вот прошла такой в Сан-Франциско. Зал был рядом с Хейт-Эшбери, и по ночам там было страшновато.
— Ну ты же любишь искать приключения себе на голову, — пробурчала я.
— Наш тренер велел нам носить в сумочках камни. Тогда при нападении у нас было бы оружие.
— И много ты платила за такой совет?
— Нет, курс был бесплатный.
— Вот и прекрасно, потому что этот совет не стоит и ломаного гроша.
Когда она, насквозь пропахшая духами от Эсте Лаудер, ушла миловаться с Джексоном, я прокралась на задний двор и уставилась на груду кирпичей. Минерва берегла их, чтобы выстроить ограду для огорода с травами. Я выбрала крупный красный кирпич, вполне увесистый и солидный. По виду было трудно сказать, влезет ли он в мою сумку. И тем более сгодится ли для самообороны. Если кто-нибудь спросит, зачем он мне, отвечу, что растираю им чеснок. Когда я прошмыгнула обратно в дом, мне показалось, что я стала чуть сильнее. Хотелось бы верить, что женщину с таким оружием грабители будут обходить стороной. Но честно говоря, кто их знает.
Прошло два дня, а Минерве, как будто, делалось только хуже. Стоило ей подняться, чтоб пойти в туалет, как ее уже мучала одышка. Она хваталась за зеленую трубку с кислородом, словно жить без нее не могла. Ее кожа стала сухой и горячей, словно у нее был жар, а цвет лица сделался просто ужасным — как грязная вода из посудомойки. Подловив в коридоре доктора Старбака, мы приперли его к стенке.
— Я хочу знать, что происходит с моей бабушкой, — заявила Фредди. — Вы сделали ей что угодно, но только не артериограмму.
— Мне так не хочется мучить ее зря, — ответил он. — Эхо отличное, ферменты в норме, а к холтер-монитору я ее подключил. Сердце работает исправно. Ни загрудинных болей, ни аритмии. И тем не менее температура по-прежнему субфебрильная.
— Но из-за чего? — спросила я.
— Возможно, какая-то инфекция, — сказал мне доктор.
— А отчего тогда одышка? — не унималась я.
— Я распорядился просканировать ей легкие: быть может, туда попал эмбол.
— Кто? — Я аж подалась вперед.
— Кровяной сгусток, — пояснила Фредди.
— Но это маловероятно, — он пожал плечами. — А вот туберкулиновая проба может оказаться полезной.
— Что-что? — рассмеялась Фредди, но смотрела на доктора очень внимательно.
— Туберкулиновая…
— Но это же просто смешно!
— В общем-то, нет. Вы не поверите, сколько туберкулезников вначале жалуются на диспноэ. — Доктор поглядел на меня и, по-видимому приняв за тугую, пояснил: — Диспноэ — это одышка.
— Я знаю, — рявкнула я и, вцепившись в сумку, ощупала острые края кирпича. Если доктор разозлит меня, он быстро об этом пожалеет.
МИНЕРВА ПРЭЙ
Весть, что я угодила в больницу, вмиг облетела всю Таллулу. Посетителей набежало столько, что моя соседка по палате постоянно жаловалась медсестрам: «Так нечестно: и окно ей, и гости — тоже ей!»
— Все будет в порядке, — говорила ей медсестра и задергивала ее занавеску, — просто отдохните и успокойтесь.
— Я вот тоже страшно устала, — сказала я, чувствуя себя так, словно только что подвязывала фасоль и выпалывала дикий папоротник. Эти злокачественные обмороки, или как их там, оказались утомительной штукой. Они высосали из меня все соки.
Медсестра подошла и вставила трубочку с кислородом мне в нос. Я так и вцепилась в этот зеленый проводок.
— Так лучше? — спросила она.
Лучше было намного, но через некоторое время у меня так забился нос, что дышать снова стало трудно. Я решила, что простудилась, но Фредди сказала, это из-за кислорода, который высушил все мои пазухи. И она заставила медсестер подсоединить какую-то склянку с водой. Через пару минут я дышала совершенно свободно. Из этой девочки вышел бы отличный врач. Ну а из меня самой — отличная лодка, тихо и спокойно плывущая вдаль по речной глади.
Когда я снова открыла глаза, Фредди сидела у окна. Небо у нее за спиной уже стало розоватым с желтыми крапинками. Элинор устроилась на стуле и разгадывала какой-то кроссворд. Прежде чем она заметила мой взгляд, я снова закрыла глаза: не из грубости, а просто потому, что устала. Фредди и Джо-Нелл могут просто посидеть рядом, но Элинор — никогда. У этой девочки язычок без костей, а я, мои милые, свое уже отговорила.
Мне бы только отдышаться, и я тут же поправлюсь.
Не знаю, сколько времени прошло: может, секунда, а может, целый день.
— Миссис Прэй? — сказал чей-то голос (кажется, кардиолога, но точно я не разобрала). — Похоже, у вас ЖНП.
— ЖНП? — воскликнула Элинор (на сей раз я не сомневалась: этот-то голос я узнаю везде и всегда). — Послушайте, у нас тут не сериал «Звездный путь», так что нечего нести тарабарщину!
— Элинор! — ахнула Фредди.
— Ах, простите, — сказал доктор. — ЖНП — жар неизвестного происхождения.
— Так бы сразу и сказали, — рявкнула Элинор.
Я стала уговаривать ее, чтоб не грубила доктору, но, когда наконец открыла глаза, оказалось, что уже вечер и внучки давно ушли.
(Я-то знаю, что Элинор терпеть не может ездить по ночам, даже если за рулем кто-то другой.) Медсестра принесла мне поднос с ужином, но я даже не сняла с него крышку. От запахов мне становилось не по себе. Река уносила меня, а вокруг хлопали мутные белые занавеси, хотя, может быть, это были и простыни. Когда ты сильно устаешь, тебе уже просто не разобраться.
Джексон Маннинг, прежний любимый нашей Фредди, вошел в палату и присел на мою постель. Я проснулась и увидела, что он принес мне букетик папоротника, перевязанный красной ленточкой. Он потянулся и поставил букет на залитое солнцем окно.
— Мисс Минерва, что мне для вас сделать?
— Для меня? — Я задумалась над вопросом, но он был слишком трудным. Я и сама его не раз задавала, стараясь выяснить, чего именно не хватает больному. Графина воды со льдом, еще одной подушки, соленых крекеров или жирного молока — все это и многое другое можно без труда раздобыть в больнице, если ты поладила с медсестрами. Но я и понятия не имела, чего бы хотелось мне. Меня мучила боль в груди, глубоко под ребрами, почти у самого хребта. Но я уже жаловалась на нее доктору, и он ничуть не обеспокоился.
— Должно быть, вы поломали ребро, когда упали на днях, — сказал доктор Старбак, — мы отвезем вас на сканирование легких.
Милые мои, меня уж просканировали вдоль и поперек и при этом ничего не обнаружили. Но жаловаться мне не хотелось. Они и так скоро сделают все известные им анализы и успокоятся. А еще мне порой кажется, что они попросту считают меня выдумщицей.
Я открыла глаза пошире и поглядела на этого мальчика: на чудные голубые глазки (совсем такие же, как у его отца) и на раздвоенный подбородок.
— Просто будь добр к моей Фредди, — сказала я, — это все, что мне нужно. Она у меня отличная девочка.
— Да, мэм. Я знаю, — сказал он и похлопал меня по руке. За его спиной виднелась залитая солнцем палата. И тут он нагнулся поближе ко мне: — Я ведь всегда ее любил, вы же знаете.
— Знаю.
— Сегодня вечером я к ней зайду.
— Обязательно зайди. — Голос у меня стал совсем слабым и как-то попискивал, а в горле слегка щекотало. — И будь добр, скажи ей, чтоб она захватила мне свежую ночнушку.
— Да, мэм. — Он встал со стула. — До завтра.
— До свидания, — сказала я.
ФРЕДДИ
Всю свою жизнь я поступала как черепаха: все, что не могла унести на себе, бросала как ненужное. Я не хранила ни поваренных книг, ни стеклянных зверюшек, ни модных тряпок. Теперь мне стало понятно почему: я ведь и так волочила за собой непосильный груз: Джексона, Минерву, Джо-Нелл, Сэма, свою неудавшуюся карьеру. Но самой тяжелой ношей была моя безудержная тревога: я не могла ни расслабиться, ни довериться, ни смириться с этой постоянной нервозностью. Порой мне казалось, что я живу в разгар военных действий, на которых мне ни за что не добыть ни пленников, ни трофеев. Я видела, что Элинор тоже бьется на передовой, уже вконец измученная схваткой. Она — крайний случай безотчетной тревоги. Должно быть, это передалось нам по наследству, как ямочки на щеках. Только склонность к панике была вмятиной в наших душах.
Не знаю почему, но я вдруг позвонила в Дьюи. Мистер Эспай ответил на четвертый по счету звонок. Он рассказал, что на заливе Томалес разыгрался шторм и все побережье усеяно ракушками. Я буквально видела, как он сидит в гостиной, а рядом с ним — окна с частыми переплетами, в которые вставлены крошечные квадратики старинного стекла, оплывшего и деформированного.
— Сэм рассказывает мне о твоих делах, — сказал он, — говорит, твоя сестра поправляется.
— Да, но теперь в больницу попала моя бабушка. Помните, я рассказывала вам про Минерву?
— Ну разумеется.
Помните, я рассказывала вам про Минерву?
— Ну разумеется. Грустно слышать, что она заболела. Позавчера я разговаривал с Сэмом, но он об этом умолчал.
— Он просто не знает, мы с ним еще не говорили. — Я закусила палец. — Там, в Мексике, просто ужасная связь.
— О да, — согласился он, — это точно.
— Что ж, надеюсь, шторм скоро утихнет.
— Что-то не так? — спросил он. — У тебя какой-то странный голос, моя милая.
— Да нет, все в порядке. — Я прижала два пальца к переносице, но слезы все равно полились и намочили мне пальцы. Когда я повесила трубку, мне вспомнился рассказ о том, как миссис Эспай ненавидела Дьюи. По словам Сэма, она считала, что живет словно в ссылке. Ближайшим «большим» городом была Петалума, а дорогу в Сан-Франциско постоянно закрывали из-за оползней. Она родилась в Фениксе, где дождей почти не бывает и цветы можно сажать даже в феврале. Климат Дьюи ее, по-видимому, не устраивал. Лишь в конце августа — начале сентября туман там рассеивается и устанавливается теплая и ясная погода. Но это лишь короткая передышка. Вскоре заряжают зимние дожди, словно побережью просто необходим хороший душ, что-то вроде сезонного Крещения.
Пока Элинор принимала ванну, я услыхала, как к дому подъезжает машина. Глядя сквозь планки венецианских жалюзи, я видела, как Джексон едет по мощеной дорожке к самому крыльцу. Он постучал, но я все стояла и думала: стоит ли открыть ему или лучше подождать, пока он уедет? Во мне кипела злоба. Старый коричневый фургон стоял в гараже, и его присутствие выдавало меня с головой (Джексон знал, что Элинор никуда не ездит после наступления темноты). Мне и хотелось его увидеть, и в то же время не хотелось. С Сэмом мы не говорили уже несколько дней. Внезапно я поняла, почему женщины заводят себе любовников. Разочарования копятся, как вода на продавленной крыше, и не успеешь оглянуться, как твой брак превращается в скопище обид.
— Иду-иду, — крикнула я так устало, словно пробежала сквозь длинную галерею комнат. Я открыла дверь, и холодный ветер раздул мою ночную рубашку. Точнее говоря, рубашку Элинор, скроенную из светло-желтой фланели и с вышитыми цыплятами на груди.
— Да ты уже в ночной сорочке. — Он оглядел меня и улыбнулся.
— Самого модного фасона, — ответила я и проделала пируэт. Закончив кружиться, я объявила: — Элинор принимает ванну.
— Так я не вовремя? — огорчился он.
— Смотря для чего. — Я втащила его в коридор и захлопнула дверь ногой.
ЭЛИНОР
Джо-Нелл частенько приводила домой кавалеров, а потом поила бурбоном и хихикала над всеми их глупыми шутками. Дальше она валила их на пол и сосала им пальцы ног, пока те не начинали вопить. Ужасно нелепое зрелище: взрослые мужики катаются по полу и молят о пощаде. Хорошо хоть они никогда не будили Минерву, не то бы она побежала вниз, споткнулась об меня, рухнула с лестницы и сломала себе шею.
Теперь я подглядывала за Фредди и Джексоном. На кухонном столе, рядом с тостером, стоял магнитофон Джо-Нелл. Песня была безобразная: какой-то зловещий баритон пел про длинноногих женщин и про то, что у них совсем нет сердца. Но Фредди и Джексон его не слушали. Они сидели за столом и попивали горячий чай, а рядом с ними стояла бутылка яблочного бренди. Я мысленно поздравляла себя, что хоть одна из моих сестер может сидеть на стуле, как все нормальные люди. Без проигрывателя, ревущего «Болеро» Равеля, и без оголенных тел, залитых взбитыми сливками.
— Но должен же быть какой-то выход, — говорил Джексон. Он поднял свою чашку и подул так, что чай покрылся рябью. — Ты могла бы жить здесь с марта по ноябрь, а потом лететь в Мексику.
— Вряд ли Сэм согласится.
— Вряд ли Сэм согласится.
— Но он же такой продвинутый, — сказал Джексон, — ты, кажется, говорила, что он — вегетарианец.
— Веган.
— Да, точно. Я и забыл. — Он отставил чашку и уставился на нее своими голубыми глазами. — Но есть и другие моря, Фредди. И другие киты.
— Но труд всей моей жизни посвящен серому киту. Я так же не могу от него отказаться, как ты не смог бы оставить педиатрию.
— Может, и смог бы, — сказал он, отпив еще глоточек. — Это предложение?
— Что ты, о таком просить невозможно. — Она протянула руку через стол и сжала его ладонь. — На Западе жизнь как-то… быстрее, что ли?
— Я видел Запад, Фредди. Бывал на медицинских конференциях в Лос-Анджелесе и в Сан-Диего.
— Да ладно! Рафинированные конгрессы в рафинированных отелях — ничего общего с реальной жизнью.
— Так что ты хочешь сказать? Что мне не выжить на Западе? Что я южанин до мозга костей?
— Этого я не говорила.
— Но думала.
— Нет, я…
— А остаться тут ты не можешь?
— Не для меня это все. Я вечно буду не так одета. Буду шарахаться от добропорядочных прихожанок и дам, что каждый день закупаются в Нашвилле. Меня объявят дикаркой и будут то и дело спрашивать, когда я наконец уеду в Калифорнию.
— А тебе-то что? Ты же из тех, кто плюет на чужое мнение. Как Торо.
— Ага. Но Торо уже умер, — вздохнула Фредди.
Магнитофон надрывался, выводя рулады о длинноногих красотках, готовых кувыркаться в постели с утра до вечера. Боже мой! Меня аж стало подташнивать.
— Я думала об этом, — говорила Фредди, — но для того, чтобы остаться, мне пришлось бы измениться. А я не уверена, что смогу.
— Но я не хочу, чтоб ты менялась.
— Нет? — Она подмигнула ему. — Но я же даже не южанка.
— Ты родилась и выросла на Юге. Кто же ты, как не южанка?
— Я выросла на светлых бобах и окороке, на печенье и сорго. Никто из моих предков не принимал участие в Гражданской войне, хотя одного из них едва не убили при Аламо. И, насколько я знаю, ни Прэи, ни Мак-Брумы никогда не владели плантацией и не надевали белых балахонов.
— У моего отца хранятся часы Джорджа Уоллеса, — сказал Джексон, — мы нашли их, когда он уехал. А моя мать как-то провела распродажу старья, и мистер Юбэнкс купил у нее целый ящик всякой рухляди за пятьдесят центов. Примерно через час он прибежал обратно, держа в руках какой-то странный колпак.
— Смотрите, что вы мне продали, мисс Марта, — восклицал он, — это же настоящий колпак куклуксклановца.
— Так и оказалось?
— Ага. Мама потом клялась и божилась, что в жизни его не видала. Говорила, что он, видимо, валялся в одном из ящиков, которые оставили на чердаке прежние хозяева дома.
— Хм, — пробормотала Фредди.
— Неужто ты не скучаешь по здешнему безумию?
— Да, бывает иногда, — улыбнулась она.
— Тогда оставайся со мной, малышка.
— Не могу, — всхлипнула она, — не могу и все тут.
И она кинулась в его объятия. «О господи, — вздохнула я, — вот и началось. Сейчас пойдут разговорчики об усталости, потом — о «Болеро» Равеля, потом — о фильмах «Почтальон всегда звонит дважды» и «Последнее танго в Париже». А там они расчистят место на столе и начнут повторять все киношные кульбиты». Я решила, что у меня все же самые тупые сестры на свете. Они думают не мозгами, а тем, что между ног.
Они думают не мозгами, а тем, что между ног. Тут послышались отвратительные чмокающие звуки, не имеющие никакого отношения к чаепитию.
Мне стало ужасно скучно. Я столько лет смотрю сериалы, что, по правде говоря, ожидала чего-то большего. И мне жутко хотелось перекусить. Было бы, возможно, чуть лучше, играй на заднем плане приятная песня в исполнении Трейси Чэпмен или Вайноны. Но мне уже надоело подглядывать. Я прокралась в спальню, забралась в постель и укрылась с головой. Сама я буду только рада, если Фредди останется. Мы бы ходили с ней за продуктами. Ходить в «Винн-Дикси» с Джо-Нелл — настоящая пытка: она вечно боится наткнуться на жену кого-то из любовников. В результате я тоже дрожу, хотя, бог свидетель, сама-то невинна, как овечка. Однажды мы с ней стояли в отделе замороженных продуктов, и какая-то тетка залепила ей пощечину.
— Кто это? — спросила я, глядя вслед удирающей тетке.
— Лучше и не спрашивай, — пробурчала Джо-Нелл и прижала к щеке коробку с замороженными сливками.
Было бы просто здорово иметь под боком сестру с чуть менее жуткой репутацией. Последние годы я живу с Минервой и Джо-Нелл. У нас даже кошки нет. В общем-то, семейка совсем крошечная, но другой мне и не надо. Разумеется, мы трое много ссоримся, при такой-то разнице в возрасте нетрудно и возненавидеть друг дружку. Но семья есть семья. Я закрыла глаза, но уснуть смогла еще очень нескоро.
МИНЕРВА ПРЭЙ
Когда я снова открыла глаза, крутом была непроглядная тьма, а на груди у меня словно лежал кирпич. Я попыталась сесть и стряхнуть его, но из-за всех этих трубок мне было даже не повернуться. «Господи, — подумала я, — ну и тяжесть. Кто-то швырнул кирпич и угодил им прямо в меня».
Тут, скрипя туфлями по кафелю, прибежала сестричка.
— Миссис Прэй, — затараторила она, — давайте-ка ляжем в постель.
— Деточка, — сказала я, едва переводя дух, — а я и не заметила, что свалилась.
— Вы ушиблись? — спросила она.
— Нет-нет! Вот только кирпич ужасно давит.
— Что, простите?
— Мне как-то не по себе, — сказала я, и это было чистой правдой. В желудке у меня как-то странно заныло. Вот так же он ноет, когда стоишь у духовки и ждешь звоночка. Если прослушать его, пирог подгорит и весь труд пойдет насмарку.
— А что такое? — спрашивала сестричка.
— Да даже и не знаю.
— Вот что, давайте-ка ляжем в постель.
— Деточка, будь добра, позвони моим внучкам.
— Сейчас-сейчас. Садитесь сюда, во-от так. А теперь положим ножки.
Она помогла мне забраться в постель, и я откинулась на подушку. (По правде говоря, в больницах безбожно экономят на подушках и на одеялах.) И тут вокруг стемнело.
— Спасибо, милая, что выключила свет. А то мои старые глаза разболелись, — сказала я или, может быть, подумала, что сказала.
Но она, похоже, не расслышала, потому что уже через секунду свет снова зажегся — такой мягкий и теплый свет, что я вспомнила, как в конце апреля мы с Амосом выкапываем дикий папоротник вдоль ручья. Амос становится прямо на колени на лесной мох. Его фигура залита солнцем, которое светит на нас сквозь кроны берез, а с неба доносится пение соек. Течение в Церковном ручье очень быстрое, но мне кажется, что вода бежит в обратную сторону. Я слышу голоса детей: Руфи, Джози и Амоса-младшего. Но, погодите, тут что-то не так: Джози ведь не умеет говорить, а Амос-младший умер… Господи, как давно это было!
Но в воздухе звенит детский смех, чистый, как ключевая вода. Я вижу маму и папу, ждущих меня на крыльце, а рядом с ними — Берла и Хэтти. Позади них сидят все прочие Прэи, что когда-то едва-едва вырвались из битвы при Аламо.
И мне кажется, что они добирались сюда всю нашу жизнь, пока у нас бушевали войны и наступал мир, пока мои близкие рождались, умирали и разбредались по свету, — они все добирались в мой садик ради этого самого мига.
Солнце припекает мне затылок и наполняет мою душу восторгом. Я опускаюсь на коленки рядом с Амосом и чувствую его дыхание. Наши мысли порхают легко, словно бабочки; и я, вытащив из кармана столовую ложку, тоже начинаю копать.
ФРЕДДИ
Мне снилось, что я живу на ферме у Джексона, причем лето уже наступило и розовый куст в его саду вырос мне по грудь. Мы с Минервой сидим на веранде и шьем лоскутное одеяло. Ткань наших с ней жизней полна настоящих людей, а не вертлявых жеманниц вроде приятельниц Сисси. Еще вчера я ненавидела Таллулу, а сегодня мне приснилось, как я сажаю здесь циннии. Тут быстро понимаешь, что значит «чувство локтя», что такое поддержка окружающих, насколько уверенно и надежно ощущаешь себя среди тех, кто знал твою семью многие годы. Вернуться туда, где ты родилась, может быть очень приятно. Видимо, это и называется «вернуться к истокам».
Посреди ночи зазвонил телефон. Мне снилось, что я уже иду взять трубку, удивляясь, не забыл ли Сэм о разнице часовых поясов. Он единственный мог позвонить так поздно. Я села и протерла глаза. В комнате было темно, а из коридора по-прежнему доносились телефонные звонки. Затем скрипнула дверь соседней спальни, и дощатый пол застонал под шагами Элинор.
— Алло? — сказала она, а через несколько секунд вдруг разревелась. — Но как же так? — стенала она.
Я скинула одеяло и пулей выскочила из кровати. Глаза у сестры приобрели какой-то странный оттенок: не желтый, а коричневатый, похожий на цвет расплавленного сахара. Она бурно всхлипывала и опиралась о стену, словно боясь упасть.
— Кажется, меня сейчас стошнит, — сказала она и глянула через коридор в сторону ванной. Над умывальником горел ночник, освещавший портрет брата Стоуи.
— Что случилось? — крикнула я. — Кто это звонил?
Элинор уставилась на меня и прорыдала:
— Они потеряли Минерву!
— Потеряли? Как?
Я представила, что она отправилась гулять во сне, натыкаясь на углы и открытые двери. Когда я студенткой проходила практику в больнице Джона Гастона, один пациент, страдавший старческим слабоумием, залез в бельевую и уснул на кипе шерстяных одеял.
— Она умерла.
Когда мы приехали в больницу, доктор Старбак поджидал нас в коридоре вместе с усталой медсестрой.
— Мне очень жаль, — бросил он совершенно равнодушно. — Ей уже ничем нельзя было помочь.
— Но как это произошло? — заорала я под хныканье Элинор. Мне было плевать, что я перебужу всю больницу. — Я видела ее всего несколько часов назад, и она была в порядке.
— Произошла остановка сердца, — сказал доктор Старбак. — Не подскажете, в какое похоронное бюро нам обратиться?
— Я хочу ее видеть.
Он явно изумился, но все же кивнул на дверь. Я обернулась к Элинор, схватила ее за руку и потащила за собой. В палате царил полумрак, и только над кроватью Минервы горел ночник. Она была укрыта по самую шею; глаза ее были закрыты. Мне вдруг показалась, что она жива; я ведь сотни раз видела ее спящей. Элинор грузно осела на пол.
— Минерва? — прошептала я, невольно ожидая, что сомкнутые веки сейчас затрепещут. — Мин?
Подняв простыню, я дотронулась до ее руки. Ладонь оказалась теплой. На секунду я решила, что доктор ошибся: ведь мертвец не может быть теплым. Но потом я вспомнила про Минервин жар. Подоконник был завален букетами и открытками с пожеланием скорейшего выздоровления. За все три дня ее болезни я ничего ей не принесла — ни единого цветочка.
За все три дня ее болезни я ничего ей не принесла — ни единого цветочка. Меня вдруг ужалила мысль, что я все на свете проглядела. Моя бабушка умирала, а я, по своей глупости, даже не поняла этого. Ну как себе такое простить?! Пока я смотрела на открытки, в воздухе произошло какое-то легкое движение. Открытки шелохнулись, и часть их упала на пол. Мне показалось, что душа Минервы порхает по комнате и шлет мне молчаливый упрек. Я посмотрела на Элинор: заметила ли она этот ветерок. Но сестра так и сидела на полу, понурив голову.
— Не может быть, чтобы она умерла! — всхлипнула она, посмотрев на меня. — Мы что, никогда не услышим ее голоса?!
Я опустилась на корточки, обхватила ее руками и обняла так крепко, как только могла. Так мы и сидели, пока я не вспомнила о Джо-Нелл. Надо было и ей сообщить. Рассвет еще занимался, и мне страшно не хотелось ее будить: теперь-то нам всем не скоро удастся заснуть.
— Пойдем, — сказала я.
— Я не могу, — всхлипнула Элинор, но поднялась с пола.
Мы покинули палату Минервы, прошли мимо доктора и спустились на этаж Джо-Нелл.
ДЖО-НЕЛЛ
Мне приснился отвратительный кошмар про то, что Минерва умерла и мы с сестрами отправились в универмаг за траурными платьями. Едва приблизились к кассе, как из аппарата зазмеилась длинная лента бумаги. Я схватила ее, решив, будто это чек, но увидела, что держу свидетельство о смерти. На следующее утро, когда Фредди рассказала мне, что произошло этой ночью, я воскликнула:
— Именно это мне и приснилось! Богом клянусь!
— Сделай-ка одолжение, — сказала мне Элинор, — постарайся не видеть снов обо мне.
Я выписалась из больницы на собственный страх и риск. Медсестры заставили меня подписать какие-то бумаги, чтобы я не могла потом подать на них в суд. Они ведь видели, как ко мне пожаловали служащие железнодорожной компании, желавшие задобрить меня шоколадом и гвоздиками — пожилые господа в костюмах-тройках, с пожелтевшими ногтями и тяжелым запахом изо рта. Они приходили дня три назад.
— Слушайте вы, подонки, — крикнула я им, — судится только всякий сброд. А мне от вашего Луисвилла — Нашвилла не нужно и ломаного гроша. Я вам не какая-нибудь побирушка!
И, подняв вазу с тигровыми лилиями, я запустила ею прямо в них. Вся палата была потом забрызгана водой и усыпана битым стеклом. Они тут же сбежали. Знаю, я чуток переборщила, но очень уж перенервничала. По правде говоря, меня напугало известие, что они знают все подробности аварии: как я напилась текилы и вела машину почти что в отключке. От мысли, что они потребуют оплатить починку путей и локомотива, душа просто уходила в пятки.
Потом я села в инвалидное кресло и покатила в палату Минервы. Там я зарыдала у нее на плече, твердя, что теперь мне не у кого взять в долг. Вот всегда я ляпну какую-то гадость, от которой всем станет только хуже. Минерва все убеждала меня подражать не Мадонне, а скажем, Грейс Келли.
— Но она же умерла, — возражала я ей.
— Нет, — говорила Минерва, — она живет в своих фильмах. Сходи-ка в «Видеоэкспресс» и погляди. В «Окне во двор» у Грейс великолепная прическа.
И вот теперь я смотрела на этих пиявок медсестер и прикидывала, что же мне делать. «Вряд ли, — думала я, — мне удастся стать такой, как Грейс. Ведь я куда больше похожа на Шерил Кроу: единственное, чего мне постоянно хочется, это хорошенько повеселиться — переспать с каким-нибудь симпатягой и хлебнуть пивка». Так я и металась внутри себя: от Шерил к Грейс и от Грейс к Шерил. В конце концов я решила быть самой собой.
— Моя бабуля умерла, — заявила я им, — так что прочь с дороги!
Они расступились передо мной, точь-в-точь как море, только не Красное, а белое — из-за их халатов.
— Дайте мне мои ходунки и обезболивающее. Я сваливаю, — крикнула я и мельком подумала, что в старости буду настоящей мегерой.
Фредди отвезла нас в похоронное бюро. Путь по вымощенной кирпичом дорожке оказался долгим и трудным; я вся сгорбилась над ходунками и передвигалась боком, словно краб. Утро было промозглое; трава по краям дорожки покрылась инеем, а с крыш свисали сосульки. Похоронное бюро оказалось двухэтажным зданием из красного кирпича с массивными белыми колоннами на крыльце. Даже не верилось, что это — дом смерти, но все наши родственники отправлялись в последний путь отсюда.
Гробовщика звали мистер Карл Юбэнкс Третий. Он встречал нас в вестибюле, придерживая дверь широкой белой рукой и зазывая всех внутрь.
— Заходите, — говорил он, — милости просим.
Сестры вошли, поддерживая меня с обеих сторон. Элинор так опухла от слез, что ее веки походили на банановые перцы. На ее плоском как блин лице они особенно бросались в глаза. Фредди была бледна как полотно, темные глаза горели, а вокруг рта виднелся зеленоватый след: все эти дни нас беспрестанно рвало. Сама я еще не смотрелась в зеркало, но прекрасно понимала, что похожа на путало. Однако впервые за всю мою сознательную жизнь мне было на это наплевать. Я все думала, как бы теперь поступила Грейс Келли — молодая, гладко причесанная Грейс, которая ласкалась к сидящему в инвалидном кресле Джимми Стюарту и каким-то образом разогревала ему бренди без микроволновой печи (тогда еще не изобретенной). Бьюсь об заклад, она бы лишь протянула затянутую в перчатку кисть и произнесла: «Мистер Юбэнкс». И все — только имя, и больше ни слова. Но это прозвучало бы так, словно она витийствовала битых четверть часа.
Пока мы шли через вестибюль, мистер Юбэнкс выдал нам по упаковке бумажных платочков, надорвав каждую точно по прорезям. Поскольку сама я не могла спуститься в подвал, внук хозяина, здоровенный детина, судивший местные футбольные матчи, снес меня на руках. Фредди шла следом с моими ходунками. И вот мы побрели меж рядами гробов, стараясь запоминать цвета и фасоны. Подняв одну из брошюрок, я увидела цену в 7049 долларов 62 цента. «Ни фига себе расценочки, — подумала я, — а на что, интересно, идут 62 цента?» Самые шикарные похороны стоили и вовсе 12 101 доллар 29 центов.
Минерва всегда повторяла, что ее вполне устроит простой сосновый ящик, такой, в каком когда-то хоронили нашего папу. Но я его все равно не помню. Взяв какой-то буклетик, я прочла заголовок: «Ваши похороны и вы: 101 совет». Затем на глаза попалась модель из вишневого дерева, стоившая аж 8000 долларов 2 цента.
— Не те мы с тобой выбрали профессии, — сказала я Фредди, ткнув ее в бок. — Ты только глянь на эти цены! Надо открыть похоронное бюро и зажить наконец по-человечески.
— Заткнись, — зашипела на меня Элинор, — что за гадкая идея!
— Ха! Зато куда более перспективная, чем выпекание булочек.
— Ну, ты как знаешь, а я буду печь. — Она высморкалась в бумажный платок. — Это же семейная традиция!
— Что ж, в нашей конторе ты будешь главная по кремациям, — ответила я, — поняла прикол: «кремация»?
— Ничего смешного! — Элинор прямо позеленела.
— До сих пор не могу поверить, что она умерла, — твердила Фредди вишневому гробу и водила пальцами по холодной полировке. Модель была отличная, но нам не по карману.
— И я. — Тут совершенно неожиданно у меня подкосились колени, и я вцепилась в ходунки. Живому человеку трудновато свыкнуться со смертью, но я-то знала, что бывает и потяжелее. Слава богу, на сей раз никого не задавило арбузами и никто не повесился на венецианских жалюзи. Смерть Минервы была большой бедой, но, по крайней мере, в ней не было ничего фантастичного или позорного.
Смерть Минервы была большой бедой, но, по крайней мере, в ней не было ничего фантастичного или позорного. Когда человек умирает от сердечного приступа, никто не просит гробовщика воссоздать покойнику лицо или изготовить закрытый гроб.
— И мне тоже не верится, — вздохнула Элинор и захлюпала носом. — Они говорят: «сердечный приступ». Но как можно проворонить сердечный приступ в кардиологическом отделении, где больные опутаны миллионами проводков?! Или сестры не следили за монитором?!
— Кардиомониторы сигналят в случае опасности, — кивнула Фредди.
— Может, его отключили? — предположила я.
— Или он был сломан, — всхлипнула Элинор.
— Об этом мы никогда уже не узнаем, — сказала Фредди, словно размышляя вслух.
— Меня просто трясет от мысли, что этот мистер Юбэнкс будет трогать Минервино мертвое тело, — выла Элинор.
— Слушай, ну что ты мелешь? — нахмурилась я. — Господи!
— Просто вырвалось. — Элинор снова высморкалась. — Не пойму, к чему вся эта кутерьма вокруг смерти. Почему нельзя просто вырыть яму и поскорее с этим покончить? Или был бы один-единственный вид гробов, а не десятки разных.
— Точно, — согласилась я, — это же гроб, а не вечерний туалет.
— Хочу, чтоб меня кремировали, — сказала Фредди. — Мое тело превратится в горстку пепла, а Сэм развеет ее над океаном. — Она подняла руку и сделала вид, что рассеивает воображаемую золу.
— Прах, прах, прах, — пропела я, — им мы были, им и станем.
— Слушай, может, ты все-таки заткнешься? — Элинор сощурилась. — «Прах», елки-палки! Не таким вертопрахам, как ты, рассуждать о нем.
Я решила не отвечать. Ведь я-то знаю: в этих вспышках ярости у нее выражается горе. Мне вдруг вспомнились похороны в Нашвилле, проходившие в синагоге на Уэст-Энд-авеню. Покойник водил дружбу с моим тогдашним хахалем, так что мне было не отвертеться. Там интересно молились над покойным, а гроб был совсем простой, украшенный лишь звездой Давида. Тогда-то я и решила, что если уж ударюсь в религию (правда, это маловероятно), то пойду именно в синагогу. Только в тамошних похоронах и был какой-то смысл: не то что здешние, где надо выбрать безвкусный, скверно окрашенный металлический ящик с пушистой тряпкой внутри. Все эти саркофаги напоминали мне убежища вампиров: вот розовый гробик с расшитым розочками пологом и кружевной подушечкой, а вот — белая моделька с блестящими хромированными ручками, как у холодильника «Фриджидер». Не понимаю, зачем так мучить родственников?! Я решила, что похоронный бизнес — мошенничество, и возненавидела Юбэнксов за их мерзкое ремесло.
— А как сейчас на старых родовых кладбищах? — спросила Фредди.
— Там слишком дорогие участки, — сказала Элинор. Она-то почем знает?
— Но когда-то это была отличная идея, — пробормотала Фредди, — собрать всю семью в одном месте.
Она отошла к какому-то пестрому гробу, который издалека казался огромной глыбой мороженого с шоколадной крошкой. Разглядывая его, она скрестила руки на груди и добавила:
— Родственники должны держаться вместе.
— Не могу не согласиться, — прошипела Элинор и бросила на меня ядовитый взгляд. Затем она вздернула голову: — Так что, ты по-прежнему собираешься в Техас?
— Да, — ответила я, хотя была в этом вовсе не так уж уверена. По правде говоря, я напрочь забыла про Техас.
— Когда? — Вид у нее был просто несчастный.
— Как только смогу сесть за руль.
— Значит, скоро. — Ее глаза наполнились слезами, и она вдруг схватила меня за руку: — Не уезжай, ну пожалуйста! Если останешься, обещаю, что буду печь наполеоны.
— Значит, скоро. — Ее глаза наполнились слезами, и она вдруг схватила меня за руку: — Не уезжай, ну пожалуйста! Если останешься, обещаю, что буду печь наполеоны. Я дам объявление в газету, и мы станем настоящей кондитерской. Можем даже сменить название на то, которое ты хотела: «Американские пирожные».
— Элинор, прекрати, — сказала я.
— Купим машину для варки эспрессо. Будем продавать острое: пироги с томатом и маринованный козий сыр. Только, ради бога, не уезжай! Хватит с меня одной этой потери!
— Закусочную по-любому надо обновлять, — ответила я, — и неважно, уеду я или останусь.
— Но одной мне это не осилить. У меня нет ни фантазии, ни желания.
— Слушай, я уезжаю, и точка. Свыкнись уже с этой мыслью. — И я поковыляла к Фредди, оставив Элинор среди дорогущих гробов.
— Предательница, — заорала она, — трусиха!
— И чего она надрывается? — спросила я Фредди. — Или ты тоже считаешь, что отъезд — это бредовая идея?
— Я? — Фредди закатила глаза. — Ты что, забыла, что твоя сестрица удрала в Калифорнию на «валианте» образца шестьдесят первого года?
— И вернулась в Теннесси на маршрутном такси. Н-да, не особо большой прогресс!
— И не говори. — Она провела пальцем по похожему на мороженое гробу. — Я тут стою и думаю, что бы со мной было, если б умер Сэм. Если б я знала, что уже никогда его не увижу Он хоть и веган, но готовил мне бутерброды с салями и горчицей и подавал их прямо в постель.
— Небось потом от тебя так эротично несло колбасой! — подколола ее я.
— А еще он угощал меня свежесваренным кофе с карамелью, — хмуро продолжала она.
— А как же блондиночка? — Я не сводила глаз с гроба. В нем лежала тщательно взбитая подушечка, расшитая ландышами. На специальной табличке было указано, что матрас на пружинах, словно мертвецу это важно.
— Я просто забуду о ней, — сказала Фредди.
— Если б не Джексон, это было бы труднее, а?
— Пожалуй, — пробормотала она, задумавшись.
— А что же будет с нашим милым доктором? Снова оставишь его с разбитым сердцем? — Я и сама поморщилась от этого вопроса, но промолчать не могла: я просто умирала от любопытства.
— О господи, — сказала она, а затем вытащила свой платок и промокнула глаза.
— Вот такое дерьмо наша жизнь. — Я обняла ее, опираясь здоровым бедром о ходунки.
— Да уж, — кивнула она, сморкаясь, — чтоб ее!
В конце концов мы сошлись на модели № 15. Гроб был облицован орехом, и нам бы он был не по карману, не вооружись мистер Юбэнкс калькулятором и не составь для нас вполне гуманный план оплаты в рассрочку. В результате мы заказали весь набор, включая ткань для обивки. Мистер Юбэнкс пояснил нам, что это очень важная деталь. Дешевые ткани пропускают воду, а мы не желали, чтоб Минерва там мокла.
Внук мистера Юбэнкса вынес меня из подвала, но на этом поход не окончился. Какая-то худышка с глазами навыкате потащила нас в зал, где пахло пережаренным кофе и окурками. Она протянула нам целую кипу буклетов и список, по которому мы должны были выбрать текст объявления о смерти, музыку для похорон, команду несущую гроб, и священника. Памятуя, как Минерва обожала Шона Коннори, я заказала игру на волынке. Было бы отлично, если б они исполнили «Дивную благодать».
— На волынке? — переспросила худышка. Она так отшатнулась, словно я предложила что-то непристойное, типа соревнования, кто громче пукнет.
— Мы шотландцы, — пояснила я.
— Мне казалось, вы родились в Таллуле, — сказала она.
— Мне казалось, вы родились в Таллуле, — сказала она.
— Она хочет сказать: шотландцы по происхождению, — вставила Фредди.
— Да нет же! Минерва родом из Техаса, — возразила Элинор.
— Но в роду-то у ней были какие-то шотландцы, — не сдавалась я.
— Ага, ее девичья фамилия — Мюррей, — кивнула Фредди.
— Ой, чуть не забыла! — вскочила вдруг Элинор. — Мне нужно отправить телеграмму.
— Кому? — опешила я. — В Маунт-Олив же никого не осталось.
— Мне пора, — невозмутимо объявила Элинор. Чуть крякнув, она подняла свою сумку и потащилась к выходу.
— А может, все же выберете орган? — подсказала пучеглазая худышка, испугавшись, что мы отвлеклись. — У нас есть просто отличные записи. Думаю, там найдется даже гимн «Дивная благодать».
— Нет, я хочу волынку, — уперлась я, — хочу нормальные шотландские похороны.
— О, разумеется, я постараюсь. Но боюсь, на это потребуются дополнительные расходы. — Она собрала свои буклеты, и наше совещание подошло к концу. — Я позвоню в колледж, быть может, им удастся что-то откопать.
— Копайте-копайте, — прошипела я и чихнула в свой платок, — это-то вы хорошо умеете.
ФРЕДДИ
На следующий день в шесть вечера начался «прием» — торжественная церемония, которую в Таллуле проводят по любому случаю, будь то свадьба, похороны или коктейльная вечеринка. Перед похоронами безутешные родственники превозмогают свою боль и веселят ватагу гостей, словно на званом обеде. Я с ужасом ждала этого нашествия. Уже за час до начала в зале прощания толпились смутно знакомые личности. Они приходили по одному или парами в лисьих полушубках и шляпках с вуалями, с огромными кожаными сумками под мышками и в ортопедических ботинках. Дамы шествовали к гробу, а Элинор или я выходили их «принять». Крышка гроба была открыта, словно створка ракушки-жемчужницы. Розовый свет, идущий с потолка, мягко озарял Минерву. Такие же лампочки используют в универсамах для мясных прилавков, чтобы цвет жареных ребрышек казался более насыщенным. На Минерве были перламутровые сережки и ее любимое воскресное платье голубого крепа с белым воротничком и манжетами. Несмотря на то что в церковь она ходила лишь изредка, в выходные неизменно разносила угощение и навещала каких-то новых вдовиц.
Обсыпанные пудрой старушки то и дело целовали мне щеки, источая ароматы «Шанель» или «Уайт шоулдерс». Все это походило на чинный светский ланч, только без куриного салата и мятных лепешек. Гости усаживались на металлические стулья, делали вежливые мины и принимались сплетничать. Тихими и ласковыми голосами они умоляли меня рассказать о событиях последних десяти лет: о медицинском колледже, Сэме, китах. Затем они вытаскивали фотографии деток и внучков, но мне было нечего показывать. Я уже лет сто как не ношу с собой сумку.
Элинор притулилась в переднем ряду, понурив голову. Джо-Нелл сидела возле нее, держа свои железные ходунки наготове. Вызывающе вздернув подбородок и скрестив руки, она болтала с одним из своих докторов. Не дожидаясь, пока меня окружит новая стайка старушек, я обошла горшок с папоротником, вышла за дверь и уставилась на зловещую винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. Здание похоронного бюро построил тот же архитектор, что строил Хермитеж, но теперь оно пришло в упадок. На полу лежал косматый красный ковер, под которым скрипели шаткие деревянные половицы. Случайно коснувшись стены, я почувствовала что-то мокрое и скользкое, словно старинные тисненые обои кто-то испачкал пахтой.
Я было направилась на улицу, но толпа упорно теснила меня обратно к гробу. По пути я налетела на пожилую библиотекаршу, мисс Уимберли, некогда зорко следившую, чтобы я выбирала правильные книги.
Потом я поболтала с сестрами Холлоуэй, старушками семидесяти пяти и семидесяти семи лет, Минервиными соседками по Церковному ручью. Друг к дружке они обращались «дорогая моя» и носили одинаковые платьица. Еще я перекинулась парой слов с Джорджией Рэй Толливер, хозяйкой бензозаправки на шоссе № 70. На ней был засаленный комбинезон и бейсболка, надетая козырьком назад. А лица гостей все плыли и плыли, то знакомые, то не очень.
— Минерва выглядит просто замечательно, — говорило одно из лиц.
— И так умиротворенно, — соглашалось другое.
— При этом у нее отличный румянец.
— Вы что, так и похороните ее прямо в перламутровых серьгах? — спросила Джорджия Рэй Толливер.
У горя есть одна хорошая особенность: оно притупляет чувства, действуя словно ударная доза новокаина. И все же, когда мой взгляд устремлялся к Минерве, мне казалось, что я вот-вот не выдержу. Да как мне жить в этом мире, когда тебя больше нет? Как я не догадалась, что ты умираешь?!
Затем подошел наш кривоногий сосед Феликс Фергюссон, отставной профессор биологии, всюду трубивший о своем анархизме. Мне всегда казалось, что Феликс неравнодушен к Минерве, но, будучи редкостным занудой, не решается ей об этом сказать.
— Ваша бабушка станет нашей легендой, — произнес он со странным, псевдобританским акцентом, который популярен среди тех южан, что провели всю жизнь в маленьких городках при колледже. — Так и вижу, как она снует со своими кастрюльками, и в слякоть, и в дождь, и в снег. Поверьте мне, деточка, американская почтовая служба ей и в подметки не годится!
— У нее было доброе сердце, — сказала я, покосившись на гроб.
— Таких, как она, больше нет. А как она обожала вас, своих внучек! Даже сгребая листья в саду, нет-нет да залезет в карман и вытащит вашу фотокарточку из Мексики. Как она гордилась своей Фредди!
Я срочно опустила лицо и вытерла глаза.
— А главное, — продолжал он тараторить, — она безумно любила стряпать. Могла наготовить хоть на целый полк. И, хоть она и не была математиком, никто, кроме нее, не умел так ловко соблюдать пропорцию, стряпая в три, а то и в четыре раза больший объем, чем в рецепте.
Он наклонился ко мне и, покосившись на Элинор, прибавил просто заговорщицким тоном:
— Никому не говорите, но Минерва порой сомневалась в кулинарных талантах Элинор. Морковный торт этой девочки ее очень беспокоил. «Он слишком жирный, Феликс, — говорила она, — ей надо бы класть в него бурый сахар, а так крем отвратительно жидкий».
— Элинор взяла этот рецепт из «Гурме», — заметила я.
— Тогда ей надо подать на них в суд, — закатил он глаза, — или, по крайней мере, отказаться от подписки.
И он посеменил к Элинор и Джо-Нелл, а я продолжала жать руки и улыбаться. К вечеру толпа заполнила весь зал и часть коридора. В конце концов стало так жарко и душно, что распорядитель похорон, мистер Юбэнкс, открыл парадную дверь настежь, и в переполненном помещении повеяло холодным ночным воздухом. В этот момент ко мне подкралась Мэри Джун Кэрриган. Задумчиво оглядев Минерву она кивнула в сторону Джо-Нелл.
— Вот ведь бедняжка! А ведь была такой миленькой. Она хоть когда-нибудь сможет ходить?
— Она уже ходит.
— Ну, в смысле, без этой железной штуковины, — Мэри Джун аж наклонилась вперед, вся скривившись от сострадания. — Говорят, она специально въехала в тот поезд, прямо как та русская дама, Анна Карен.
— В смысле Каренина? — спросил ее Джексон, подходя к нам.
— Да, кажется так.
— Но Анна Каренина вроде бы прыгнула под поезд, — улыбнулся он.
— Так ты ее знал? — уставилась на него Мэри Джун.
— Но Анна Каренина вроде бы прыгнула под поезд, — улыбнулся он.
— Так ты ее знал? — уставилась на него Мэри Джун. Я заметила, что у нее маленькие, низко посаженные ушки и веснушчатая шея.
— Не лично, — заверил Джексон. В его голосе не было и тени иронии. — Я прочитал об этом в книге.
— Так она еще и книгу написала?! — Мэри Джун замотала головой. — И все-то теперь строчат автобиографии.
— Ты на меня не обидишься, если я на пару минут разлучу вас с Фредди? — Джексон говорил настолько галантно, что Мэри Джун, похоже, была даже польщена.
— Ну разумеется, нет. — Она одарила его сияющей улыбкой. — Вовсе нет.
Он провел меня через коридор, и мы встали у окна. Народу уже было столько, что опоздавшие толпились на крыльце. Накрапывал дождик, а в сточных канавах начинал клубиться туман. В аванзале стояло желтое пианино, на котором миссис Руби Киффер наигрывала «Скалу веков». Эта дама была своего рода таллульской традицией: ни одна свадьба и ни одни похороны не обходились без ее музыки. Я взглянула на нее и с удивлением подумала, что кожа над ее локтями болтается, словно кружевная оборка. К сидевшей у гроба Элинор сбежались старушки, а Джо-Нелл говорила со своей бывшей тренершей по волейболу, стриженой рыжеволосой спортсменкой с мощными икрами.
Я вздохнула и обернулась к Джексону. Он обнял меня и сказал:
— В жизни не видел таких многолюдных похорон. Кроме, пожалуй, похорон Бо Бейли.
— Кто такой Бо Бейли?
— Сенатор штата, спрыгнувший с небоскреба страховой компании года четыре назад.
— Зачем он это сделал?
— Чтобы избежать налогов, — пояснил Джексон.
— Не легче ли заплатить?
— Он задолжал что-то около пяти миллионов.
— Боже мой.
— Вот и я сказал то же самое: «Боже мой». Может, стоит выстроить всех в очередь, чтобы не было такой толчеи?
— Но Джо-Нелл не сможет долго стоять, а без нее никак.
— Ее можно посадить на стул. Просто скажи мне, и я все сделаю. — Его рука скользнула к моему плечу. Я посмотрела в окно.
— Народ все еще подходит, — проговорила я устало и невольно подумала, что одним угощением такой любви не завоюешь. На Дикси-авеню остановился черный джип, из которого вышел мужчина в синей эскимосской парке и очках в железной оправе. Он откинул капюшон, и я увидела коротко остриженные волосы цвета светлого хереса. Вздрогнув от неожиданности, я отпрянула от Джексона и принялась ерошить свою шевелюру.
— Это Сэм, — пробормотала я.
— Ты уверена? — Он выглянул в окно, а я стала пробиваться к выходу, распихивая мужчин в черных костюмах и то и дело извиняясь.
— Фредди, погоди! — крикнул Джексон, но я уже выскочила за дверь и сбежала по цементным ступенькам, а Сэм шел ко мне кирпичной дорожкой. Он остановился, и я кинулась к нему на шею, вдохнув хорошо знакомые запахи одеколона «Арамис» и морской воды. Он откинулся назад и поднял меня в воздух, и я поняла, как стосковалась по его дыханию, губам, объятиям.
— Твоя сестра Элинор прислала мне телеграмму, — сказал он.
— Элинор? — опешила я.
— Я мог приехать и раньше. Почему ты не звонила?
Хороший вопрос. Будь я посмелей, честно бы призналась, что так было удобнее. Но вместо этого я сказала:
— Думала, что ты не сможешь приехать. У тебя же столько работы, и потом, ты ненавидишь похороны.
— Да, но… Я же знаю, как ты любишь Минерву, и не могу не поддержать тебя в такую минуту. — Он прижал меня к себе. — Мне так жаль.
— Мне так жаль.
— Она умерла неожиданно.
— Да, я понимаю.
— Что ж ты не позвонил?! Я бы заехала за тобой в аэропорт. — Мне страшно хотелось расплакаться, и я сделала глубокий вдох. В его волосах искрились капли дождя, сиявшие, как блестки фольги. Видеть его у похоронного бюро Юбэнксов, да и вообще в Таллуле, было настолько странно, что я все качала головой. Легкий ветерок раздувал его парку, а за спиной у него виднелось затянутое тучами небо, такое низкое, что почти касалось верхушек деревьев.
— Я взял в прокате джип. На шоссе были пробки, так что добирался ужасающе долго. — Он поцеловал меня и обнял за плечи. — Я так скучал по тебе.
— А как же Нина? — спросила я и обернулась к зданию похоронного бюро. Джексон стоял в дверях, вцепившись в дверной косяк. На миг наши взгляды встретились, но он тут же отвернулся и нырнул в толпу.
— Нина? — Сэм был явно озадачен.
— Не валяй дурака, я этого терпеть не могу.
— Что-то я не пойму. — Он отер с лица капли и покосился на меня. — Да, я скучал по тебе, но при чем тут Нина?
— Как-то ночью я позвонила в «Мирабель». Тебя в номере не было, зато была Нина. Сказала, ты только что вышел.
— Не Нина, а Татьяна.
— Кто?!
— Татьяна Янг. Я же рассказывал: она работает фотографом в «Нэшнл джиографик». Мы с ней смотрели слайды.
— Какие слайды? У нас же нет проектора.
— Она приносила свой. Должно быть, ты позвонила, когда она его устанавливала. Ну а Нина помогала мне перетаскивать слайды. Бог мой, там было штук пятьдесят ящиков.
— Я тебе не верю. — У меня закололо в глазах.
— Но это правда, миссис Эспай. — С минуту он разглядывал меня, а потом взял мою руку и поцеловал ее.
— Так ты не спал с ней? — У меня перехватило дыхание.
— Нет. — Он снова вытер лоб.
— То есть у меня просто разыгралось воображение…
— Не у тебя. — Он отвел взгляд в сторону. Дождь лил уже гораздо сильнее. — Скорее, у Нины. Она страшно назойлива.
— Она подъезжала к тебе?
— Раз пятьсот.
— И?..
— Я честно объяснил ей, что люблю тебя.
«Боже мой, — подумала я, — что же я натворила?!» У меня задрожали колени, и я погладила его по щеке. Все это время я надеялась, что у него хватит силы воли и он не изменит своей клятве. Но при этом сама-то я изменила! У меня потемнело в глазах.
— Может, сядем на минутку в твой джип?
— Зачем?
— Я должна рассказать тебе кое-что о Джексоне Маннинге, — сказала я.
— Говори. — Он сжал мои руки.
— Давай лучше в машине. — Я двинулась в сторону улицы, но он удержал меня. Мой кулак оказался зажат между нами.
— В чем дело, Фредди?
— А еще лучше — поедем домой.
— Ты спала с ним. — Его глаза так и впились в мои зрачки. — Ведь так?
Я закрыла глаза, лихорадочно соображая, что же ему ответить. Затем отступила на шаг, и моя кисть оказалась на свободе. Прошло около минуты, прежде чем я наконец ответила:
— Да.
— О господи… — Сэм покачал головой, и, кажется, в его глазах сверкнули слезы. — Так ты любишь его? Потому что, если да, то…
— Я не знаю. — Я сощурилась и вдруг ощутила приступ бешенства. — А ты любил ту художницу? Ту, что питалась йогуртами?
— Это совсем другое.
— Почему, интересно?
— Нет, я просто не могу.
— Его взгляд заметался по сторонам, а затем он зашагал прочь.
— Сэм?
Он даже не обернулся и, перепрыгнув через лужу, выскочил на улицу.
— У тебя тоже был роман! — крикнула я ему вслед.
Сэм не ответил. Пройдя мимо джипа и ряда кирпичных домов, он скрылся в серой мгле. Я обернулась к похоронному бюро. На крыльце уже столпилось с десяток любопытных старушек, но я так злобно зыркнула на них, что они тут же попрятались обратно. Тогда я снова поглядела ему вслед. Дождь утих, и улица сверкала лужами, в которых отражались сперва желтые, а затем красные огни светофоров. Издалека доносился шум машин, а за спиной послышались звуки органа. Сэм был уже в самом конце Дикси-авеню. Прежде он ни разу не приезжал в Таллулу, а стало быть, брел куда глаза глядят. Мне хотелось догнать его, но я не знала, что ему скажу.
Я представила, как он свернет на Тарвер-стрит, пройдет мимо белых домиков с застекленными верандами, а затем выйдет на Спринг-стрит, где стоят нарядные особняки, выходящие окнами на бейсбольное поле колледжа. Дальше он понесется по Хэттон-стрит, мимо литой решетки с позолоченными лилиями. Возле городской больницы снова окажется на Дикси-авеню, названной в честь Дикси Хьюз, давно почившей дочери столь же давно почившего политика. Кажется, ее сбил поезд где-то в квартале от колледжа. Местное предание гласило, что она, только-только отъехав от женского общежития, стала махать какому-то парню и угодила под поезд, который тащил ее машину целых семьдесят футов.
Поднялся холодный ветер, но я боялась вернуться в здание. Платье Джо-Нелл на мне насквозь промокло и, скорее всего, было безвозвратно испорчено. Вдали я разглядела в тумане фигуру Сэма. Когда он поравнялся с последним домом, я подошла к краю дорожки. Он прошел целый круг, и я встретила его на полпути.
ДЖО-НЕЛЛ
— Терпеть не могу похороны! — прошипела я Элинор.
— Тс-с-с!
— Не могу и все!
По мне, похороны — все равно что великосветский прием. Гвоздь программы выставлен на всеобщее обозрение, словно запеченный в меду окорок; весь пропитанный парафином, этот окоченевший кусок мяса лежит среди хризантем и медных канделябров. «Да ни за что на свете! — думала я. — Когда там, в Техасе, придет мой смертный час, пусть меня просто зароют в землю и посадят надо мной дерево».
— Гляди! — Элинор указала мне на Джексона, который удирал через черный ход. Чтоб мне сдохнуть, вид у него был как у побитой собаки! С чего бы это? Видать, у Фредди предменструальный синдром. Или может, его вызвали к какому-то сопляку. Ну или попросту понос прошиб. Со мной был такой случай в «Кроуз нест», баре, выстроенном среди полей. В результате мне пришлось бежать до ветру куда глаза глядят.
— А что этот доктор так и вьется вокруг тебя? — вдруг выпалила Элинор.
— Который? — переспросила я.
— А то ты не знаешь! Доктор Ламберт.
— Клянется, что любит меня.
— Но он ведь женат, не так ли?
— Разумеется.
Элинор закатила свои желтые глаза.
— Видишь эту лягушечку? — показала я ей булавку у ворота куртки. — Это он мне подарил.
— Какая миленькая! — Она погладила лягушку по головке. — Карата двадцать четыре! Дашь мне ее поносить?
— Я заберу ее с собой в Техас.
— А как же твой ухажер?
— Говорит, что приедет меня навестить. — И я улыбнулась в кулачок, вспоминая, чем мы с ним недавно занимались в женском туалете. (Ходунки пришлось оставить у входа, прислонив их к стене.) К нам в кабинку неистово барабанили, а когда я наконец-то открыла дверь, мы нос к носу столкнулись с Сисси Олсап.
Она таращилась то на меня, то на Ламберта, а ее нижняя челюсть так и отвисла, обнажив целый ряд амальгамовых пломб.
— Возможно, я буду в Техасе даже раньше, чем планировал, — сказал мне потом Ламберт.
Элинор снова затрясла головой.
— Но если он так уж тебя любит, зачем ты уезжаешь? Ты же об этом мечтала.
— А плевать! Я страшно рада, что еду в Техас.
— Зато я не слишком рада. — Элинор ткнула меня локтем. — По-моему, ты просто свихнулась.
Тут до нас долетел взволнованный старушечий шепот, и я обернулась поглядеть, что стряслось.
— А кто это там с ее внучкой? — шипела одна из вдовиц. — Он что, родственник?
— Какой красавчик!
— Обожаю рыжих! И какой у него загар!
— Он что, работник солярия?
— Говорят, он из Мексики.
— Боже, неужто испанец?!
— Хм, на иностранца вроде не похож.
— Что? Фредди вышла за иностранца?
— Ну хоть кто-то из Минервиных девочек оторвал себе парня.
Эти вдовы — сущие гиены. Ненавижу их морщинистые шеи, шляпы с перьями и пожелтевшие ногти, похожие на птичьи коготки. Можно подумать, я себе никого не оторвала! Но тут я заметила свою сестренку: господи, что за кошмарный вид! Вся мокрая до нитки и с волосами, слипшимися, как у дворовой кошки. А рядом с ней шел красавец, каких у нас днем с огнем не сыщешь. Он тоже промок, а его медно-каштановые волосы были коротко острижены. С такого расстояния я не могла разглядеть, но, кажется, у него были голубовато-зеленые глаза. Черт возьми, да это же мой родственничек! Свояк — или как там его? Живьем я его ни разу не видала, а по фоткам, что присылала нам Фредди, было ни черта не понять. Я слышала, что у него голубые глаза и рыжие волосы, но, зная, что он ныряльщик, упорно представляла себе Ллойда Бриджеса в гриме к «Морской охоте». Видать, у сестренки проблемы с головой: такие мужики, как Сэм, на дороге не валяются, по крайней мере в Таллуле. Не будь я калекой, сейчас же понеслась бы к нему и попыталась охмурить. Хотя нет, вру. Я бы в жизни такого не сделала, тем более в зале прощания. Хоть злые языки и болтают всякий вздор, но у меня все же есть моральные устои.
Они подошли к гробу и поглядели на Минерву. Когда Фредди всплакнула, он обнял ее, и я заметила, что у парня мускулистые, накачанные руки, покрытые голубыми жилками. Просто класс! У моего первого мужа были точь-в-точь такие же руки, и на секунду мне вспомнилось, как я, восемнадцатилетняя вдова, сидела в этом же зале на панихиде по Бобби Хиллу. Гроб был наглухо закрыт, — все из-за чертовых арбузов, — но я потратила бешеные деньги и накупила ему кучу роз. Минерва и сестры тоже скинулись и заказали в цветочном магазине огромный футбольный мяч из хризантем. Все вместе смотрелось просто потрясающе, и более шикарных похорон я в жизни не видала.
— А где, интересно, Джексон? — спросила я Элинор. Жаль, конечно, что я еду в Техас и не смогу его утешить.
— Тс-с-с, дай поглазеть на Фреддиного мужа. — Она аж разинула рот. — А я и не знала, что он рыжий.
— Я бы сказала, золотисто-рыжеватый.
— Пожалуй, — покосилась она на меня, — ладно, согласна. Он прехорошенький. В смысле для мужчины.
— Что правда, то правда, — пробормотала я, глядя, как Сэм идет вслед за Фредди в первый ряд. Позади нас перешептывание переросло в настоящий гвалт: всем старушенциям хотелось взглянуть на «дерзких и красивых» сестер Мак-Брум.
— Джо-Нелл, Элинор, — сказала Фредди, подходя к нам, а затем улыбнулась своему красавцу. — Это мой муж, Сэм.
Дождь лил все похороны и лишь после речи брата Стоуи слегка утих.
Дождь лил все похороны и лишь после речи брата Стоуи слегка утих. Я стояла под малиновым тентом со штампами «Похоронное бюро Юбэнксов». На мне были темные очки и черное шерстяное платье старинного фасона, купленное на распродаже в «Гудвилле». Ничего более похожего на наряды Грейс Келли я при моих средствах добыть не могла. Волосы я зачесала на пробор, и они рассыпались по плечам золотистой гривой. Женщины города по-прежнему ненавидели меня, а после смерти Минервы выносить это стало еще тяжелее. Я держалась поближе к Фредди и Сэму, слушая стук капель по тенту и разглагольствования пастора о том, каким великолепным человеком была Минерва и как теперь ее ждет заслуженное воздаяние. В толпе промелькнул старина Джексон, и я позавидовала сестре, которую любят сразу двое мужиков. Всю прошлую ночь я не могла уснуть из-за похожих на стрекот кузнечика скрипов: Сэм и Фредди за стеной никак не могли угомониться. От этого я так завелась, что едва не позвонила Ламберту. В конце концов мне пришлось самой себе помочь: полночи я трудилась не покладая рук и в итоге, дрожа и задыхаясь, упала на горячую подушку. «Привыкай, — сказала я себе, — в Техасе тебя ждет долгий сексуальный пост. Надо сжать зубы и терпеть, ведь в Маунт-Олив гормоны придется обуздать».
За ночь потеплело, а после дождя повсюду была жуткая слякоть. Мои каблуки то и дело увязали в грязи. Но кладбище все равно было забито толпой провожающих, над которой топорщилось целое море зонтов. Под дождем эти людишки напоминали грибы с разноцветными шляпками: частью безвредные, частью — переполненные ядом. Выбирать надо было осторожно, моля Господа, чтоб не дать маху. В Техасе-то я спешить не буду. Правда, уехать я смогу не раньше чем через три недели: и доктор Грэнстед, и Джексон сказали, что ехать можно, только когда мои кости и кровь придут в норму. А Ламберт объявил, что мне лучше и вообще не уезжать. Но я уже обложилась картами Теннесси, Арканзаса, Оклахомы и Техаса и прочертила свой маршрут красным фломастером.
До отъезда мне предстояло сжечь за собой все мосты. Дел было навалом: дома накопилась уйма одежды, побрякушек, косметики и прочего хлама. Недаром же я — «материальная девушка»! Конечно, мои средства всегда были очень скудны, но такие, как я, всегда накопят барахла, хоть дорогого, хоть совершенно бросового. Теперь я решила избавиться от всего лишнего и даже открыла Элинор свой коронный рецепт лимонного пирога, без которого ей просто не создать кондитерской. Мне стало казаться, что после смерти от нас не остается ничего: ни вечной души, ни даже пятого измерения, благодаря которому можно являться живым в виде призрака. Остаются лишь шмотки: платья, книги, помады-румяна и колготки. Надо действовать как сестрица Фредди: она выбрасывает все, что не умещается в ее машину. Так что на деньги страховой компании я куплю себе «форд-эксплорер», причем обязательно красный.
Когда брат Стоуи изрек наконец «аминь», я снова поглядела на гроб, который стоял над могилой на специальном гидравлическом подъемнике.
— Ты идешь? — спросила Фредди.
— Сейчас-сейчас, — ответила я, — ступай вперед.
— Я тоже подожду, — сказал Сэм, и я подумала: «Родная моя, да тебе сегодня везет!» Снаружи дождь лупил по зонтам всех собравшихся. Я еще раз оглядела толпу в поисках знакомых лиц. Кивнув Грэнстеду с Ламбертом, я вдруг заметила зеленоглазого парня с льняными кудряшками и едва не провалилась сквозь землю.
— Джесси? — спросила я, искоса глядя на него.
— Привет, Джо-Нелл, — обрадовался он и пошлепал ко мне прямо по лужам.
Как только мы вернулись с кладбища, весь наш дом заполонили старухи. Штук пять этих зануд торчало на кухне, намывая стаканы и вилки, словно перед праздничным застольем. Остальные сновали вокруг стола вишневого дерева и расставляли на нем угощение.
Остальные сновали вокруг стола вишневого дерева и расставляли на нем угощение. Кто-то то и дело спрашивал: «А она положила шоколада в свой соус? Странно, а все равно вкусно». Сестры Холлоуэй раскладывали вилки, ложки, ножи и салфетки. Фредди стояла во главе стола и разливала чай со льдом. Сэм и Джексон держались по разным углам комнаты и настороженно переглядывались. Ну я-то такого конфуза не допустила (Ламберта я вовсе не пригласила, а Джесси велела быть паинькой).
Тут к нам с Элинор подошла Джорджия Рэй Толливер. Без засаленного комбинезона она смотрелась просто дико: на ней было красное хлопчатобумажное платье с узором из корабликов, а на ногах — белые туфли с открытыми носами, вышедшие из моды еще году в сороковом. Сочетание «вырви глаз», но, вероятно, это был ее лучший наряд.
Миссис Констанция Смайт притащила с кухни дымящееся блюдо — «пресловутое рагу из морепродуктов», как она с гордостью объявила. На ней было черное платье, шуршавшее при малейшем движении, как старый целлофан. Через пару минут в столовой воняло так, словно кто-то открыл протухший кошачий корм. Разумеется, это не ее вина: она же урожденная янки, приехавшая к нам то ли из Мэна, то ли из Массачусетса, где ни хрена не смыслят в морепродуктах. Добавь она хоть чуточку лимонного сока и приправ, этой вони бы не было, но Констанция в жизни никого не слушала: у нее же «своя голова на плечах». Ходят слухи, что в свое время земляки прогнали ее с севера поганой метлой. (И честно говоря, я этому верю.)
С кухни кто-то крикнул, что у нас кончились тарелки.
— А чтоб вымыть все это, понадобится дня два, — пробасила Джорджия Рэй Толливер и полезла в карман. — Вот что, Элинор, на тебе двадцать баксов и езжай-ка ты в «Винн-Дикси». Накупишь там бумажных тарелок и стаканчиков.
— Я? — Элинор прямо позеленела. — Нет, я не поеду. Я слишком убита горем. Едва я сяду за руль, как тут же во что-нибудь врежусь.
— Езжай. Тебе полезно проветриться, — сказала Джорджия.
— Нет, не поеду. — Теперь она побледнела как полотно.
— Держи. — Джорджия все совала ей деньги.
— Нет, убери их. — Элинор оттолкнула банкноты. — Я же сказала: никуда не поеду.
— Я бы сама съездила, но мой грузовик сломался. А ваш фургон стоит перед домом и на ходу.
— Ну так езжай на нем, — уперлась Элинор.
— Я разогрею цыплят. Смотри, сколько голодных гостей.
— Ладно-ладно, — вздохнула Элинор, — Джо-Нелл? Поедешь со мной?
— Солнце мое, куда я поеду?! Я же калека!
— Езжай-езжай, — повторяла Джорджия, пихая ей деньги, — свежий воздух пойдет тебе на пользу.
— Но там же дождь, — хныкала Элинор.
— Да езжай уже, в конце концов! Не то схлопочешь пенделя!
Когда она наконец побрела к машине, вцепившись в свою огромную кошелку, я стала потихоньку пробираться в столовую. А вы думали, с ходунками можно бегать сломя голову?! Гостей собралось — не протолкнешься. Странно, конечно, когда в доме орудует ватага старух, но ради Минервы я была со всеми приветлива. Наш стол уже ломился от всякой всячины. Вспомнив, сколько еще осталось в холодильниках, я просто ахнула: «Куда же Элинор все это денет?» Сама я не бог весть какой едок: предпочитаю смотреть, как едят другие. В отношении мужчин Минерва нам всегда советовала: «Главное, девочки, смотрите, как он ест».
На тарелке у Джексона была кошмарная мешанина: куриная ножка, шоколадный торт, яичница с пряностями, мясо, тушенное в горшочке, салат с макаронами и колбасой, кукурузная запеканка, белый бисквит, пареные фрукты под соусом карри, картофельный салат и даже «пресловутое рагу из морепродуктов».
У Сэма на тарелке лежала порция зеленого салата с помидорами, из которого он тщательно вытащил весь сыр, а также маринованные грибы, мандарины, яблочный мусс, сырая брокколи, морковь, цветная капуста и немного молодого картофеля в мундире. Я постаралась сделать вывод об их характерах: один из них педантичный и последовательный, возможно, весьма предсказуемый, но уж точно целеустремленный; другой — непривередливый и простой, готовый лопать хоть собачий корм.
Эта гипотеза вскоре подтвердилась. К Джексону подсела Констанция Смайт и безжалостно потребовала сказать, как ему нравится рагу. Он глянул на стол и понял, что к этому блюду больше никто не притронулся; его же порция, тоже нетронутая, лежала перед ним на тарелке. Подцепив вилкой кусочек, он запихнул его в рот и выпучил глаза.
— Просто вкуснятина, Констанция, — выдавил он и, с трудом проглотив это лакомство, прикрыл глаза.
— Все, что останется несъеденным, — пообещала Констанция, — можешь забрать себе.
— Нет, не надо, — ужаснулся он.
— Я настаиваю, — Констанция возвысила голос, — это слишком дорогое кушанье, чтобы его просто выбросить. И будет очень хорошо, если его доест врач.
«Так тебе и надо, — подумала я, — нечего расхваливать такую отраву». Я понадеялась, что Фредди не слишком углубилась в разливание чая и все заметила.
Я удалилась в гостиную, надеясь хоть там спастись от сложного букета из запахов духов и плавленого сыра, а также вони крабов и морских гребешков. Мэри Джун Кэрриган и Сисси Олсап обсуждали новинки липосакции. Джексон спрашивал Сэма, бывают ли в Нижней Калифорнии киты-убийцы. Феликс Фергюссон рассказывал Джорджии Рэй Толливер о курьезном черве, которого он раскопал в компостной куче. Сестры Холловей диктовали Фредди рецепт французского хлебца «Гран марнье». А зеленоглазый ковбой толковал мне про Техас.
— Сам я из Остина, — говорил он, — и бывал на состязании ковбоев в Амарилло. Еще был в Хьюстоне, Одессе, Дентоне. Знаю даже, где находится Маунт-Олив.
— Правда? — изумилась я и внезапно оробела. На глаза мне неожиданно попалась его тарелка: куриная грудка, картофельный салат, бобы, два печенья да кусочек лимонного пирога.
— Возможно, я совершаю большую ошибку, — пробормотала я, — отправляясь в Техас совсем одна.
— О, если тебе нужен попутчик, ну там помочь с костылем или вроде того, я с радостью поеду с тобой. Мой брат Гордон объезжает лошадей под Вако. Я бы заодно и его проведал.
— Спасибо, но я уже все распланировала. Но если заедешь в Маунт-Олив, обязательно заглядывай в гости.
— Нет проблем. — Его зеленые глаза так и загорелись, и у меня екнуло сердце. — Гордон то и дело просит помочь ему. Я ведь люблю лошадей, да и по Техасу скучаю.
Капельки пота уже выступили у него на лбу и на верхней губе. Он промокнул их салфеткой и застенчиво покосился на меня, опасаясь, что я все заметила. Мое сердце снова екнуло.
— Я буду жить там на ранчо, — сказала я, — на ранчо с персиковым садом. Точнее, я и сама еще не знаю.
— Жизнь там совсем другая, — сказал он, накладывая себе еще картофельного салата, — но хорошая. Просто класс.
— Расскажи-ка мне о Техасе, — потребовала я.
— О чем именно?
— Да обо всем, — ответила я и, улыбаясь, заглянула ему в глаза.
ЭЛИНОР
Я встала на стоянку у «Винн-Дикси», но мотор выключила не сразу на случай, если придется удирать. По радио передавали песню Линды Ронштадт «Бедная я, несчастная». Я подумала, что эта песня в точности про меня: про женщин, падающих на железнодорожные рельсы, и мужчин, готовых измельчить всех нас на мясорубке.
Хотя, с другой стороны, песня была скорее про Джо-Нелл. Прежде чем выключить наконец мотор, я внимательно огляделась. Идти в магазин я ужасно боялась, особенно после похорон и прочих волнений. Женщины, дети и старики как ни в чем не бывало входили в «Винн-Дикси» и выходили на улицу. Возле музыкального киоска совсем молоденькие девчонки болтали с парнями в военных куртках. Волосы малолеток были завязаны в хвостики. «Так вот где теперь назначают встречи», — сказала я себе. В наше-то время люди встречались возле площади. Помню, как мы ездили в город с мамой и Минервой. Мы останавливали машину у «Кунс» и смотрели на снующий мимо народ. Весь день к нам подсаживались разные тети и рассказывали все новости: кто приболел, кто сдурел. А теперь центр города переместился к «Винн-Дикси»: здесь можно раздобыть и молодую брокколи, и видеокассету, и свежайшие сплетни.
Мне было ужасно тяжело. Я уже очень давно не езжу за покупками одна, лет семь, наверное. Я закрыла глаза. «Минерва! — взмолилась я. — Если ты смотришь на меня с небес, подай какой-нибудь знак. Аминь!» Затем я выбралась из фургона и пошла, помахивая сумкой, как делают все молодые красотки. Из-за кирпича она была довольно тяжелая, но я сказала себе, что это укрепит мои мышцы. Шла я быстро и впервые в жизни радовалась, что у меня такие длинные ноги. Я уже подходила к электрическим дверям, когда чья-то ручища вдруг схватила меня за локоть. Эта лапа так сильно рванула меня назад, что я потеряла равновесие. Отскочив назад и расставив ноги, я развернулась и наконец увидала, кто на меня напал. Я тут же узнала его: тот самый тип, которого я видела у «Кей-Марта». На нем была все та же затасканная шапочка из рыжей шерсти. У мерзавца были зеленые глаза, усы, взъерошенные светлые волосы, противный запах изо рта и грязные руки. Я постаралась поточнее затвердить все приметы, чтобы потом описать его, точь-в-точь как полицейские описывают всяких убийц в программе «Уголовный розыск».
— У меня пистолет, — сказал этот гад и полез в карман, — а ну, давай свою сумку!
— Нет! — завопила я и кинулась наутек, стараясь бежать зигзагами на случай, если он в меня выстрелит.
— Ах ты, толстая сука!
— На помощь! — заорала я, но тут же вспомнила, что как раз этого кричать нельзя. Гораздо разумнее голосить «Пожар!» или «Утечка газа!». Подвернув ногу, я упала наземь и ободрала коленку, а сумка тем временем пребольно ударила меня по бедру. Обернувшись, я увидела, что грабитель бежит прямо на меня. Мне удалось подняться на ноги и замахнуться сумкой. Я ударила вслепую. Сумка угодила ему прямо в голову, и послышалось пугающее «бум». Грабитель пошатнулся и ощупал лицо. Его рука снова потянулась к карману с пистолетом. Я поняла, что он хочет пристрелить меня, но, черт возьми, я бы ни за что не допустила, чтоб моим сестрам пришлось раскошеливаться на вторые похороны.
— Ты! — завизжала я и огрела его сумкой по руке. — Ты!
Грабитель осел на корточки, а я снова замахнулась и влепила ему прямо по кадыку. Тут уж он упал навзничь, прямо на мостовую. Его веки задрожали, а из горла вырвался стон. Нагнувшись над ним, я плюнула прямо на его поганый нос. Потом, когда подбежали полицейские, я показала им свой кирпич, который от ударов разломился на две половинки. Они сказали, что я просто молодец, настоящая героиня.
— Стало быть, моя фотография попадет в газету? — спросила я.
Когда я вернулась домой и рассказала всем свои новости, меня уже била дрожь. Я опрокинула стакан холодного чая себе на блузку, и гостьи засуетились вокруг меня, стараясь оттереть пятно бумажными полотенцами. Видимо, до меня только-только дошло, что я сделала, и слава местного борца с преступностью обрушилась на меня всей тяжестью.
Видимо, до меня только-только дошло, что я сделала, и слава местного борца с преступностью обрушилась на меня всей тяжестью. Я сунула Джорджии Рэй бумажные тарелки и стаканчики.
— Смотри не потеряй голову от этого кирпича, — сказала она мне.
— Уж лучше побереги от него свою голову.
— Ха, мне-то ничего не страшно! Я умею за себя постоять: при мне мои кулаки и мое мужество.
— Вот этого в тебе с избытком.
— Знаешь, я тут все смотрю на твою сестренку Фредди. Пока она была маленькой, я была уверена, что из нее вырастет уродина. Но она теперь просто куколка! Такая упругая попка, такие сиськи — так и топорщатся под свитером! А глаза карие и большущие, как у Мэрайи Кэрри. Я постоянно слушаю ее песни — в смысле Мэрайи Кэрри, а не Фредди, — она рыгнула, и пара старушек удивленно приподняли брови. Джорджия свирепо уставилась на них: — На что пялитесь, стервятницы?
Они тут же засеменили прочь, унося посуду на кухню, а Джорджия снова рыгнула.
— Ненавижу Констанцию Смайт. Ведь богачка, а по виду не скажешь. И это при таком-то капитале! От таких денег ум за разум заходит.
— Готовить она не умеет, — вставила я.
— Да мало ли чего она не умеет. — Она сощурилась. — А что там с малышкой Джо-Нелл? Неужто едет в Техас?
— Едет, — вздохнула я и пожала плечами.
— С ума сойти. И какая муха ее укусила?
— Ей надоел наш город. Надоело, что все местные сочиняют о ней небылицы.
Это было сущей правдой. Из-за того что моя сестренка красит ногти в необычные цвета (например, в синий), весь город судачит о ней почем зря. Особенно обиженные жены.
— Решила перевернуть всю свою жизнь? — Вид у Джорджии был перепуганный.
— Похоже на то.
— Бедолага. Она напоминает мне подержанную «тойоту»: пробежала многовато дорог, побывала в переделках, но мотор по-прежнему исправен, да и корпус в полном порядке. — Джорджия фыркнула. — Да неужели же она уезжает?!
Мне хотелось сказать ей что-то вроде: «Не переживай, мне без нее будет еще хуже, чем тебе. Меня ведь все покинули». Но мой подвиг так утомил меня, что я извинилась перед гостями и поднялась наверх. В своей комнате я улеглась на кровать и уставилась в потолок. Минерва умерла, а мои сестры уезжают за тридевять земель. Сама я никуда не поеду, но все же мне удивительно повезло: у меня много друзей. Правда, так получилось, что многим из них уже за семьдесят, но это неважно. Быть может, кто-нибудь из подружек поселится со мной (если это не запрещено). Быть может, я найду в себе силы жарить цыплят и отвозить их больным домоседкам. Конечно, один-единственный кирпич не способен перевернуть мою жизнь, но, может, с него начнутся какие-то перемены.
— Элинор! — Это был голос Джорджии. — А ну-ка вали сюда, да по-быстрому. Пришли газетчики, хотят сфотографировать тебя.
Я прямо подскочила на кровати. Выбежав из комнаты, я с грохотом слетела вниз. Джорджия, осклабившись, стояла у подножия лестницы.
— А ты не шутишь? — выпалила я.
— Нет, черт меня побери! — И она мотнула головой в сторону входной двери. — Не заставляй их ждать.
Я прижала руку к забившемуся сердцу и пошла к двери.
— Эй, Элинор!
— Ну что? — я обернулась.
— Смотри не забывай нас, простых смертных, — сказала она, — тех, кто терпел твои выходки еще до того, как ты стала знаменитостью.
— Ладно, — сказала я, обнимая ее, — не волнуйся, я вас не забуду.
ФРЕДДИ
За день до моего отъезда из Таллулы Сэм повез Элинор в «Эйс хардвер».
Не прошло и минуты, как на крыльце появился Джексон. Он протянул мне букет жонкилий, завернутый в зеленую оберточную бумагу.
— Ты одна? — Он нервно оглядел комнату.
— Нет, Джо-Нелл сидит наверху. — Я понюхала цветы, а затем посмотрела в сторону лестницы. На магнитофоне Джо-Нелл надрывалась Мелисса Этеридж. Дома, в Дьюи, я обычно слушаю Вивальди и готовлю под него всевозможные салаты с вермишелью: туда идут лук, петрушка, чеснок, грибы шитаки, красный перец и соус «Лингуин».
— Вообще-то, я и сам знаю, что Сэм уехал, — сказал Джексон, — я припарковался на вашей улице и ждал его отъезда.
Я молча смотрела на него.
— Только не злись, а выслушай меня. Мне было просто необходимо увидеть тебя, и другого способа не было. Пришлось сидеть в засаде. А он надолго уехал?
— Не знаю. Он повез Элинор в магазин скобяных изделий.
— Зачем?
— Она нервничает, что останется одна, так что он ставит ей замки на окна и двери.
— Одна? А разве Джо-Нелл куда-то переезжает?
— Она едет в Техас.
— Зачем?
— Там есть дом в Маунт-Олив. Перешел к нам от Минервы.
— А ты сама? — Он пытливо вглядывался в меня. — Тоже собираешь вещи?
— Да, беру кое-что. Лоскутные одеяла, детские фотографии. Минервины полосатые стаканы. Сервизы — «Фиеста» и зеленый, купленный в годы депрессии. И даже пару мини-юбок Джо-Нелл. — Я понимала, что тараторю как заведенная, но остановиться просто не могла. — Представляешь: у меня будут битком-набитые шкафы?!
— Не представляю, — рассмеялся он.
— Элинор сказала, что отправит все это через федеральную почтовую службу. Как думаешь, они ничего не разобьют?
— Думаю, все будет в целости.
— Забавно, покупки — это такая опасная штука. Чем больше вещей, тем больше волнений. — Я пожала плечами. — Гораздо легче вообще ничего не иметь.
— А у тебя теперь и посуда, и безделушки. — Он взял мою ладонь и провел своим пальцем по моим. — И что же теперь?
— Джексон, прости меня.
— За что? — он округлил глаза, а затем покачал головой. — Черт побери, не говори этого! Не смей так говорить, Фредди.
Я почувствовала, что слова застряли у меня в горле. Поверх его плеча я посмотрела на окно. Солнце стояло низко и светило прямо в глаза из-за старого пикапа Джексона. Я любила его и любила своего мужа. Наверное, я просто жадничала, а на самом деле не заслуживала ни одного из них. На втором этаже вдруг сменилась мелодия: Глэдис Найт и группа «Пипс» запели «Слухами земля полнится». Это был знак, что Джо-Нелл знает о моем госте. Я испугалась, что сейчас она начнет выискивать подходящие компакт-диски, стараясь направлять наш с Джексоном разговор. Если она поставит «На-на, хей-хей, целуй его и поскорей», мне придется подняться наверх и вышвырнуть магнитофон в окно.
— Думаю, я сам виноват. Ведь я, идиот, просто не давал тебе проходу. — Джексон криво ухмыльнулся и на миг стал просто копией своего отца. — Я знал, так все и будет, но надеялся на чудо. И что же, ты едешь домой? Покидаешь страну, где даже в туалете вода отдает магнолиями?
Я кивнула, теребя свою непослушную челку. Но про себя молила его: «Джексон, сделай так, чтоб этот день никогда не кончился! Чтоб звезды не вышли на небо, а солнце не зашло. Сделай так, чтобы прошлое исчезло, чтобы я никогда не отправлялась на Запад и не встретила там Сэма у Пойнт-Рейс».
— Господи, я бы все отдал, лишь бы ты не уезжала, — на миг он зажмурился, — ты бросаешь меня ради другого.
— Но он же мой муж.
— Да, для такой, как ты, этим все сказано. Он хоть знает про нас?
— Я ему все рассказала.
— Черт побери! — присвистнул он, а затем посмотрел в сторону лестницы. — И что он сказал?
— Он был расстроен, — вздохнула я.
— Неудивительно, — он покачал головой, — еще бы. Что ж, видимо, пришло время расстаться. Опять. — А знаешь, я вдруг понял, что сам во всем виноват, — прибавил он вдруг, — ведь это я научил тебя плавать. Помнишь? Черт, уж лучше б я родился китом.
— Твое сердце и так огромное, как у кита.
— Оттого-то мне так и трудно. — И он прижал меня к себе. Ощутив прикосновение его губ и терпкий запах его одеколона, я так и подскочила от захлестнувших меня воспоминаний. Моя коленка вдруг задрожала, словно в суставе сработала какая-то пружинка. Когда он отпустил меня, я отпрыгнула назад и, слегка покачнувшись, оперлась о перила лестницы. Как бы мне хотелось, чтоб у меня было две жизни: одна в Калифорнии, а другая — в Теннесси. Я уже начинала тосковать по сестрам, Минерве и Джексону; я тосковала даже по речному запаху, витавшему здесь. Со всем этим расставаться было больно, как с каждой вещицей из огромного багажа.
— Не забывай меня, Фредди.
— Тебя? Тебя мне не забыть. — Я скрестила руки, обхватив себя. Моя собственная грудная клетка показалась мне вдруг очень хрупкой, словно вместо ребер у меня были побеги бамбука. — Такие, как я, не забывают, ты же знаешь.
— Вот и не забывай, — сказал он, дотронулся до моей руки и круто развернулся. Пройдя по скрипучим половицам, он вышел за дверь и сбежал с крыльца. В два прыжка он миновал каменистую дорожку, забрался в свой пикап и уехал.
Мы были уже у западной оконечности Тихого океана, когда «Сессна» наконец-то вынырнула из облаков. Я посмотрела вниз сквозь пыльное окно. При виде лагун Герреро-Негро и Скэммонса мое сердце учащенно забилось. Я всегда понимала, что киты — самый веский аргумент в любой ситуации и могут восстановить мое равновесие при любом раскладе. На воде была рябь, но не из-за бури, а из-за китов. Сэм передал мне бинокль, и я стала считать их фонтанчики. Они били прямо из океана, точно гейзеры. Еще студентами в Скриппсе мы залезали на крутую, обшитую досками крышу Риттер-Холла и считали мигрирующих китов.
Наблюдение за китами, как и все остальное в моей жизни, было сопряжено с немалым риском. Пару лет назад в Сан-Игнасио киты так били хвостами по воде, что море словно закипело, и все это буквально в нескольких ярдах от фотографа. В другой раз нечаянный удар китового плавника переломал аквалангисту все ребра и подбросил его вверх, как игрушку.
— Ты только посмотри на это! Да их там сотни! — пилот крякнул и почесал причинное место. Это был американец, работавший на полставки в «Аэро Калифорния». — Я езжу на переписи этих зверюг с семидесятых годов, с самого возвращения из Вьетнама, — сообщил он нам. — А вы знали, что в Библии киты названы первыми из животных?
Я сомневалась, что это так, но кивнула. До меня словно донесся Минервин голос: «Милые мои, кое с чем не стоит спорить, а лучше просто согласиться». Ну а Джо-Нелл бы хихикнула: «Не спорь с ним, как-никак он — пилот». Тем временем он глядел сквозь забрызганное стекло на подернутую рябью воду.
— А какие из китов умеют петь? Эти умеют?
— Нет, — ответил Сэм, — только гладкие киты поют своим детенышам.
— А тут такие есть? — Пилот уставился на нас, разинув рот.
— Нет, они уже практически истреблены.
— Вот ведь незадача! Если нам и китов-то не уберечь, что мы вообще можем спасти?
— Не знаю, — сказал Сэм.
— Эта планета катится в тартарары, — бурчал пилот, глядя на воду. — Ну а горбатые киты — они ведь тоже поют?
— Поют. — Сэм нагнулся вперед и поцеловал меня в шею. — Горбатые киты поют своим подругам.
— А те их слышат? — удивился пилот. — Несмотря на всю эту воду? Думаю, они часто теряются: океан-то большой.
— Огромный, — согласилась я и погладила Сэма по колену Солнце уже садилось, окрашивая воду в темно-сливовый оттенок. Мне хотелось ощущать спиной колени Сэма, и я опустила кресло назад. Его руки легли мне на плечи. Океан огромен, но не бесконечен, как считали когда-то первые путешественники. Он чем-то напоминает человеческое сердце: оба таинственны и необъяснимы, оба полны опасностей и скрытых трещин, оба незаменимы и поистине бесценны.
«Сессна» сделал крюк и полетела к пустыне, а потом закружила над мощеной посадочной полосой, неожиданно переходившей в песок. За секунду перед посадкой наши жизни вдруг пронеслись у меня перед глазами: как мама танцует в одних чулках в ожидании мистера Креншо и напевает «Такова жизнь», как Элинор и ее пожилые подружки отмеряют муку, растирают масло с сахаром, делят яйца на желтки и белки и запирают на ночь все двери и окна, как Джо-Нелл пересекает границу Техаса и Оклахомы, оставив прежнюю жизнь за спиной, а Минерва парит в облаках и улыбается всем нам сверху. Я увидела и Джексона, как он стоит у доков и думает то ли о лодках, то ли обо мне, а ветер теребит рукав его свитера.
Далее за тысячу миль я слышу (и всегда буду слышать!) стук его сердца. Я слышу шорохи старого дока и скрип уключин. А он все так же неподвижно стоит; его силуэт темнеет на фоне вечерней синевы, словно вода и небо, внезапно сойдясь вместе, слились в эту зыбкую, едва различимую тень.
Примечания
1
Цетолог — специалист по китам.
2
Москит укусил. Понятно? (исп.)
3
Тофу — соевый сыр; готовится путем створаживания соевого молока.
4
Яйца с острыми мексиканскими колбасками (исп).
5
Сеньор Эспай! (исп.)
6
Трагичная (исп.).
7
Телеграф (исп.).
8
Поезд (исп.).
9
Коса, плетение (исп.).
10
Мне очень жаль (исп.).
11
Вы позволите воспользоваться телефоном? (исп.)
12
Да, сеньор (исп.).
13
Сюда (исп.).
14
Яйца по-деревенски (исп.).
15
Будьте любезны, сеньор (исп.).
16
Извините (исп.).
17
Счастливого Рождества! (исп.)
18
Салат «Сочельник» (исп.).
19
Пиньятас — емкости из папье-маше, глины и других материалов, которые начиняют сладостями, а потом, на праздник, разбивают палкой.
20
Добрый вечер. Как поживаете? (исп.)
21
Очень хорошо, спасибо (исп.).
22
Здесь: в номер (исп.).
23
Да? В чем дело? (исп.)